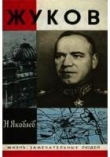Текст книги "Былого слышу шаг"
Автор книги: Егор Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
«Предыдущие строки были написаны 9 ноября 1918 г. В ночь с 9 на 10 получены известия из Германии о начавшейся победоносной революции…
Заключение, которое мне осталось написать к брошюре о Каутском и о пролетарской революции, становится излишним.
Н. Ленин».
10 ноября 1918 г.
Все, как было с последней главой «Государства и революции». А не это ли и рождало силу предвидения: нерасторжимое совмещение жизни Ленина с революционным процессом; такое умение слиться с ним, когда твои дела, твои ритмы работы совпадают с его ритмами, с его вздымающимися волнами…
Но и предвиденье – каким бы ни было оно поразительным – имеет свои границы. Безграничным оно представляется лишь тому, кто мнит себя сверхчеловеком, обнаружив однажды нимб над своей головой… Для меня Ленин больше всего дорог тем, что с безграничной самоотреченностью, непреклонной волей шел к этому будущему, которое умел не только предвидеть, но и отстаивать, приближать его.
Написать седьмую главу «помешал» Октябрь. Но он же – Ленин – готовил революцию, «проделывал» ее опыт, торопил – пора начинать – и встал во главе Октября. Революция в Германии освободила от заключения к брошюре «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Но он же – Ленин – сделал так много, чтобы пример революционной России как можно скорее стал всеобщим примером.
Наметил в «Заметках об организации аппарата управления» шаги, которые надо сделать с победой революции, и совершил их.
III
Кончилась осенняя пора октябрьских дождей. Зима в тот год пришла рано – снег лег в ноябре. «Проснувшись утром, – писал Джон Рид, – мы увидели, что карнизы окон совсем побелели. Снег был такой густой, что в десяти шагах ничего не было видно. Грязь исчезла. Хмурый город вдруг стал ослепительно белым… Несмотря на революцию, с ошеломляющей быстротой увлекавшую Россию в неизвестное и грозное будущее, город встретил первый снег общей радостью. На всех устах была улыбка, люди выбегали на улицу и со смехом ловили мягкие, кружащиеся в воздухе снежинки».
Подошел новый, восемнадцатый год.
Надежда Константиновна предложила Владимиру Ильичу встретить его вместе с рабочими Выборгского района. И Ульяновы отправились в бывшее Михайловское юнкерское училище. «По случаю упразднения дворников никто снег не расчищал…» – рассказывала Крупская. Машина еле пробилась через сугробы. В просторный зал училища вошли уже перед самой полночью.
Играет оркестр, танцует молодежь. Кто постарше – пьют чай с «подушечками». С ними и Ульяновы. Молодая работница подбегает к Владимиру Ильичу – зовет танцевать. «С удовольствием бы, но я не умею», – отвечает смущенно. Четверо ребят поднимают за ножки стул, на котором сидит Владимир Ильич, принимаются качать. «Я подверглась той же участи», – вспоминала с улыбкой Надежда Константиновна…
Простота и естественность нового мира. Все вместе, все надеются, все верят:, будущее, то самое – радостное, счастливое, всемирно благополучное, оно совсем уже рядом, только руку протяни. И подступает – она уже совсем близко – гражданская война, только руку протяни. Кто из этих ребят вернется с нее…
Ясный морозный день, заснеженный город. 1 января – это число было указано в удостоверении на имя рабочего Константина Петровича Иванова. Но отчего все-таки именно на этой фамилии остановился Владимир Ильич. В Разлив привезли не один, а несколько заполненных бланков удостоверений Сестрорецкого завода. Посмотрев их, Ленин выбрал документ на имя Иванова. Сказано же было, и не раз: на Ивановых Россия держится, впрочем, как и на Петровых, Сидоровых.
1 января истек срок действия удостоверения Сестрорецкого завода, и в этот день его обладатель писал по-английски американскому послу Френсису: «Сэр, не будучи в состоянии связаться с Вами по телефону в 2 часа, как было условлено, я пишу, чтобы сообщить Вам, что я был бы рад встретиться с Вами в моем кабинете – Смольный институт, комната 81 – сегодня в 4 часа дня».
Дуайен дипломатического корпуса Френсис намеревался выразить протест по поводу конфликта новой власти с румынским посланником. И они приехали – ровно в четыре – к тому, кто еще так недавно скрывался под именем рабочего Иванова. Полномочные представители Соединенных Штатов Северной Америки, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Дании, Сиама, Китая, Сербии, Португалии, Аргентинской Республики, Греции, Бельгии, Бразилии, Персии, Испании, Нидерландов, Италии и Великобритании. Ленин встретил дипломатов у дверей своего кабинета, пожимая каждому руку. И в это мгновение посол Френсис понял то, что напишет со временем в своих мемуарах: «Ленин торжествовал при мысли, что все эти послы, которые еще вчера отвергали его, идут, чтобы не только протестовать, но и просить». Они уже просили – просили приема у главы пока непризнанного правительства.
Уехали дипломаты, и Ленин торопится на митинг – он собрался в манеже Михайловского училища. Уходит на фронт отряд социалистической армии – она лишь создается, у нее пока нет даже названия. «Приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию… Пусть товарищи, отправляющиеся в окопы, поддержат слабых, утвердят колеблющихся и вдохновят своим личным примером всех уставших», – говорит Владимир Ильич бойцам.
И скорее в Смольный. На восемь часов назначено заседание Совнаркома. В машине вместе с Лениным Мария Ильинична, швейцарский коммунист Фриц Платтен. Отъезжают от манежа, поднимаются на Симеоновский мост. И выстрелы. Один, другой. Пробито переднее стекло, кузов. Платтен резким движением руки наклоняет голову Владимира Ильича. Снова выстрелы. Пуля попадает Платтену в руку…
Совещание Совнаркома началось ровно в восемь. Ленин говорил о событиях дня. Мы создали государство и теперь, естественно, принимаем послов. Революция должна защищать себя – и первый отряд будущей рабоче-крестьянской армии ушел на фронт.
Касаясь происшествия на Симеоновском мосту, заметил: «Что же тут удивительного, что во время революции остаются недовольные и начинают стрелять».
ВЗРЫВ
«По сообщению Всероссийской чрезвычайной комиссии, из Петрограда получены сведения о том, что агенты Колчака, Деникина и союзников пытались. взорвать в Петрограде станцию водопровода. В подвале были обнаружены взрывчатые вещества, а также адская машина, которая была особой командой взята для уничтожения, но преждевременным взрывом убит командир отряда и ранены 10 красноармейцев…
Совет Обороны предписывает призвать к бдительности всех работников Чрезвычайных комиссий и о предпринятых мерах довести до сведения Совета Обороны.
Председатель Совета Обороны В. Ульянов (Ленин)
Написано 1 апреля 1919 г.
Напечатано 2 апреля 1919 г.
в газете «Известия ВЦИК» № 71».
Как развивались события на водопроводной станции? «Что известно о командире отряда особой команды, который погиб от преждевременного взрыва? Кем был он? Как звали его?
Разыскиваю документы в ленинградском архиве Октябрьской революции, листаю газеты того времени в Публичной библиотеке; друзья-журналисты помогли мне встретиться с теми, кто в Петрограде пережил весну девятнадцатого года.
И вот имя… не просто свидетеля, а самого непосредственного участника тех далеких событий. Узнаю адрес. Еду на окраину Ленинграда.
Дом совсем новый, свежей салатной краской покрыты стены, а вдоль улицы поднялись молодые деревья. А убранство квартиры, в которую я вхожу, переносит в былое: старая мебель, на стенах пожелтевшие портреты с тиснеными затейливыми вензелями хозяев фотозаведений. На комоде никелированная металлическая копилка с надписью на крышке: «Накопление – путь к богатству».
В недавно появившемся на свет доме заключено далекое прошлое – иг пожалуй, это во многом отвечает моему состоянию: из нашего сегодня я все больше погружаюсь в минувшее.
…Холодная мартовская ночь навсегда скрыла тех, а быть может, того, кто, минуя патрули, прокрался по набережной, тенью метнулся к воротам, проник незамеченным к машинному отделению и фильтрам, подложил взрывчатку. Когда в предрассветной мгле грохнул взрыв, преступник мог смешаться с прибежавшими на станцию или был уже далеко.
Могло быть так или иначе. Но взрыв произошел. Это случилось 30 марта девятнадцатого года на водопроводной станции Петроградской стороны – Заречной.
«Красная газета» печатала по этому поводу стихи:
Лишить миллионный
город воды
Взрывами водопровода.
Вот их труды,
Врагов революции и народа!
С преступлениями такого
рода
Речь одна —
Стена!
Один разговор —
Смертный приговор!
В эти дни всюду публиковалось предупреждение Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.
«Москва, 1 апреля (РОСТА), от Председателя ВЧК. Ввиду раскрытия заговора, ставившего целью посредством взрывов, порчи железнодорожных путей и пожаров призвать к вооруженному восстанию против Советской власти, ВЧК предупреждает, что всякого рода выступления и призывы будут подавлены без всякой пощады. Во имя спасения от голода Петрограда и Москвы, во имя спасения сотен тысяч невинных жертв ВЧК принуждена будет принять самые суровые меры наказания против тех, кто будет причастен к белогвардейским выступлениям и попыткам вооруженного восстания. Председатель ВЧК Дзержинский».
Петроград в первые годы революции. Английский писатель Герберт Уэллс назвал его городом, погруженным в пучину бед: «Дворцы Петербурга безмолвны и пусты или же нелепо перегорожены фанерой и заставлены столами и пишущими машинками учреждений нового режима, который? отдает все свои силы напряженной борьбе с голодом и интервентами… Поразительно, что цветы до сих продаются и покупаются в этом городе, где большинство оставшихся жителей почти умирают с голоду и вряд ли у кого-нибудь найдется второй костюм или смена изношенного и заплатанного белья».
В этом городе жили люди, они встречались и расходились, познав или не заметив друг друга, радовались, горевали, любили, ненавидели, разочаровывались, увлекались, были счастливы и несчастливы, восторженно воспринимали мир и проклинали его, (совершали благородные поступки и творили мерзости.
Были праздники, и нужны были цветы.
Их подносили новобрачным. «Николай Афанасьевич и Ирина Аникеевна Афанасьевы просят Вас пожаловать на бракосочетание сына их Василия Николаевича с Елизаветой Семеновной Федоровой, имеющего быть в церкви ремесленного училища, а оттуда для поздравлений Петроградская сторона, Саблинская улица № 10, кв. 56». Жених, помощник коменданта третьего подрайона революционной охраны Петроградской стороны, явился на бракосочетание в куртке и галифе из желтой скрипящей кожи. Вася Афанасьев недавно получил этот костюм в благодарность за хорошую службу.
Были похороны, и нужны были цветы.
Их положат на гроб того, кто сохранил от разрушений водопроводную станцию, и на могилу тех, кто расследовал это преступление…
I
На рассвете, по истечении комендантского часа, кого-то отпускали подобру-поздорову, других арестованных увозили под конвоем в Центральную комендатуру либо в Кресты, третьи обживали камеру предварительного заключения. С наступлением утра сменялись чины революционной охраны. Комендант третьего подрайона революционной охраны Петроградской стороны Рудольф Карлович Ленник и его двадцатидвухлетний помощник Вася Афанасьев устраивались на диванах у – себя в кабинетах. Засыпали быстро, поднимались с первым телефонным звонком.
Обязанности комендатуры подрайона – нести службу постовую и патрульную, арестовывать и привлекать к суду за нарушение порядка – по большинству своему исполнялись с наступлением темноты. В течение дня комендант и его помощник готовились к ночи: решали, какие проходные дворы перекрыть засадами, какими маршрутами пустить патрули, где и когда встретиться с агентами, на какие «малины» обрушить облавы.
Днем чины охраны выгребали мусор, мокрыми тряпками стирали серый, как бессонница, налет грязи с широкой мраморной лестницы, ведущей на второй этаж. Окна двухэтажного дома, в котором располагалась комендатура, распахивались настежь – проветривали помещение[18].
Ночью по всем комнатам вновь расползался липкий смрад пивной и вокзала. Ночью в комендатуре кричали, ругались, грозили, бились в истерике и хохотали, требовали, плакали, доказывали, просили. Среди ночи появлялись люди в нижнем платье, потому что верхнее им помогли снять грабители. Чины охраны ехали к месту очередного происшествия – убийство, грабеж, насилие. Грохотал по булыжнику разбитый грузовичок, мотаясь из стороны в сторону светом фар.
В темные предрассветные часы казалось, что дежурную часть распирает от людей. Задержанных было много. И в этой комендатуре, и в других пятидесяти двух подрайонных и четырнадцати районных комендатурах революционной охраны Петрограда. Задержанных было так много, что к рассвету хотелось верить – больше уже и не будет. Но лишь до следующей ночи… И сколько ни устраивай облав, сколько ни воюй с бандитами, не видно конца, пока не подойдет к краю само время, все это породившее. А когда живешь в нем, в этом времени, так и думать некогда, где оно берет начало, а когда наступит конец. Черпаешь бадьей илистый смрад, а он опять подступает, и снова черпаешь, не надеясь дно очистить, а лишь бы самого не засосало.
Была суббота, Лепник и Афанасьев решили усилить патрули, а особых облав в эту ночь не устраивать – в воскресенье работы хватит.
Лепник сидел за массивным столом с распахнутой крышкой бюро. Ростом он был невелик, но зато с лихвой наверстал в плечах. Пышные усы, по-запорожски спускающиеся к подбородку, привлекали внимание, оставляя незаметными землистый цвет лица, густую сеть морщин, изрезавших лоб и щеки. Одет Лепник был в старый китель, из-под расстегнутого ворота выглядывала черная ситцевая рубаха.
Василий Афанасьев стоял, опершись о край открытого бюро. Худой, узкий в плечах, с резко очерченной талией, он был весь устремлен вверх. Мягкие светлые волосы распадались на прямой пробор, яркий румянец, который не могли стравить ни бессонница, ни голодуха, – все это вызывало желание у тех, кто встречал помощника коменданта, называть его не иначе, как Васенькой. Не прибавлял солидности помощнику коменданта и костюм из желтой кожи. Был он таким новеньким, таким скрипящим, что Афанасьев казался в нем еще моложе.
– Нынче ночью у меня встреча была, – сказал Лепник, – агент клянется, что в воскресенье нас на святых выведет. Полюбился цм, видно, наш подрайон.
– Сами и возьмем троицу, – загорелся Василий. – Вот шуму по городу пойдет – святых поймали. Рудольф Карлович, облава будет – пошлите меня.
Тройку налетчиков – Матроса, Заломаева и Верочку-девочку в комендатурах города называли не иначе как святой троицей: гонялись за ними скоро уже месяц, а поймать никак не могли. Бандиты напоминали о себе, совершая один грабеж за другим, зверски разделываясь со своими жертвами. Последний налет они совершили недалеко от комендатуры 3-го подрайона. Раненый старик – хозяин квартиры – рассказал Афанасьеву, как ворвались к нему бандиты, стали требовать деньги. А когда получили то немногое, что было, – не поверили. Девчонка, которая была с двумя налетчиками, на глазах у старика прострелила руку его жене. Денег все равно не оказалось, и тогда бандиты застрелили старуху. Выстрелили и в старика. Одет он был в толстый ватник – это и спасло от смерти.
– Таких бандитов коменданту брать положено, – ответил Лепник, протягивая руку, чтобы захлопнуть бюро. – Вот что, Афанасьев, шагай-ка ты домой, пока жена о пропаже не заявила… Ночь без тебя отдежурю.
Недавняя женитьба Афанасьева, постоянная разлука, «в которой пребывали – молодожены, – опять четвертые сутки пошли, как помощник коменданта домой не заглядывал, – все это было поводом для бесконечных ухмылок: в брак вступал по-старорежимному – (в церкви венчался, а супружеские обязанности сполняет по-граждански, жена уж и обличье мужа небось позабыла, как бы с другим помощником не спутала.
Наслушавшись подобных шуток, Рудольф Карлович предпочитал помалкивать о своей недавней женитьбе: и месяца не прошло, как перетащил холостяцкие пожитки на Васильевский остров. Впрочем, такое долго не скроешь. Всякий раз, отлучаясь из комендатуры, он называет дежурному свой новый адрес. К тому же вызывали на днях в Центральную комендатуру, велели анкету заполнить[19]. На этот раз в графе – семейное положение вместо привычного «холост» Рудольф Карлович написал – «женат». Не сегодня, так завтра станет об этом известно и в подрайоне.
Завтра – это воскресенье 30 марта 1919 года. И другого завтра у коменданта подрайона уже не будет, оно последнее. Что делали, как поступали бы люди, будь им наперед известно, сколько осталось им в жизни лет, дней, минут?..
– Тебе костюм твой нынче нужен? – нарочито безразличным тоном спросил Лепник.
– А что? – насторожился Афанасьев.
Во время разговора комендант поглядывал на кожаный костюм как-то недовольно, словно не одобряя, и Вася это заметил. «Чего ему недовольным быть, костюм я за примерную службу получил не в этом подрайоне, а в другом – Рудольфу Карловичу не на что обижаться».
– Тебе не потребуется, так мне до воскресенья оставь. Ночью поеду посты проверять, если все спокойно будет, так, может, и загляну здесь к одной…
Одалживать костюм, даже своему начальнику, Васе страсть как не хотелось. Но что поделаешь:
– Возьмите, Рудольф Карлович. Я же все одно его в комендатуре оставляю, домой в нем не хожу.
Афанасьев собрался идти, когда заглянул дежурный, доложил, что прежний комендант просится на прием.
– Опять Василий Никитович пожаловал. Пускай заходит, – распорядился Лепник. – Ну-ка задержись, Афанасьев, посмотри, кто здесь до нас делами заправлял.
Тон, каким были сказаны эти слова, не предвещал ничего хорошего. И все «равно, увидев Василия Никитовича, Афанасьев невольно поежился: к такому на допрос попасть – врагу не пожелаешь. И дело было не только в разлапистой походке, бычьей шее, лице, на котором все без меры отвалено – нос, губы, подбородок. В каждом движении бывшего коменданта – как в кабинет вошел, как На Лепника взглянул, а Васю просто не заметил – была такая властность, что никто поперек не встань, стенка окажется, так и ее скорее всего башкой пробьет.
– Попрощаться зашел, комендатура, чай, не чужая. В Москву уезжаю, там меня назначение ожидает не в пример питерскому…
Последнюю фразу Василий Никитович так и не закончил, желая, видно, чтобы спросили его, о каком назначении идет речь. Рудольф Карлович, однако, никакого интереса не проявил. Помолчав, посетитель заговорил вновь.
– Слушай, товарищ Лепник, нужен мне документ, что состоял я в революционной охране, был комендантом подрайона.
– Будто мы с тобой прежде не говорили. Я же тебя, Василий Никитович, в центральную комендатуру посылал. А от меня можешь только одного документа дождаться.
– Какого?
Лепник покопался в бумагах, обнаружил папку, сверился с ее содержимым и сказал не торопясь, чеканя каждое слово, словно и правда справку выписывал:
– С 1 августа по 2 октября 1918 года Василий Никитович являлся комендантом 3-го подрайона революционной охраны Петроградской стороны. Уволен за избиение заключенных.
– А без таких подробностей никак не обойдешься? Был комендантом – и дело с концом.
– Совесть не позволяет.
– Вы меня и вправду за контру держите, коль я той сволочи пальцы в двери прищемлял?
– И зубы вышиб.
– Велико ли дело, бандюге ряху намылил.
– Революция нам карающий меч доверила, а вы до мордобоя опускаетесь, – вмешался Вася Афанасьев.
Наконец-то Василий Никитович и его заметил:
– Ты, парень, в театр сходи, там за такие выступления неплохую деньгу отваливают. А здесь-то на кой слова произносить. Вас сюда политику проводить поставили, а вы про совесть толкуете. Да когда же это было, чтобы политика и совесть в дружбе находились? Коль уж до политики дошло – тут для совести и темного уголка не найдется. Совесть! Ты бы лучше у коменданта Крестов расспросил, как он за Охтой приговора в исполнение приводит. Тоже политика – только по ночам и без лишних свидетелей совершается. А коль есть такая, значит, и люди нужны, которые проводить ее умеют, а не только слюни пускать.
Лепник давно уже сжимал кулаки так, что ногти глубоко вошли в мякоть ладоней.
– И нечего тебе кулаки сжимать. Меня бы застрел лил сейчас за милую душу.
– Это уж точно, Василий Никитович. Тебя, если к власти допустить, так ты всю ее под себя подомнешь.
– Вот она, вся ваша справедливость! Я бандиту по зубам съездил, а ты в меня пулю всадить хочешь. Значит, тебе можно, а мне нельзя. А коль так, кому-нибудь дозволено будет и тебя к стенке поставить.
– Напрасно, Василий Никитович, изводить меня взялся. Терплю, терплю, а все до края. Я сюда не с печки спрыгнул, после четырех лет войны пришел.
– Да не стращай меня, не испугаешь. Ладно, давай документ, которым грозился, – уволен, мол, за избиение заключенных.
– На что же тебе такой документ?
– А я почем знаю. Сейчас вроде бы и ни к чему, а все-таки пускай лежит, вдруг когда-нибудь пригодится. Ты и такой документ выдавать не хочешь?
Низко склонившись над столом, Лепник принялся выписывать справку.
II
В подвале особняка Брандта оставался уголь, и дом отапливали. На кухне, в соседней просторной комнате с русской печью – людской было и вовсе тепло.
На кухне повар императорского яхт-клуба, не какой-нибудь там супник, а мастер жаркого, Иван Федорович Торбик готовил суп из селедочных голов.
Одной рукой подсыпая сухие измельченные коренья, Иван Федорович зачерпнул кипящей жидкости. Дуть не стал, а сразу поднес к губам. Он и этот суп готовил по всем правилам, так же тщательно, как, бывало, запекал поросят, начинял индеек черносливом и орехами. Головы селедок хорошо отмокли, не чувствовалось ни пронзительной вони давнишнего посола, ни тяжелого духа застоявшегося подвала. На ложке плавала различимая невооруженным глазом блестка жира.
Было время, когда б он за этой блесткой гонялся: хозяин с хозяйкой жирного не допускали. Было время, да прошло. Теперь хоть бы во сне увидеть косточку мозговую и мяса кусок пожирней. Эх, сварить бы бульон, чтобы духом одним от него сыт был, и вытеснил бы дух этот несъестные запахи, которые от скудности развелись по дому. Да, быстро времена меняются.
Во многих богатых домах служил Торбик. Брали его за мастерство, рассчитывали – за характер. Иван Федорович и в доме Брандта с первого дня повел себя самостоятельно. У миллионера лесопромышленника Василия Эммануиловича Брандта все на широкую ногу было заведено. Рядом с особняком Кшесинской свой дом построил, хоть и не для продажи, а все известно – вместе с меблировкой в четыре миллиона обошелся. В Петергофе – дача-дворец. У хозяйки горничная красавица и у хозяина горничная, только рябая, страшная девка – это уж господские хитрости.
Прислуге щедро платили, ничего не скажешь, но поначалу казалось Ивану Федоровичу, что не приживется он и на этом месте. В первый же день хозяйка послала буфетчика на кухню за поваром, принялась недовольства высказывать:
– Что это, Иван Федорович, вы нам за щи подали? Разве это щи, когда в них картошки нет? Мы такие щи кушать не станем.
– Это и есть щи, а с картошкой-то мещанские. Я, простите, варить их не приучен, – сказал Торбик и уже руки за спину убрал, чтобы передник без промедления отвязать.
В другой раз заказали господа гречневую кашу. Иван Федорович чугун салфеткой обернул и английской булавкой заколол. Снова хозяйка недовольна:
– Отчего это нам гречневую кашу в чугуне принесли?
– А в чем же еще прикажете?
– На блюде хотя бы.
– Гречневая каша тушится в чугуне и в нем же с корочкой на стол подается. Я как положено могу, а иначе увольте.
– Да нет, Иван Федорович, я и сама хочу по-настоящему.
От этого «по-настоящему» Василий Эммануилович аж в лице переменился, так стулом двинул, что на паркете полосы остались.
Хозяйке хотелось на барыню во всем походить, да от кого скроешь, что прежде в кондитерской Дюмона служила. Ей тоже не сладко приходилось, словно на цыпочках ходила, лишь бы мужу не напомнить, что из простых взял… Мало ли что в господской жизни бывало, а теперь все как одуванчик разлетелось.
Скоро уже год, как отбыли господа за границу. Кольца нанизали на браслеты и детям на руки надели. Приглашенный ювелир прямо на руке замки у браслетов запаивал, наверное, чтобы в дороге не сняли.
Чемоданы на телегу рядами укладывали. Три ряда сложили, только ценности одни. А так все дома бросили. Когда с прислугой прощались, говорили, что вернутся скоро. Дом на все замки запирают, а при этом наказывают – имущество их оберегать. Иван Федорович только плечами передернул: не сторож он чужому добру. А швейцар Сарафанов; тот слезу пролил и хозяину в верности поклялся. Он и нынче волком смотрит, как бы господское не попортили.
Сразу после отъезда хозяев появился в особняке представительный мужчина с военной выправкой. Распахнул все двери, ветром прошелся по комнатам, сказал, что дом занимают большевики и будут они жить здесь коммуной. Швейцар Сарафанов аж зашипел от злобы, а Торбик обрадовался: хотелось ему к новой власти приглядеться.
Скарб у жильцов был невелик, переезжали с узлами да деревянными сундучками, старушки тащили в обхват деревенские половики. Всласть позлорадствовал над ними швейцар.
Вскоре Иван Федорович узнал, что главный среди жильцов – мужчина с бородой, тот, что каждое утро проходит через двор, опираясь одной рукой о палочку, а другой прижимая к себе портфель. Был он ни много ни мало городской голова, всем хозяйством Петрограда заведовал[20]. Встретившись с ним, Торбик поклонился. Главный жилец протянул руку:
– Михаил Иванович. Калинин моя фамилия. А как вас величают?.. Слышал я, Иван Федорович, что вы здесь при бывших хозяевах поваром служили. Не хотите ли теперь вместе с нами на равных основаниях в коммуне состоять? Да вы не смущайтесь. В молодости я тоже на кухне служил у баронессы Будберг. Только вашего совершенства не достиг. В кухонных мужиках ходил…
Теперь все в людской обедать стали. И вечерами, как соберутся здесь, начинают о классовом чутье да классовом самосознании толковать. Доказывают друг другу, учеными словами перебрасываются, а никто не объяснит Ивану Федоровичу, отчего это все, происходящее в бывшей империи, ему, Торбику, очень даже по душе, а швейцару Сарафанову – кость в горло. Вместе в прислугах служили, да и положение повара со швейцаром не сравнишь, тому только внешность нужна, в голове хоть картофельный куст расти. А Иван Федорович владеет искусством приготовления пищи, к нему и отношение иное и жалованье повыше. Может быть, Иван Федорович потому новую власть и одобряет, что ему независимость дорога. А Сарафанову на что независимость, если она барыши не приносит.
Иван Федорович достал из самой глубины кухонного стола пузырек, заткнутый обернутой в белую тряпицу пробкой, – свой, заветный пузырек. Плеснул поверх супа постного масла.
Была суббота, и мужчины вернулись пораньше, но все равно затемно, когда детей, как говорила бабушка Котлякова, спать утолкали. Первым появился Иван Ефимович Котляков, а следом – и Михаил Иванович пришел. Калинин еще и пальто снять не успел, как Котляков сразу же с расспросами:
– Михаил Иванович, чего там в Смольном стряслось? Пока мы тебя по городу разыскивали, они раз пять звонили, все тебя требовали.
– Да так, дела, – ответил Калинин вполне определенно, в том смысле, что не имеет желания распространяться на эту тему.
В этот вечер в коммуне был полный сбор. И Торбик заварил по такому случаю морковного чая. Все потянулись вниз, в людскую.
Калинин сидел за общим столом, рядом с женой – Екатериной Ивановной, грел о стакан ладони.
– Сегодня на митинге, – рассказывал Михаил Иванович, – только успел на трибуну подняться, а мне уже кричат: «Нам не речи, не слова, а хлеб давай!» И я им без всяких изысканностей отвечаю: хлеба нет, и я вам его не дам. И не запугивайте меня, все равно не поверю, чтобы хоть один рабочий согласился задержать хлебный маршрут, который на фронт для Красной Армии отправляется…
Считался я когда-то самым мягким человеком – за всю жизнь курицы не зарезал, если нужно было – шел соседа просить. А теперь вот людям, голодным людям отвечаю – голодаете и будете пока голодать, потому что ничего другого не скажешь. Когда идет беспощадная борьба, проникаешься одним сознанием – уничтожить врага, только этим сознанием, а уж уничтоживши, можно приходить в мирное состояние, жизнь налаживать. Да, для налаживания жизни время еще не подоспело, пока бы месяца три-четыре продержаться, тогда и оглянуться можно будет… Какое сегодня число? – спросил вдруг Калинин и, услышав ответ, ни к кому не обращаясь, думая о чем-то своем, произнес: – Значит, завтра будет 30 марта, года девятьсот девятнадцатого, воскресенье…
И снова все почувствовали, что беспокоят Михаила Ивановича какие-то свои мысли, о которых говорить он не хочет или не может.
Котляков взглянул в окно. Ночь прилипла к стеклу. Чтобы заполнить паузу, Иван Ефимович сказал:
– Тревожно нынче в городе, так и прислушиваешься, где выстрелы посыплются, а где свистать начнут.
Калинин будто не слышал его слов.
Через людскую прошествовал швейцар Сарафанов. Борода вперед, ни на кого не смотря, никому не поклонившись. Набрал горячей воды на кухне, и таким же манером – назад. Михаил Иванович усмехнулся ему вслед.
– Когда я в людях служил, был там камердинер Петр Петрович. У него вся камердинерская знать Петербурга собиралась. Копировали они своих господ, ну, просто чудо: хорошие вина пили, светские разговоры вели – все больше о чинах да орденах, карьерами своих хозяев друг перед другом похвалялись. А меня, как не отесанную еще столицей деревенщину, заставляли им прислуживать. Для них весь мир так и строился: они хозяевам свои поклоны бьют, а я должен был им кланяться. На мне, впрочем, все й кончалось – мне никто уж не кланялся. Ох, и гоняли же меня эти камердинеры. Одно слово – холуи… Однако и ими не рождаются.
Оставшись с Михаилом Ивановичем вдвоем, Екатерина Ивановна сразу же спросила:
– Что же у тебя стряслось такое? Я же вижу – сам не свой.
Калинин хитро взглянул на жену, – а ты сама на таком митинге побывай.
– Тебе уж не впервой.
– Завтра в Москве на заседании ВЦИК будут нового председателя выбирать, вместо покойного Якова Михайловича.
– А тебя что тревожит?
– Не говорил я тебе прежде, Ленин думает мою кандидатуру выдвигать.
– Как же ты будешь председателем ВЦИК?
– Подожди, изберут ли еще.
Екатерина Ивановна покосилась на мужа – со мной в прятки не играй.
– Сегодня известие от Ленина пришло: просил мне лично передать, что считает такое решение единственно целесообразным.