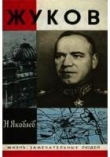Текст книги "Былого слышу шаг"
Автор книги: Егор Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Ленин принимает представителей Туркестанского фронта. По просьбе одного из делегатов, И. Дика, дарит ему свой автограф на листке из блокнота Председателя СНК: «На память товарищу Дику.
В. Ульянов (Ленин)».
Из воспоминаний И. О. Дика
В марте 1920 года, в связи с борьбой против эпидемии на Туркестанском фронте и с другими делами, наша часть стояла в Илецкой – Защите… В один прекрасный день, в конце марта должно быть, РОСТА сообщило, что 22 апреля Владимиру Ильичу исполнится 50 лет. В тот вечер, сообщая моим товарищам содержание полученной оперативной сводки, я добавил также и сообщение о предстоящем юбилее Ленина.
Внимательно выслушав меня, один из красноармейцев нашей команды, плохо говорящий по-русски татарин, всегда молчаливый, человек неграмотный и политически темный, к моему удивлению, вступил в беседу и на ломаном русском языке сказал:
– В Москве сейчас голод, а у нас много хлеба. А Ленин большой человек. Мы должны послать ему много хлеба на его праздник.
…Было решено провести отчисления из пайка красноармейцев, добавить к ним кое-какие «экономии» отдела снабжения и отправить Ильичу ко дню его 50-летия в подарок от имени Туркфронта и гражданских организаций Самары… целый поезд хлеба!
Организация всего этого предприятия была поручена мне. Дело было нелегкое. Скорый поезд Самара – Москва покрывал это расстояние в течение 12, а то и 14 суток. А была уже середина апреля. Но как бы то ни было, хлеб был собран в достаточном количестве. При помощи начальника ВОСО фронта мы организовали специальный поезд, в состав которого вошло 20 вагонов хлеба. Этот поезд мы назвали в честь Ильича «Поездом Ленина», и 19 апреля мы тронулись в путь. На первом вагоне был прибит красный плакат с надписью:
«Красноармейцы Туркфронта – первому красноармейцу революции В. И. Ленину в день его 50-летия».
Политотдел фронта дал мне адрес для вручения Ильичу и в этих целях назначил также и своего представителя.
…Мы встретили немало затруднений в пути. Перед ст. Батраки сгорел паровоз. Не доезжая ст. Инзы, мы потерпели первое крушение. На ст. Ночка мы имели конфликт с заградительным отрядом Наркомпрода, который никак не хотел признать действительным разрешение на провоз продовольствия выше нормы для красноармейской команды поезда, выданное Самарским губпродкомом. Заградительный отряд признал действительным только разрешение Симбирского губпродкома, которому он был подчинен и на территории которого мы находились. Только наличие оружия у нашей команды заставило начальника заградительного отряда облагоразумиться и пустить нас дальше. Перед Рузаевкой наш поезд потерпел второе крушение, при котором было ранено несколько красноармейцев. Я не говорю уже о «буксах». Они горели неимоверно часто, и мы были принуждены перегружать вагоны не менее десяти раз. На ст. Рыбное, где была база Наркомпрода, нас просто не хотели пропустить дальше. Представители этого учреждения хотели «обезличить» наш поезд и переотправить муку по разным нарядам. Мы напрягли все усилия, чтобы убедить представителя Наркомпрода не делать этого. Мы ему показали с десяток бумаг, мандатов, предложений, удостоверений, разрешений Самарского губпродкома, но все напрасно. И здесь наша охрана сыграла решающую роль и спасла поезд.
И все же, несмотря на все эти инциденты, мы вечером 22 апреля 1920 года, в день 50-летия Владимира Ильича, благополучно прибыли в Москву. Но и здесь нас ждала история с «обезличиванием» со стороны Наркомпрода, агенты которого на Казанском вокзале начали уже хозяйничать в нашем поезде.
Я отправился в Наркомпрод… После долгих мытарств по секретарям и секретаршам, после трехчасового ожидания в приемной я попал, наконец, к члену коллегии тов. Халатову, которому изложил суть дела. Он вначале и слышать не хотел о подарке красноармейцев Туркфронта.
– Какие там подарки: это наше и больше ничего! Наркомпрод – диктатор!
Тогда я решил обратиться к Ленину…
Ильич нас принял восклицанием:
– Здравствуйте, товарищи!
Встал, подал нам руку и просил сесть. Я его поздравил с юбилеем и собирался по всем протокольным правилам огласить ему адрес политотдела.
Ильич прищурился, добродушно улыбнулся, сделал широкий жест рукой:
– Не надо, не надо!..
В это время Ильича вызвали по телефону. Я понял, что с ним говорит Халатов. Вначале Ленин не хотел идти навстречу Наркомпроду:
– Потрудитесь сами достать хлеб, а не являться на готовый. Красноармейцы сделали мне подарок, и я хочу распределить его среди голодных пролетарских детей наших центров, которые особенно страдают.
Но так как Халатов был упорен, то в конце концов решили: 10 вагонов торфяникам, 4 – для московских детей, 4 – для петроградских и 2 – для Иваново-Вознесенска.
Ленин председательствует (с 18 часов) на пленарном заседании СТО, делает пометки, записывает фамилии выступающих, вносит дополнения и редактирует проекты постановлений. В повестке дня 17 вопросов.
Ленин председательствует на заседании Совета Народных Комиссаров. Во время обсуждения вопроса о предоставлении права Наркомзему заключать договоры с «Объединенной организацией германских союзов по эмиграции в Советскую Россию» обменивается записками.
Ленин – Милютину[14]:
Нельзя терпеть этой неопределенности ни одного дня. Если кто протестует, тотчас в СНК вносите (иначе Вы виноваты будете).
Взята ли с делегатов-немцев расписка, что им нами объявлено, что мы не гарантируем продовольствия, одежды и жилищ лучше остальных и рядовых рабочих России.
Милютин – Ленину:
Чтобы не было волокиты, надо на Чичерина давление оказать, он мне сказал, что Дзержинский будто бы подал заявление в ЦК. Я могу сегодня же переговорить с Чичериным. Взята ли «расписка»? – С ними заключен договор, я могу текст его завтра Вам доставить.
Ленин – Милютину:
1) С Чичериным обязательно переговорите.
2) Надо Вам проверить, взята ли расписка (взять обязательно или вставить все ее содержание в договор).
ВЕЧЕР
Газета «Коммунистический труд»
Обширный зал Московского комитета переполнен. Но Ленина нет и, говорят, не будет: на 8 часов нарочно созвал заседание Совнаркома. Досадно, так хочется видеть его в этот день.
«Известия ВЦИК»
Мысль отметить день 50-летия В. И. Ленина дружеской беседой в тесной партийной среде возникла первоначально в группе партийных работников и журналистов. Московский комитет одобрил мысль, и первоначально предполагалось организовать интимное чествование тов. Ленина в «Доме Печати». Но число желавших попасть на этот вечер было слишком велико, и Московский комитет решил устроить коммунистический вечер в поместительном зале Комитета на Дмитровке.
К 8-ми часам вечера зал был переполнен исключительно партийными работниками из районов и центра. Просто, но со вкусом декорированный зал, оживленные лица товарищей, непринужденная дружеская атмосфера.
На эстраде Московский комитет, члены ЦК партии и ВЦИК.
Тов. Мясников открыл собрание от имени Московского комитета…
Мясников. Товарищи, этот вечер мы устраиваем в честь 50-летия со дня рождения т. Ленина, посвящаем этот вечер главным образом воспоминаниям партийных товарищей. В. настоящий момент, когда мы продолжаем вести нашу борьбу за лучшее будущее рабочего класса, в этой борьбе мы хотим вспомнить прошлые годы, подобно бойцам, вспомнить те битвы, где вместе шли бойцы со своим вождем и под его руководством. Да здравствует т. Ленин, да здравствует наша великая партия.
С прекрасной, полной живого чувства и особой выразительности речью выступил приехавший в Москву тов. Горький.
Горький. Товарищи, есть люди, значение которых как-то не объемлется человеческим словом. Русская история, к сожалению, бедна такими людьми. Западная Европа знает их. Вот, например, Христофор Колумб… И мы можем назвать в Западной Европе целый ряд таких людей, – людей, которые как будто играли как бы каким-то рычагом, поворачивая историю в свою сторону. У нас в истории был, я бы сказал – почти был, Петр Великий таким человеком для России.
Вот таким человеком не только для России, а для всего мира, для всей нашей планеты является Владимир Ильич. Я думаю, что, сколько бы ни говорить нам о нем красивых слов, нам не изобразить, не очертить то глубокое значение, которое имеет его работа, которое имеет его энергия, его проникновенный ум для всего человечества, – не только для нас.
И я думаю, что я не найду, хотя и считаюсь художником, слов, которые достаточно ярко очертили бы такую коренастую, такую сильную, огромную фигуру…
Тов. Луначарский в сильной и яркой речи характеризовал Ленина как великого идеалиста, как большое сердце, исполненное веры и любви, как подлинного вождя.
Луначарский. Если прислушаться к тому, что говорят о Владимире Ильиче наши враги и все посторонние люди, то надо сказать, что они довольно хорошо его видят и довольно хорошо чувствуют. Такую большую фигуру трудно не рассмотреть и такую большую фигуру трудно не почувствовать. И если спросите кого-либо из нейтральных людей, как он представляет себе Ленина, он скажет: Ленин – материалист, человек-практик, человек без иллюзии, человек в практической борьбе жестокий, не останавливающийся ни перед чем, человек хитрый, великолепно понимающий всякие выпады и шахматные ходы, которые против него может сделать противник, и понимающий и хорошо отвечающий со своей стороны – это большая сила, и слова, которые сказал Алексей Максимович, будут повторены и другими – сила огромная, практически непосредственная, в самой гуще жизни стоящая.
Между тем, кто знает Ленина ближе, кто дышит одним с ним воздухом, кто живет в одной атмосфере, тот должен сказать, что редко когда земля носила на себе такого идеалиста.
О своем идеале, о своей слепой вере в человека, о своей бесконечной любви к человеку Владимир Ильич никогда не говорит и не любит, когда говорят другие. Он считает, что это вещь, которая сама собой понимается, он об этом так мало думает, только иногда в той или иной его речи, той или другой статье отмечаются слова горячей любви и веры в человека.
После выступления пролетарских поэтов Кириллова и Александровского тов. Ольминский поделился воспоминаниями о старых встречах с тов. Лениным за границей.
Ольминский. …И еще в нем есть черта, которую я наблюдал… Старая «Правда», например, держалась Лениным и петроградским пролетариатом. Она начала выходить в 1912 г. и выходила до самой войны, до 1914 г. Интеллигенция вся тогда ушла от революции, кроме отдельных старых людей, которым приходилось прятаться. Была все больше молодежь там, и вот Ленин к каждому номеру почти посылал по нескольку статей. Молодежь смотрела так, что если статья поступала в редакцию, то редакция может с ней сделать все, что хочет, и самым безбожным образом исправляла эти статьи. Ни один писатель не выдержал бы такой вивисекции. Ленин это выносил. И только один раз получилось от него письмо, где он писал: ну, товарищи, при таких условиях невозможно работать. Это случилось так, что долгое время его статьи не появлялись. Он запросил, почему? а редакция ответила: не появляются потому, что их некогда читать в рукописях. Но следующая же почта принесла новые статьи т. Ленина.
Тов. Ольминский отметил большую роль в жизни Вл. Ильича, которую сыграла его жена Надежда Константиновна, помогавшая тов. Ленину в его великой работе. Зал устроил овацию Н. К. Ульяновой, присутствовавшей на вечере…
Из воспоминаний С. С. Виноградской
Объявили перерыв. Всех пригласили в буфет. Там на длинных плоских блюдах с мелким синим, «английским» узором горкой возвышались бутерброды с кавказским овечьим сыром, украинским салом и астраханским белорыбьим балыком – все, что фронты-победители прислали голодной пролетарской столице.
В толстых стаканах с грубыми гранями зеленого стекла дымился настоящий чай. Его пили с ядовито-яркими, прозрачными леденцами.
Из воспоминаний А. Ф. Мясникова
Когда провели первое отделение, т. е. воспоминания о Ленине, я позвонил ему по телефону и попросил приехать на собрание. Разумеется, он отказался и говорил, что никаких речей о себе слушать не хочет, но когда я ему заявил, что мы его приглашаем на концертное отделение, на котором будут присутствовать его любимые артисты – Шор, Крейн и другие, он тогда рассмеялся, согласился и вскоре был у здания Московского комитета. Мы гурьбой вышли к нему навстречу, окружили его и повели на сцену, а масса собравшихся, неожиданно увидав товарища Ленина, – неожиданно, ибо знала, что он не придет на свое «чествование», – устроила ему самую теплую, дружескую бурную овацию и заставила сказать несколько слов…
Ленин. Товарищи! Я прежде всего, естественно, должен поблагодарить вас за две вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей. Я думаю, что, может быть, таким образом мы постепенно, не сразу, конечно, создадим более подходящий способ для юбилея, чем тот, который практиковался до сих пор…
«Известия ВЦИК»
И, словно стараясь прекратить поток приветствий, в которых все внимание сосредоточено на вожде партии, тов. Ленин заговорил о самой Коммунистической партии и о том особенно ответственном положении, в которое она поставлена своей победой.
Ленин. …Наша партия может теперь, пожалуй, попасть в очень опасное положение, – именно, в положение человека, который зазнался. Это положение довольно глупое, позорное и смешное. Известно, что неудачам и упадку политических партий очень часто предшествовало такое состояние, в котором эти партии имели возможность зазнаться… Поэтому та опасность, на которую нас наводят приведенные слова, должна быть сугубо учтена всеми большевиками порознь и большевиками, как целой политической партией…
Позвольте мне закончить пожеланием, чтобы мы никоим образом не поставили нашу партию в положение зазнавшейся партии.
«Коммунистический труд»
…Музыка. Серьезная, глубокая музыка. Аудитория мало, видно, что понимает по этой части, но слушает с напряжением, думает думу… Хорошо тем, кто ковал оружие революции. Но хорошо и тем, молодым, которые пришли позднее и вместе со стариками несут теперь тяжелую работу. Когда старики уйдут, они эту работу доведут до конца. Пока же… пока работы хватит на всех. С одного красного фронта – на другой, фронта боевого – на фронт трудовой, всюду работа, всюду жизнь. И всюду и везде чувствуется единство этой работы, единство цели и единство руководства.
Из воспоминаний С. С. Виноградской
Ленин сел влево от музыкантов. Рядом с ним сидел известный Добровейн. Откинувшись на спинку стула, сложив руки на груди, слушал Ленин, как Шор, Пинке и Крейн выводили трио Чайковского. Он сидел вполоборота к залу, чуть наклонясь к печально-вдохновенному лицу Добровейна. Временами Ленин ронял неслышное слово, и пианист отвечал ему. Глаза Ленина были задумчиво-сосредоточенными, словно он обдумывал какую-то мысль. Потом они стали напряженными – казалось, Ленин вслушивается во что-то, пытается разобрать невнятное, расслышать неслышимое в разговоре смычков и клавишей. Вот Ленин разнял обе руки и закинул, словно уронил от усталости, одну руку за спинку стула. Лицо его постепенно становилось спокойным, черты теряли твердость.
«Известия ВЦИК»
У всех участников и гостей этого коммунистического вечера в Моск, комитете останется светлое, бодрое и радостное воспоминание о теплой товарищеской атмосфере и великой любви к своему вождю т. Ленину, которая объединяет всех коммунистов.
Ленин – Басину
Прошу Вас, передайте мою благодарность тридцатому полку красных коммунаров Туркестанского фронта за присланные макароны и муку, которые переданы мною детям города Москвы.
Штрихи биографии
ДОСТОИНСТВО
Не многое все-таки знаем мы о личной жизни Владимира Ильича. Что-то, надо полагать, ускользнуло от внимания современников и теперь безвозвратно утрачено. А главное – откуда быть обилию личных эпизодов в жизни человека, который все время был занят борьбой, работой. Тем большего осмысления заслуживают те эпизоды, которые нам известны. Например, «случай с купцом Арефьевым», рассказанный Дмитрием Ильичем Ульяновым.
В начале девяностых годов Ульяновы собираются в Самаре. Владимир Ильич, став помощником присяжного поверенного, выступает в окружном суде. Летом 1892 года вместе с М. Т. Елизаровым он отправляется в Сызрань, намереваясь переправиться оттуда на левый берег Волги, в деревню Бестужевку.
В Сызранском уезде, у села Батраки, купец Арефьев арендовал переправу. Он и хозяйничал здесь. Владелец небольшого пароходика и баржи, купец запрещал лодочникам перевозить пассажиров. Если же запрет нарушали, то пароходик настигал лодку и волок ее силком обратно.
Владимиру Ильичу хотелось поскорее перебраться на другой берег, и он уговорил одного из лодочников отправиться в путь: если Арефьев посмеет вернуть лодку, ему придется отвечать перед судом. Однако все произошло так, как было здесь заведено. Пароходик нагнал лодку, матросы подцепили ее баграми. Владимир Ильич и Елизаров были водворены обратно на пристань. Пришлось дожидаться арефьевской переправы, к тому же еще выслушивать насмешки купца, восседавшего здесь же, на пристани, за самоваром.
«Несомненно, были люди, которые не могли не видеть, что купец действует беззаконно, но не решались или не хотели тягаться с ним по судам, – пишет Д. И. Ульянов. – Одним это было невыгодно с материальной стороны, другие же, предвидя кучу хлопот, судебную волокиту и т. д., по инертности и «русской» лени отказывались от борьбы».
Владимир Ильич подал жалобу, обвиняя Арефьева в самоуправстве – преступлении, за которое по законам того времени полагалось тюремное заключение без права замены его штрафом. Полагаться-то полагалось, но дальше все зависело от настойчивости.
Нетрудно представить себе земского начальника, который прочел жалобу и пожимает плечами: «Видали, сколько досужих господ развелось. Самолюбие взыграло. И не лень ему жалобы сочинять, из Самары в наши края по таким пустякам таскаться…»
Встретившись с господином Ульяновым, который отмахал добрых сто верст, земский начальник взял да и отложил разбор дела: Арефьев не явился в суд, а послал нанятого им защитника Ильина. Было это 15 июня. И во второй раз – 25 сентября – истец отправился домой ни с чем, в суд не пришли ни купец, ни его защитник. Прошло еще время. На дворе давно была осень. Домашние отговаривали Владимира Ильича еще от одной поездки, и все-таки он поехал.
Земскому начальнику некуда было деться. Хоть и с третьего захода, но пришлось рассмотреть жалобу и вынести приговор. Купец Арефьев был водворен на месяц в арестантский дом. Об этом процессе тогда же писала «Самарская газета»: «Господин Ильин всякими способами и изворотами старался выгородить своего клиента. То он доказывал, что матросы сами изловили лодку по своему почину… то утверждал, что приказал не Александр Николаевич, а его брат Сергей Николаевич, то ссылался на распоряжение полиции, которая будто бы сама велела изловить, то… и не перечтешь всех способов защиты, из которых каждый новый побивал все предыдущие».
…Понимаешь отлично всю парадоксальность каких бы то ни было параллелей и все-таки, обращаясь к этой истории, всякий раз испытываешь желание взглянуть на самого себя. Мало ли приходилось сталкиваться на улице, в поезде и магазине, ожидая приема в учреждении, да где еще не случается сталкиваться с ними – людьми, от хамства которых начинает стучать кровь в висках, заходится сердце, деревенеют губы и нет сил унять дрожь в руках. И первая мысль, желание – добиться справедливости, преподать урок уважения к человеку.
Но улеглось дыхание, заговорили, успокоили добрые люди, и сам ты как-то обмяк – стоит ли связываться, себе дороже, всех не научишь… А если и свяжешься, то не раз придется выслушать диагноз своей болезни: повышенное самолюбие, гипертрофированное «я». И начинает уже казаться, что чувство собственного достоинства – беда, а вот отсутствие его – благо: и самому и окружающим спокойней. Кажется так, пока не нарвешься да очередного хама, который начисто лишен того, что задевает в тебе, – чувства собственного достоинства…
Вернемся, однако к тому, что произошло на сызранской пристани в конце прошлого века. Против зарвавшегося купца выступил человек, для которого российское самодурство отнюдь не было «новостью. К помощи законов прибегнул тот, кому глубоко омерзительны были не только эти законы, но и все государственное устройство, ими охраняемое. Препровождение купца Арефьева в арестантский дом, выступление «Самарской газеты» конечно же произвело неизгладимое впечатление на самарского обывателя. Но был ли смысл отдавать этому делу столько времени, так много сил, коль уже созрело решение посвятить их без остатка революционному переустройству всей жизни? В чем же тогда значение этого эпизода, как подступиться к его осмыслению?
А быть может, мы неточны в самой посылке? Стремимся взглянуть на этот эпизод, исходя из предназначения всей жизни Владимира Ильича, стараемся совместить эту историю с революционной деятельностью Ленина. Между тем купец Арефьев не был и не мог быть политическим оппонентом. Он посмел задеть человеческое достоинство Ульянова. И Владимир Ильич выступает здесь гражданином, поднявшимся на защиту именно своего, именно собственного достоинства.
Хорошенько проучить самодура, хама, кого-то им подобного, – это еще не цель: горбатого, скорее всего, могила исправит. Наказать любого из них необходимо для самого себя, для сохранения своих нравственных принципов, для того, чтобы не потерять уважения к себе. И надо действовать, отстаивая собственное «я», если хотите, добиваясь личного удовлетворения. Действия эти не могут приноситься в жертву долгосрочным задачам стратегии и тактики ведомой тобою борьбы, иначе принесешь в жертву самого себя. Может ли сохранить личное достоинство тот, кто откладывает его защиту до лучших времен, ожидая стечения благоприятных обстоятельств, а с наступлением их принимается за розыски былых обидчиков? Нет, все это скорее походит на сведение счетов.
Отстаивать свое достоинство приходится в тех условиях, в которых был нанесен ему ущерб. Продолжая эту мысль, можно сказать, что талант гражданина как раз и измеряется умением действовать с максимальным эффектом в том времени, которое выпало на его долю.
А случается – и чувство собственного достоинства оберегает нас от обид, как бы защищает от них. В жизни бывают поступки, всей душой реагировать на которые было бы прежде всего неуважением к самому себе. И когда красноармеец из Царицына пишет в Москву, что его невеста арестована за то, что разрисовала портрет Ленина, Владимир Ильич требует немедленно освободить арестованную, а когда будут получены объяснения по этой истории, «материал весь потом отдать фельетонистам».
И, читая книгу А. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», где не обошлось без злобного изображения Ленина, Владимир Ильич спокоен. «Это – книжка озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца», – пишет Ленин, но в ней «есть прямо-таки превосходные вещички», где «с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителей старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России». Владимир Ильич так и назвал свой отзыв – «Талантливая книжка» – он тогда же был опубликован в «Правде».
Чрезвычайно сильно развитое у Ленина чувство собственного достоинства представляется мне некой постоянной величиной в том смысле, что проявление этого чувства сказывалось с одинаковой силой в любые периоды его жизни – хотя один так не походит на другой, – в отношениях с самыми различными людьми.
Владимиру Ильичу было семнадцать, когда случилось несчастье со старшим братом. Спустя годы Ленин вспомнит в разговоре с Надеждой Константиновной о том, как отнеслись в Симбирске к аресту Александра. «Все знакомые отшатнулись от семьи Ульяновых, перестал бывать даже старичок учитель, приходивший раньше постоянно играть по вечерам в шахматы».
Можно презирать мнение мещан, людей трусливых и нечестных; возможно, но это уже труднее, ни в чем не считаться с их мнением; нельзя, однако, не ощущать его давящей, как могильная плита, тяжести.
В эти страшные дни Владимир Ильич был молчалив и сдержан, никому не дано было узнать, что творится у него на душе. И всякий раз, когда заходила речь о брате, говорил спокойно, без оглядки: «Значит, он должен был поступить так, – он не мог поступить иначе».
Ленину тридцать два года, позади сибирская ссылка, он в эмиграции, занят подготовкой II съезда партии. Плеханов дает замечания на статью Ленина. Замечания, которые, по мнению Владимира Ильича, носят намеренно оскорбительный тон. И он пишет в ответ: «Автор замечаний напоминает мне того кучера, который думает, что для того, чтобы хорошо править, надо почаще и посильнее дергать лошадей. Я, конечно, не больше «лошади», одной из лошадей, при кучере – Плеханове, но бывает ведь, что даже самая задерганная лошадь сбрасывает не в меру ретивого кучера».
Так писал Владимир Ильич в 1902 году, не подозревая еще, что время и станет самым убедительным подтверждением справедливости сказанного. Авторитет, который не считается ни с достоинством, ни с мнением других людей, – авторитет этот на пути к своему крушению.
И еще документ – один из самых последних, продиктованный Владимиром Ильичем ранней весной 1923 года, в канун необратимого приступа болезни. Письмо адресовано И. В. Сталину, который позволил себе грубость по отношению к Надежде Константиновне Крупской. И Владимир Ильич заявляет: «Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».
«Я не намерен забывать… Прошу взвесить… взять сказанное назад… предпочитаете порвать между нами отношения». Всю свою жизнь Владимир Ильич утверждал новое – в революционной борьбе и социальной действительности, в российском календаре и правописании русского языка. А вот это сугубо личное Письмо выдержано как бы в старомодном тоне, – нет, оно написано в том неизменном тоне, к которому прибегали в прошлом веке и прибегают ныне уважающие себя люди, посчитавшие необходимым раз и навсегда выяснить отношения.
Строки письма еще раз подтверждают, что уважение к самому себе, личное достоинство не должно подвергаться ни новациям, ни веяниям времени. Величина постоянная. И в 1923 году Владимир Ильич защищает свое достоинство точно так же, как делал это двадцать и тридцать лет назад.
Приходится слышать порой, что у того или другого человека излишне развито чувство собственного достоинства. Заметим между прочим, что тех, у кого оно отсутствует, мы обычно жалеем, а вот об излишнем, на наш взгляд, самоуважении говорим чаще всего с осуждением. Кому вообще дано заниматься здесь нормированием, да и с чем сравнивать, чтобы сделать вывод – излишне или в самый раз? Наконец, что худого в том, если это качество характера постоянно дает себя знать? Мне кажется, что именно оно не только определяет во многом благородство поступков и убеждений, но делает благородство не сезонным, а органически присущим образу жизни каждого из нас. Вспомним о той же скромности. Она диктуется прежде всего уважением к самому себе: допустить нескромность – это утратить стыд перед самим собой. А взаимоотношения с людьми? Можно ли ждать добра от человека, который махнул рукой на себя?
…Писательница Софья Виноградская вспоминает эпизод, свидетельницей которого была в двадцатом году, на концерте Шаляпина в Большом театре. Концерт едва не начался, когда в шестом ряду партера кресло занял Владимир Ильич. И все пришло в движение, по залу понеслось: «Ленин в театре!» Шаляпин уже выходил на сцену. «И вдруг… – отступил, стремительно подался назад, словно его отбросило ударом. Это звуковая волна: «Ле-е-ени-и-нин» – достигла певца». И в тот же миг кресло в шестом ряду оказалось пустым. Ленин уходил из зала, наклонив голову, подняв плечи. А вслед ему несся «подлинный ураган приветствий, аплодисментов, оваций, криков восторга… любви», – пишет Виноградская.
Пожалуй, и весь эпизод. А теперь попробуем сверить наши впечатления. Я, например, подумал: придя на концерт, желая отдохнуть, Владимир Ильич не захотел выслушивать приветствия в свой адрес. А вот Мария Ильинична говорила об этой истории совсем иначе.
На следующее утро Виноградская пришла в редакцию «Правды» и разговорилась с Марией Ильиничной. Ульянова была расстроена тем, что произошло в Большом театре:
– Ильич вернулся домой взбешенный. «Наша публика, – сказал он, – совершенно не умеет вести себя в концерте. Идут слушать Шаляпина, а устраивают овации Ленину… Это – неуважение к артисту!»
Понять и разделить чувство достоинства в другом человеке возможно лишь через уважение к самому себе.
Репортаж из года восемнадцатого
ОТДЫХ
Квартира, прямо скажем, оставляла желать лучшего: высоченные холодные своды, длинные казенные коридоры, тесноватые, к тому же проходные комнаты; однако Ульяновы жили, не жаловались.
Зимними вечерами собирались на кухне, поближе к теплому еще самовару. Из канцелярского шкафа доставалась немудреная разноликая утварь. И все, кто побывал здесь хоть раз в гостях, будут вспоминать, рассказывать, писать, как ужинали черным хлебом и сыром; как нашлась для дорогого гостя заветная баночка варенья; как ладили бутерброды по рецепту Владимира Ильича: кусочек черного хлеба, совсем чуть варенья, а сверху ломтик сыра – объедение, да и только; не забудут и о том, что при появлении даже одного гостя обнаруживалась нехватка чайных ложек. Ели не на фарфоре, разносолов не знали, – правда, садились всякий раз за стол, покрытый скатертью и непременно с крахмальными салфетками, – уж не от дома ли в Симбирске, не от Марии Александровны утвердился этот порядок?
«Жили просто, это правда. Но разве радость жизни в том, чтобы сытно и роскошно жить?» – писала Н. К. Крупская, вспоминая былое…
Привычная мысль: квартира, ее обстановка – все это говорит об индивидуальности хозяев, их вкусах, привычках. А если вещи, расставленные по комнатам, просты и неприметны, ничем не смягчена их откровенная целесообразность? Да и те вещи, которые есть, скорее всего, гости в доме: появились, когда сказалась в них необходимость, с ними не связаны семейные предания, нет у них истории и на день больше той, которая началась, как внесли их сюда. О чем же может рассказать такая квартира? Наверное, о том, что быт семьи определяли не вещи, а сами люди, их отношения.