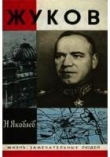Текст книги "Былого слышу шаг"
Автор книги: Егор Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Это была семья, где все и много работали. «…Ильич настоял, чтобы я стала работать на просвещенческом фронте, – писала Надежда Константиновна. – Работа захватывала меня целиком, и еще больше захватывала бурно кипевшая жизнь…» Надежда Константиновна весь день проводила в Наркомпросе, если и работала дома, то по утрам, чаще всего поднимаясь до зари.
А Владимир Ильич предпочитал трудиться ночами. Напишет страницу – и надолго задумается, поднимется и быстро ходит из угла в угол. Пол в комнате поскрипывал – это сбивало с мысли и беспокоило домочадцев. А вообще-то его комната – самая небольшая в квартире – вытянута, будто пенал, и проходная. Но переехать в другую ни за что не соглашался…
До позднего часа работала и Мария Ильинична. Приносила с собой из редакции «Правды» кипы гранок, пачки писем. Сама печатала на машинке, но лишь когда не было дома Владимира Ильича: боялась помешать брату.
Они любили бывать вместе, пользовались для этого каждой возможностью. Собирались, например, к обеду. Первым приходил обычно Владимир Ильич – ему было ближе всех, – звонил в Наркомпрос Надежде Константиновне, в редакцию «Правды» – поторапливал Марию Ильиничну – Маняшу, как звал обычно младшую сестру.
Вспоминая о том времени, Б. М. Кедров рассказывал: «Помните, я говорил, что работал с Марией Ильиничной в одной комнате; если Мария Ильинична выходила, то отвечал на телефонные звонки. Как-то беру трубку и слышу: «Можно попросить Марию Ильиничну?» Как будто бы голос Владимира Ильича. У нас, замечу я вам, не было принято задавать вопрос: «Кто спрашивает?» Кого просят, того и надо позвать. Но в этот раз я взял и спросил. «Скажите, что брат». Брат – значит, Ленин. Я побежал: «Мария Ильинична, Мария Ильинична, вас Владимир Ильич к телефону!» Владимир Ильич беспокоился, отчего задерживается к обеду Мария Ильинична, – они с Надеждой Константиновной ждали ее…
По служебным делам Ленина соединял, очевидно, секретарь. А когда звонил по личному делу, то сам брал трубку, хотя получить нужный номер в тех условиях было не так-то просто. Сперва дожидались, когда откликнется телефонистка и скажет «тридцать шесть», после того надо было назвать номер; барышня его повторит и скажет «Готово». А может быть, и не готово. В общем, целая процедура…»
Бывали и семейные вечера. «Пожалуйте в столовую, будем пить чай», – звал обычно Владимир Ильич. Заходила старшая сестра – Анна Ильинична, приезжал Дмитрий Ильич. Так собрались они вместе осенним вечером 1920 года. Прибежала и любимица Владимира Ильича сибирская кошка, которая, как писала Клара Цеткин, напоминала ей Мими – кошку Розы Люксембург. Семья сфотографировалась в тот вечер – единственная фотография Ульяновых после победы революции…
Комната Крупской была самая крайняя, дальше других отстояла от прихожей, а потому и наиболее тихая. Двадцать с лишним лет жизни Надежды Константиновны прошли в этой комнате. Здесь, подле окна, за миниатюрным письменным столом, лишь простившись с Владимиром Ильичем, писала близким ей людям.
Горькому: «Дорогой Алексей Максимович, похоронили мы вчера Владимира Ильича. Он был до самой смерти таким, каким и раньше, – человеком громадной воли, владевшим собой, смеявшимся и шутившим еще накануне смерти, нежно заботившимся о других…
Раз он очень взволновался, когда прочитал в газете о том, что Вы больны. Все спрашивал взволнованно: «что, что?»…»
Инне Арманд – дочери Инессы Федоровны: «Милая, родная моя Иночка, схоронили мы Владимира Ильича вчера. Хворал он недолго последний раз…
Мы на время остаемся в Горках. Я взялась составлять из его сочинений популярную брошюру – сборник самого важного и существенного, что он сказал, – и взялась уже за работу. Кажется мне, что сборник у меня выйдет. Потом буду помогать разбирать материал в Институте Ленина, писать о пережитом. Сейчас больше всего хочется думать о Влад. Ильиче, об его работе, читать его.
Но надо будет и другую работу делать».
Вставала в пять утра, успевала написать несколько страниц воспоминаний, прежде чем бралась за другую работу – редактировала журналы, отвечала на письма, занималась своими постоянными педагогическими делами.
На книжной полке – тридцать красных томов – то давнее, третье издание сочинений Владимира Ильича. Первый том появился в 1928 году. Его раскрыла Надежда Константиновна, двинулась глазами по строкам; они больше фотографий и воспоминаний – тогда их много публиковали – возвращали живого Владимира Ильича, его голос, его взгляд, его улыбку, его гнев. «Иногда теперь, много лет спустя, – делилась Крупская, – перечитывая статьи Владимира Ильича, слышишь интонацию, с которой он сказал в разговоре ту или иную фразу, которая потом вошла в его статью…»
Том выходил за томом – они были необходимым подспорьем в работе Крупской над (воспоминаниями. И все больше появлялось отчеркнутых мест, все больше закладок в каждой книжке – они и сейчас поднимаются частоколом над ровным обрезом томов. И хочется надолго остаться в этой комнате, открыть книги – по закладкам, отметкам карандаша, словам, написанным на полях, проследить за мыслью Надежды Константиновны. Боязно, однако, и неудобно как-то: в этих закладках и этих пометках – диалог, который вела Надежда Константиновна до конца своих дней с Владимиром Ильичем… Но это же скорее всего был политический, а не личный диалог? А что более личным могло быть для них – более личным, чем та борьба и те надежды, которым отдали жизнь, никогда не страшась угроз и лишений, разрывая с людьми, которые еще вчера были любимы и сегодня еще не стали безразличны…
Долгими вечерами, оставшись одна в комнате, где так часто бывала с Владимиром Ильичем, Надежда Константиновна собирала альбом – очень скромный и очень маленький. Сделает его и станет всегда носить с собой. Невелик был у Крупской запас фотографий Владимира Ильича; какие-то приходилось вырезать из газет, журналов. Вырезала из газеты: Ленин с протянутой рукой, внизу крупными буквами – РКП. Буквы обвела красным карандашом. На обложке альбома – ИЛЬИЧ, и в каждой букве «изображение Владимира Ильича, такое мелкое, какое бывает на контрольных отпечатках с пленки. Здесь и портрет, о котором писала Крупская: «Есть его карточка, снятая в конце августа, незадолго до ранения: он стоит в раздумье, так выглядит он на этой карточке, как после тяжелой болезни».
А портрет Владимира Ильича, который особенно любила Надежда Константиновна, был всегда перед ней – на письменном столе. Крупская наклеила фотографию на свой старый членский билет ВЦИК, послуживший подставкой. Владимир Ильич – в черной барашковой шапке, чуть прищурился.
И такая же фотография, только крупнее, в соседней комнате, над постелью Владимира Ильича, но на этом снимке они вместе с Надеждой Константиновной. И та и другая фотография – выкадровка из снимка, сделанного в деревне Кашино в день открытия здесь сельской электростанции… Один из очень немногих дней после победы революции, который весь – от начала до позднего вечера – Надежда Константиновна и Владимир Ильич провели вместе. Ранним утром отправились на машине в Волоколамский уезд, в Кашино; приехали, ходили по сельским улочкам, обедали с крестьянами, беседовали с ними; наконец, выполняя просьбу уездного фотографа Феофанова, присели в центре большой группы жителей Кашино. И появилась фотография: лица тех, кто запечатлен на ней, – эпоха, последующая судьба каждого из них – история страны… Добрую память должен был оставить этот день, если так полюбилась кашинская фотография в семье Ульяновых…
Все это, однако, будет позже. А в среду 25 сентября 1918 года, спустя восемь дней, как приступил к работе после ранения Владимир Ильич, Ульяновы были заняты сборами в дорогу. Стояли, наверное, незакрытые чемоданы, появлялись все новые узелки. Владимир Ильич, только что вернувшийся из кабинета, шутил, а быть может, и несколько раздражался: вся жизнь в переездах, а обходиться минимумом так и не научились. Очень устал он за эти восемь дней, неожиданно и быстро устал.
Ничего особенного между тем, казалось бы, не происходило. Вышел на работу, а телеграммы с выражением соболезнования по поводу ранения все еще продолжали поступать. И приходилось отвечать, вместо того чтобы заниматься делами. «От души благодарю за приветствия и добрые пожелания и, с своей стороны, желаю всяких успехов в деле социалистического строительства».
Еще во время болезни писал наркому земледелия Середе – это когда он не решился зайти, послушался «переусердствовавших врачей» – писал о Елецком уезде: из 19 волостей, где есть комитеты бедноты, не получено ни одного толкового отчета о сборе излишков хлеба. А хотели уже этот уезд другим в пример поставить. Теперь пришли телеграммы из Ельца – и того хуже, одни общие слова.
«Получил ваши телеграммы.
Невозможно ограничиваться общими и неопределенными выражениями, слишком часто прикрывающими полный неуспех работы. Необходимы еженедельные точные цифры…
Без таких данных все остальное пустая словесность».
Пустая словесность. Сколько же ее до сих пор! Тем радостней, когда встречаешь толковых людей с мест – и дело делают, и знают его, и разумно говорят о нем. Недавно знакомился с документами о главнокомандующем южноуральскими партизанскими отрядами Блюхере – поразительная личность и способнейший военачальник, человек большой судьбы… А в первый же день, как приступил к работе, позвонил Свердлов: «Приехал товарищ из самой гущи деревенской работы. Рассказывает очень много важного. Примете?» Это о Михаиле Ивановиче Санаеве – председателе Сергачского уездного комитета партии. Там, в Сергаче, сама беднота организовала свои комитеты – еще прежде того, как был принят декрет о комбедах. И сумели от кулаков отгородиться…
«В редакцию «Правды»… председатель Сергачского уездного комитета партии (и член исполкома), рассказывает очень интересный материал о классовой борьбе в деревне и комитетах бедноты.
Крайне важно, чтобы именно такой фактический, материал «с мест появился в газете (а то чересчур много «общих» рассуждений). Очень прошу записать со слов товарища и напечатать».
Кажется, черным по белому: «очень прошу», однако записку послал в среду еще на той неделе, а до сих пор не напечатали. Пустой словесности и общих рассуждений после поездок по редакциям Бонч-Бруевича, Ольминского и Лепешинского с категорическим требованием прекратить на страницах газет форменные молебствия за здравие и бесконечные заверения в преданности стало меньше.
На этих днях написал «О характере наших газет». Кому следует, те поймут, что это значит – поменьше политики, поменьше политической трескотни, поменьше интеллигентских рассуждений. Стиль газет, их конкретность – это мерило, зеркало нашей деловитости, нашей работы в центре и на местах – и Советской власти, и партии…
Статья «О характере наших газет» сразу же появилась в «Правде», рассказ же Санаева до сих пор не опубликовали… А устал так, что нет сил звонить в редакцию, выяснять, в чем дело; если просил опубликовать, – наверное, опубликуют. И почему же так устал за эти восемь обычных дней?
Четыре раза председательствовал на заседаниях Совнаркома и выступал на них, наверное, раз пятнадцать, не менее того… Затягивает очередность, вернее, внеочередность, безочередность бесчисленных дел. Декреты, декреты… Об усилении уголовной репрессии за перевозку писем, денег, маловесных посылок помимо почтового ведомства, а следом обсуждается декрет о запрещении вывоза за границу предметов особого художественного и исторического значения, теперь требуются поправки к декрету об отмене выдачи земствам, городам и казачьим войскам вознаграждения за потерю в доходах вследствие введения казенной продажи питья.
Декрет же об обложении сельских хозяйств натуральным налогом практически разрабатывал сам – все положения. Если удастся все это осуществить – будет хлеб, отпадет надобность и в продотрядах, в том, чтобы отнимать излишки. Если, может быть и наверное, что-нибудь не помешает… Да, исторический путь не тротуар Невского проспекта. И все-таки скоро годовщина – первая годовщина социалистической революции. Годовщина! Думали, что и недели не продержатся большевики. Следует кой-кому напомнить об этом, но главное – точно и строго оценить самим: много ли успели за год, к чему стремились и что удалось. Ларин согласился написать об этом брошюру – очень хорошо, если конечно же не занесет его в очередной раз. Главное – побольше фактов, проверенных цифр – так, как написано в удостоверении, выданном Ларину: – «все Народные Комиссариаты, а равно Чрезвычайная комиссия обязаны немедленно доставить все материалы и фактические данные за период с 25 октября 1917 года». Гласность. Воспитывать привычку к гласности.
Между прочим, хотелось бы знать, что напишет в своем отчете уважаемый Анатолий Васильевич Луначарский в связи с декретом о памятниках республики. Много ли успели сделать к годовщине революции? Вот где поистине пустая словесность и общие рассуждения… Беседовал на днях с Виноградовым, уполномоченным по исполнению декрета о памятниках, – одна бестолковщина, никакой конкретности.
«Петроград. Наркому Луначарскому… Сегодня выслушал доклад Виноградова о бюстах и памятниках, возмущен до глубины души; месяцами ничего не делается…»
Все должно делаться без напоминаний. Тогда не будет получаться так, как вышло с Каутским. В пятницу «Правда» опубликовала статью «К. Каутский и Генриетта Роланд-Гольст о большевиках», приводит выдержки из антибольшевистских выступлений Каутского. Несет он позорный вздор, детский лепет, занимается теоретическим опошлением марксизма, а мы не можем как следует и вовремя ответить. В тот же день отправил письма трем полпредам – Берзину в Швейцарию, Воровскому в Скандинавию, Иоффе в Германию:
«Дорогие товарищи!
Сегодняшняя «Правда» привела выдержки из статьи Каутского против большевизма…» Изложил программу действий, но сумеют ли оперативно выполнить? Во всяком случае, на последнюю просьбу – прислать все выступления Каутского о большевиках – откликнутся. Придется этим серьезно заняться…
Но отчего же, почему так устал за эти дни? Выходит, что с ранением не все так просто. Ну хорошо – придется поехать отдохнуть, десять дней на поправку, максимум две недели и конец – надо заниматься делами…
Владимир Ильич сидит за письменным столом в своей комнате. В окно видно здание Румянцевской библиотеки. Щедрая и затейливая лепнина по карнизам наводит на иные мысли, действует успокаивающе.
Решили ехать – значит, ехать, и как можно скорее. Завершить то, что осталось, – и в дорогу. Так, письмо Багаева из Астрахани. Снова выражает соболезнования, негодует. А по делу? Просит приема. Нет, уже не успеть, а поговорить было бы интересно. Нет, не успеть.
«От всей души благодарю Вас за приветствия и добрые пожелания. Извиняюсь, что по нездоровью не могу назначить свидания. Прошу обратиться к тов. Свердлову.
Прошу передать товарищам астраханским казакам мои самые лучшие пожелания и приветствия».
Ленин вновь вглядывается в потемневшее от времени, давно уже не крашенное здание Румянцевской библиотеки. В былые времена оно выглядело лучше – когда приходил по утрам, занимаясь здесь перед ссылкой… Румянцевская библиотека, Румянцевский музей… Ах да, сообщение Борисоглебской ЧК.
«В архиве кн. Волконских, потомков декабриста кн. Волконского, обнаружено много исторических документов, среди которых особо важные: 2 подлинника за подписью Робеспьера и Бонапарта, таковые при сем и препровождаются Вам…» А другие документы передали в библиотеку при местном Коммунистическом клубе. Этим пускай займется Бонч-Бруевич, поблагодарит за сообщения, главное же, чтобы немедленно переслали все документы в Управление делами Совнаркома, а там видно будет, иначе и концов не сыщешь.
Теперь уже все, и надо скорее ехать, пока не появилось что-нибудь новое. Да, звонок в «Правду», когда же наконец опубликуют запись рассказа Санаева о комбедах в Сергаче. Не сумели записать рассказ Санаева? Почему? Так, так… в первый день некому, а на следующий Санаев срочно уехал. Как быть теперь? Вы еще меня об этом спрашиваете…
Надежда Константиновна и Мария Ильинична торопятся уложить последние вещи. Время уже обеденное, а приехать на место надо засветло. Непременно сегодня же – эти всего лишь несколько дней поразительно утомили Владимира Ильича.
Речь о том, как бы устроить отдых Ульяновых, заходила не раз, но присмотреть что-нибудь подходящее так и не собрались. Первые месяцы после переезда в Москву – летом восемнадцатого – отдыхали в общем-то где придется.
Еще в конце весны В. Д. Бонч-Бруевич ездил вместе с И. И. Скворцовым-Степановым в Мальцево-Бродово, бывшее имение доктора Соколова. Скворцов-Степанов был родом из этих мест – они подле известной подмосковной станции Тарасовка. «Нам приглянулась, – вспоминал Бонч-Бруевич, – новая, современная дачная надстройка, возведенная на каменном одноэтажном здании, и мы прикинули, как можно будет здесь расположить Владимира Ильича, Надежду Константиновну и Марию Ильиничну».
В этом же доме расположилась на лето и семья Бонч-Бруевича. Быть может, поэтому Ульяновы считали, что живут на даче у Владимира Дмитриевича; во всяком случае, Мария Ильинична писала: «В начале лета 1918 года, когда встал вопрос о том, где проводить дни отдыха, В. Д. Бонч-Бруевич предложил Владимиру Ильичу ездить к нему на дачу в Тарасовку».
Сперва, казалось бы, все складывалось весьма удачно. Уже в первых числах мая на одном из заседаний Ленин посылает записку Бонч-Бруевичу, в которой обстоятельно выясняет все, что касается дачи: как там дела, можно ли поехать в воскресенье, поехать вдвоем или втроем? И наконец, «можно ли там заставить ждать авто?» Владимир Дмитриевич сразу же ответил: все готово. «Картошку купил. Молоко и творог великолепны, есть и другой продукт».
Расположились, как настоящие дачники, заняв две полупустые комнаты на втором этаже. Надежда Константиновна захватила – с собой подушку-думку, но пользовался ей обычно Владимир Ильич: у Крупской было две подушки и у Марии Ильиничны – две, а у него – одна. Бывало, Крупская шутила: «Опять думку стащил».
Столоваться было решено у Бонч-Бруевича, и Ленин категорически настаивал – жить на равных паях. Владимир Дмитриевич рассказывал, что хозяйствовали из расчета по 17 рублей с человека в день и десять рублей платили шоферу в каждый приезд – сами платили – помимо той зарплаты, которую получал шофер.
Вскопали грядки, посадили овощи. В то лето выдался редкий урожай. Бонч-Бруевич возил овощи корзинами в город, сдавал в кооператив, получая в обмен молочные продукты. Однако Владимир Ильич так и не дождался времени редкого изобилия: поднялся однажды на рассвете и уехал в город.
Когда-то о своем отдыхе писал матери: «Безлюдье и безделье для меня лучше всего». А здесь, на подмосковной даче, неминуемость общений, начинающихся с самого утра, бесконечно долгие чаепития на веранде и нескончаемые разговоры ни о чем, от которых больше устаешь, нежели от тяжких дел. К тому же комары, которых Владимир Ильич просто не переносил. И, проведя в очередной раз ночь без сна, положил конец поездкам в Тарасовку.
Конечно же можно было проводить свободный день в государственных домах отдыха, санаториях. Но они тогда лишь налаживались. И вместо отдыха, как писал позже Владимир Ильич, «получались «анекдоты».
Есть и рассказ очевидца одной из таких поездок, когда действительно все происходило, как в дурном анекдоте. Предложили отдыхать в Звенигородском уезде, в бывшем имении Васильевское, – там губисполком организовал дом отдыха. На этот раз Владимир Ильич отправился, к счастью, без Надежды Константиновны. Дорога дальняя – верст семьдесят от Москвы, причем верст семь по проселку, лесом, а значит, по грязи. Поехали на двух машинах. Ночь, дождь. И как свернули на проселок, начали прыгать по колдобинам, нырять по лужам. Наконец впереди идущая машина ушла в грязь по самый кузов. Вылезли, чтобы тянуть ее, и сами оказались в грязи по колено. Все суетятся, нервничают, кто-то с досадой изрекает: «Мы на ней ехали – теперь она на нас». Взялись за, сучья, благо застряли в лесу, таскал их и Ленин. Наконец выбрались.
К дому подъехали в три утра, когда все спали. Барабанили что было мочи в двери, а когда они открылись наконец, пахнуло затхлой сыростью запущенного, давно не топленного дома. Пекли оладьи на керосинке, раздували самовар. Наконец собрались ложиться спать. Комнат в богатом особняке было множество, всюду стояли монументальные кровати, а вот белья и одеял не оказалось. Это в холодную ночь, когда казалось – все пропиталось дождем…
В конце концов стали в свободный день просто выезжать за город на несколько часов – подышать воздухом, вместо обеда забирали с собой бутерброды. «Ездили в разных направлениях, – писала М. И. Ульянова, – но скоро излюбленным местом Владимира Ильича стал лесок на берегу Москва-реки, около Барвихи. Мы выбирали уединенное место на горке, откуда открывался широкий вид на реку и окрестные поля, и проводили там время до вечера. Товарищ Гиль, шофер Владимира Ильича, со своим авто располагался поблизости – охраны у Владимира Ильича тогда не было. Местечко это мы хорошо изучили и знали уже, какой мостик на проселке, ведущем к нашему «монрепо», выдержит машину».
Прочность мостов устанавливали эмпирическим путем. В первый раз Ленин обратился к крестьянину с вопросом, можно ли здесь проехать на машине. Крестьянин с усмешкой покачал головой и сказал: «Не знаю уж, мост-то ведь, извините за выражение, советский». Ленин потом не раз вспоминал ответ крестьянина – «извините за выражение, советский…».
Разные бывали встречи во время этих поездок. Случалось, машину окружала гурьба белоголовых деревенских ребятишек. «Дяденька, прокати!» – кричали они, как кричит и сегодняшняя детвора. И Ленин просил шофера остановить машину, усаживал ребят. «Другой раз мы возвращались на автомобиле откуда-то с прогулки, – вспоминала Крупская, – надо было проехать под железнодорожным мостом. Навстречу шло стадо коров, довольно невозмутимо относящихся к автомобилям и не уступающих автомобилям дороги, впереди без толку толкались бараны. Пришлось остановиться. Проходивший мимо крестьянин с усмешечкой посмотрел на Ильича и сказал: «А коровам-то подчиняться пришлось».
…Теперь, после покушения на Владимира Ильича, вопрос об отдыхе Ульяновых приходилось решать безотлагательно. На этом настаивали врачи. О прежних поездках Ленина по Подмосковью, когда неизвестен был даже маршрут, которым он отправлялся на прогулку, и речи быть не могло: это противоречило элементарным представлениям о безопасности. Хотели выбрать такое место, искали такой загородный дом, где было бы покойно Владимиру Ильичу, а вместе с этим можно было бы организовать надежную охрану. Одно время думали даже тайно поселить Ленина где-нибудь в деревенской семье, но вскоре стало очевидным, что Владимир Ильич будет непременно узнан.
Помимо удобств и безопасности существовало еще одно условие: все должно быть достаточно скромно. Ни в один из пустующих загородных дворцов, скажем в то же Архангельское, Ленин не поедет, – это было ясно.
Исчерпав весьма обширный список, остановились на имении, которое принадлежало когда-то герою Отечественной войны 1812 года генералу Писареву. Позже дворянскую усадьбу постигла обычная судьба: перешла в руки капиталистов братьев Герасимовых. А затем, уже в начале девятисотых годов, имение приобрел известный текстильный фабрикант Савва Морозов. Взялись перестраивать дом, в парке выкопали два пруда, построили электростанцию и водокачку. После трагической смерти Морозова его вдова преподнесла имение в качестве свадебного подарка своему новому мужу – градоначальнику Москвы генералу Рейнботу. Впрочем, как утверждают знающие люди, она передала ему постройки, а землю не всю – лишь по три сажени от края каждой аллеи, остальное же предусмотрительно оставила за собой.
После революции Рейнбот поторопился эмигрировать, прихватив с собой морозовские капиталы. Впрочем, подобное ему было не впервой – и прежде был судим сенатом за подкуп и растрату.
И в середине сентября восемнадцатого года в бывшее имение Рейнбота приехали Свердлов и Дзержинский. Осмотрели большой дом, два флигеля, парк и одобрили выбор.
Место отдыха Ленина решено было сохранять пока в тайне, и Мальков сам мыл полы, вытаскивал старую рухлядь, приводил дом в порядок. Позже Дзержинский выделил для охраны десять чекистов.
Теперь оставалось последнее – уговорить Владимира Ильича. Сделали и это.
Проехать сюда можно так:
«По Серпуховскому шоссе около 20–23 верст. Проехав железнодорожный мост и затем второй, не железнодорожный, мост по шоссе, взять первый поворот налево (тоже по шоссе, но небольшому, узкому) и доехать до деревни Горкй. (Горки – бывшее имение Рейнбота).
Всего от Москвы верст около 40».
Со временем мосты перестали служить ориентиром, сдвинулась влево лента шоссе. Теперь надо ехать по дороге, ведущей в аэропорт Домодедово, минуя корпуса нового онкологического центра. На полдороге, у современной шоссейной развязки, надо взять правее, и тогда очень скоро увидишь слева тоже шоссе, но небольшое, узкое, защищенное высокими тополями. Вот, пожалуй, и все поправки, которые внесло время в маршрут, так старательно выписанный в свое время Владимиром Ильичем.
Эти холмы, овраги, перелески, привлекательные в той мере, в какой чаруют нас исконно русские пейзажи, и этот дом, ничем не примечательная двухэтажная, обрамленная колоннами по фасаду постройка начала девятнадцатого века, с протянутыми по обе руки флигелями, северным и южным, – все это никогда уже не будет существовать само по себе, а лишь в связи с Лениным. И тенистый парк, сохранивший часть леса, с его лужайками и полевыми цветами, – тем и знаменит, что по краю дорожек проклевывались грибы, которые он собирал. И эта аллея отлична от других потому, что шагал по ней к восточной калитке, отправляясь на охоту. Здесь играл в городки. Тут, встретив одного из знакомых, спрашивал: «Читали, как наши бьют белых? Не читали? Так подождите, я вам сейчас принесу газету». С этой террасы любил смотреть в подзорную трубу. И здесь же, чем-то взволнованный, ходил из угла в угол долгой бессонной ночью, останавливался и снова принимался быстро шагать, а дежурный из охраны пожимал плечами: «Вот уже два часа так ходит, все давно спят, а он ходит». Этой наклонной дорожкой спускался к беседке над прудом. И даже имя бывшего хозяина этих мест, градоначальника Рейнбота, если и упоминается до сих пор в отличие от давным-давно забытых имен сотен градоначальников и тысяч помещиков, то лишь потому, что Ленин отдыхал в его бывшем имении. И немало поэтических строк посвящено этим местам.
«Если от главного дома в Горках свернуть налево, широкая прямая аллея приведет к беседке у обрыва. Отсюда открывается просторный вид на холмистые поля, на рощи, равнины, перелески, деревья, склонившиеся над прудом.
Эту беседку любил Владимир Ильич Ленин в те годы, когда он подолгу жил в Горках. В последние годы своей жизни.
Быть может, высокий откос, чувство пространства и открытого воздуха, уходящие за край небес развернутые дали, крутые, заросшие кустарником склоны – все это напоминало ему Симбирск, «Старый Венец», обрыв к Волге, широкие просторы Заволжья. Недаром в семье Ульяновых беседку и площадку перед обрывом в Горках прозвали «Венцом», – писала Е. Я. Драбкина.
Здесь, под Москвой, он вновь обрел возможность без помех общаться с природой, которую любил, к которой тянулся в бесконечно редкие свободные минуты своей трагически короткой жизни. Томился в эмиграции, вспоминал: «Хорошо бы летом на Волгу!» Писал в письме из Горок: «Липы цветут».
Для каждого из нас, для многих поколений и для истории навсегда стали Горки – Горками Ленинскими.
…Вы бывали здесь осенью? Когда длинноногие березы еще не до конца сбросили свой наряд и грачиные гнезда, большие, словно корзины грибников, надежно скрыты в ветвях; падают листья, сейчас лягут позолотой на зеркало малого пруда, но нет, вдруг поднялись вспугнутой стаей, закружились над большим прудом, ставшим от ночных заморозков вновь прозрачным после летнего цветения. Все еще весело, золотисто и нарядно вокруг, лишь поникла увядающая трава, такой и уйдет под снег и выйдет из-под него пепельно-серой.
В эту пору и приехали первый раз в Горки Владимир Ильич, Надежда Константиновна и Мария Ильинична – под вечер, как вы помните, 25 сентября восемнадцатого года. Ульяновых с неожиданной и несколько комической торжественностью приветствовала охрана; чекисты пока не очень-то представляли, чем следует им заняться: они обратились к Ленину с речью, вручили букет цветов. Все были смущены.
Забегая вперед, скажем, что организовать спокойный и безопасный отдых для Владимира Ильича оказалось и в Горках не просто. В воскресенье и праздничные дни молодежь окружающих деревень с гармониками и песнями направлялась в парк Горок. Одно время даже специально устраивали в других местах игры, гулянье, чтобы отвлечь туда девчат и парней.
Очень скоро многим стало известно, что Ленин живет в Горках. Проезжая в этих местах поездом, можно было услышать в вагоне: «Я только сейчас был у Ленина, вот он там живет, – и рассказчик указывал рукой в сторону Горок. – Шел к нему, думал, что не увижу, думал, что и вблизь не подпустят, а прошел совершенно свободно, прямо к самому дому, где живет Ленин. Никакой охраны, только вдали видел одного красноармейца. Ленин вышел ко мне, поздоровался, сел со мной, выслушал внимательно…»
Выпадали и особенно тревожные моменты. Весной 1920 года случилась беда: на Ходынке стали рваться склады со снарядами. Взрывы были слышны в Горках, с наступлением темноты поднялось пламя над городом. А тут пришло сообщение, что из Москвы за Серпуховскую заставу выехали два неизвестных автомобиля с вооруженными людьми. И чекисты заняли на всю ночь оборону, прислушиваясь, не прозвучит ли вдали шум моторов.
Но Владимир Ильич по-прежнему избегал охраны. Так далеко уходил на прогулки с Надеждой Константиновной, что чекисты волновались, разыскивая их.
Владимир Ильич любил обстановку в кабинете, в своей комнате, в квартире привычную, неменяющуюся, как будто в этом покое вещей – всегда на тех же местах – находил отдых от насыщенной разнообразными и многочисленными событиями жизни. А здесь, в Горках, все было утомляюще внове: изысканная мебель из карельской березы, на каждом шагу венецианские зеркала в золоченых рамах, хрустальные люстры, ковры, зимний сад. В своем кремлевском кабинете, увидев, например, что подле письменного стола расстелили медвежью шкуру, он мог потребовать: немедленно уберите эту роскошь. В Горках же, в этом бывшем барском доме, не позволял ни себе, ни кому другому что-либо менять в обстановке: видел в Горках не свою, пусть и временную, дачу, а государственный санаторий. И спустя уже немало времени, давно привыкнув к Горкам, писал Надежде Константиновне: «…отдыхаем на «нашей» даче по воскресеньям», не забывая при этом заключить в кавычки местоимение, как бы произнося его с улыбкой отрицания.