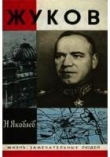Текст книги "Былого слышу шаг"
Автор книги: Егор Яковлев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Владимир Ильич пишет ультиматум от имени большинства ЦК партии меньшинству, требует «категорического ответа в письменной форме на вопрос, обязуется ли меньшинство подчиниться партийной дисциплине…» Вновь вопрос об уставных обязанностях члена партии. Обращается от имени ЦК «Ко всем членам партии и ко всем трудящимся классам России»…
Против соглашателей выступают Петербургский и Московский комитеты. Делегаты всероссийской конференции работниц отправляются к Зиновьеву и Каменеву, приходят «требовать и настаивать, чтобы ушедшие товарищи подчинились партийной дисциплине. Таков голос 80 000 работниц». Выступая в те дни на заседании большевистской фракции Петроградского Совета, рабочий завода Розенкранца С. С. Лобов говорит, обращаясь к Зиновьеву: «Если вы струсили, коленки задрожали, сойдите с дороги, не мешайте движению революции вперед, иначе вы попадете под ноги и будете мешать. Рабочие отступать не будут, а кроме того, и отступать некуда». И речи не может быть о соглашении с меньшевиками и эсерами. Каменев освобожден от поста Председателя ВЦИК. Председателем ВЦИК становится Свердлов.
«Страна ответила громом негодования… – вспоминал Джон Рид. – Народ негодовал на «дезертиров», и это негодование заливало ЦИК. Несколько дней Смольный буквально затоплялся яростными делегациями и целыми комитетами от фронта, от Поволжья, от петроградских заводов».
Отступить пришлось Викжелю. И на этот раз прямое обращение к партии, трудящимся решило дело. Как ни велики были разногласия среди членов ЦК, но теперь все обстояло иначе, чем было накануне вооруженного восстания; революция свершилась, «опыт миллионов» приведен в действие. «Подъем революционного движения помог быстрой ликвидации всего инцидента, – писала Крупская, – а Ильич, всегда говоривший на прогулках о том, что его больше всего волновало в данный момент, ни разу даже не касался этого инцидента, он всецело был поглощен вопросом, как начать теперь стройку социалистического уклада, как провести в жизнь постановления, принятые на II съезде Советов».
Большевики удержали власть. Сумеют сохранить ее и потом, не раз еще выстаивая в самых критических ситуациях. Но отчего же все-таки возникает вопрос: ни одна другая партия не смогла опереться на поддержку населения, не сумела совершить хоть нечто подобное? Были же среди них и те, что именовали себя «марксистскими». За восемь месяцев – со времени Февральской революции и до Октябрьской, до победы большевиков, – у власти побывали представители практически всех других политических партий России. И никому не дано было положить конец кризису, охватившему страну, – приостановить, задержать его на мгновение. Это сделала лишь партия, борющаяся за выполнение требований самых широких масс, располагавшая программой, не только отвечающей этим требованиям, но и выполнение которой зависело от революционной активности рабочих и крестьян.
«Теперь… люди, не принимавшие участия в борьбе, не понимают, как это из того всеобщего хаоса, брожения, бесчисленных толп народа, наполнявших Смольный, заводы, клубные залы, казармы, как будто бы внезапно создалась действительно могущественная власть, сумевшая внести в волнующееся человеческое море порядок и организованность, – писал Невский. – Эти люди не понимают главного, именно того, что мы, партия революционного пролетариата, были выразителями всего многомиллионного народа трудящихся… Каждый рабочий, каждый солдат, все трудящиеся видели и понимали, что мы боремся за власть не для себя, не за свои узкоэгоистические интересы, не за то чтобы самим сладко пить и есть, когда голодают десятки миллионов… Повиновались нам и шли за нами не потому, что мы угрожали тюрьмами, пытками и ссылками, а потому, что мы были выдвинуты этими массами, чтобы покончить и с тюрьмами, и с пытками, и с ссылками».
Полностью, во всем объеме уловить требования рабочих, крестьян, солдат, осмыслить, сделать из них практические выводы – постоянная забота Владимира Ильича. И если это удавалось в какой-то мере другой партии, Ленин обращался к ее материалам. Скрываясь на Сердобольской, прочел обобщенные партией левых эсеров наказы крестьян. В Смольном в часы восстания просил привезти от Фофановой газету, где был опубликован наказ земельным комитетам, составленный на основе 242 наказов местных Советов крестьянских депутатов. Этот наказ и был включен в Декрет о земле. На II съезде Советов это вызвало вопросы из зала, и Ленин ответил: «Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Не все ли равно, кем он составлен, но, как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были несогласны».
В революционном осуществлении требований широких масс видел Ленин душу марксизма. Выступал против тех, кто, называя себя «марксистами», стремились выхолостить учение Маркса. После смерти великих революционеров, писал Владимир Ильич, «делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени… выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие опошляя его».
* * *
«Ограниченье жалов[анья] 500 р[ублями] в м[еся]ц», – написал Ленин уже в конце листа, вместившего «Заметки об организации аппарата управления».
Эта мера – лишь одно направление в том, к чему немедля должен приступить победивший пролетариат, ликвидируя прежнюю армию, полицию, все привилегии чиновничества. Об этом писал Маркс, основываясь на опыте Парижской коммуны. И Ленин в работе «Государство и революция» подчеркивает, что эти простые и «само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму». Эти демократические мероприятия ставят – и престижно и материально – тех, кто занят, как сказали бы теперь, в сфере управления, на уровень рабочих, крестьян, кому и принадлежит новое государство.
В ноябре семнадцатого года во время заседания Совнаркома Владимир Ильич занят проектом постановления «Об окладах высшим служащим и чиновникам», тогда же оно было принято. Опубликованное на страницах «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» постановление называлось «О размерах вознаграждения народных комиссаров, высших служащих и чиновников». Им определялось: «Назначить предельное жалованье народным комиссарам в 500 рублей в месяц бездетным и прибавку в 100 рублей на каждого ребенка…»
Возвращался к этому вопросу Владимир Ильич и позже. Весной восемнадцатого года Председатель Совета Народных Комиссаров объявил строгий выговор управляющему делами Совнаркома Бонч-Бруевичу за повышение жалованья ему, В. Ульянову (Ленину).
История широко известная. Особенно часто обращаются к ней, когда говорят о личной скромности Владимира Ильича; сказано и написано об этом немало. Но не забываем ли мы порой, что контроль за выполнением существующих норм для государственного деятеля, даже если это касается его самого, есть не столько примета личной скромности, сколько требовательность к исполнению действующих законов, понимание, что они останутся таковыми до тех пор, пока обязательны для всех. К тому же и нравственные нормы нашей партии исключают возможность для коммуниста достигнуть такой ступени служебной лестницы, когда принятые для всех порядки стали бы ему не обязательны, а соблюдение их говорит о скромности…
Вернемся же вновь к распоряжению Председателя Совнаркома.
«23 мая 1918 г.
Управляющему делами Совета Народных Комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу
Ввиду невыполнения Вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалованья с 1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и ввиду явной беззаконности этого повышения, произведенного Вами самочинно по соглашению с секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуновым, в прямое нарушение декрета Совета Народных Комиссаров… объявляю Вам строгий выговор.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)».
Итак, два работника Совнаркома самочинно, по своему разумению взяли и увеличили жалованье главе правительства, который непосредственно руководил их работой. Странно. И уж никак не вяжется с той атмосферой, которая всегда складывалась подле Владимира Ильича.
А может быть, этому событию предшествовали какие-нибудь другие, в чем-то и определившие его? В пятом томе «Биографической хроники» читаем: в промежутке между 18 апреля и 23 мая – день, когда было написано распоряжение Председателя СНК, Горбунов докладывает Ленину об изменениях в размерах жалованья – в сторону повышения – наркомам и членам коллегий. Связано это было с ростом индекса цен или, как пишет сам Горбунов, «обесценением денег», за которым и последовало повышение заработной платы служащим… Но декрет о размерах вознаграждения народным комиссарам не отменен, он действует. Горбунов предлагает потребовать от наркомов письменных объяснений. Владимир Ильич не согласен: очевидно, не считает для себя нужным беседовать с наркомами на эту щепетильную тему. Ленин и без того знает, сколь стеснены они в средствах на жизнь. Однако нарушается постановление Совнаркома, и с этим нельзя мириться. Как быть? Узнав, что так же автоматически повышена заработная плата и ему, Ленин с себя и начинает… Объявляет строгий выговор Бонч-Бруевичу. Так же наказывает Горбунова. Наркомы же прочтут распоряжение и сами сделают выводы.
Но и этим еще не исчерпывается история с повышением зарплаты. Цены растут, а постановление Совнаркома было принято полгода назад, размеры жалованья в нем указывались согласно тому времени, й в этой части оно устарело. Ленин тогда же предлагает наркому финансов И. Э. Гукасову рассмотреть вопрос о заработной плате наркомов, членов коллегий, приведя ее в соответствие с уровнем жизни. Пересмотрена была и оплата труда специалистов.
…Те многие ограничения, с которых пришлось начинать строительство нового общества, не были самоцелью и утверждались не во имя социализма, а в противовес тому, что было прежде. Помните мысль Владимира Ильича о том, что эти «само собою понятные» демократические мероприятия служат лишь «мостиком, ведущим от капитализма к социализму». Ленин писал: «Эти мероприятия касаются государственного, чисто политического переустройства общества, но они получают, разумеется, весь свой смысл и значение лишь в связи с осуществляемой или подготовляемой «экспроприацией экспроприаторов…»
Не только сломать прежнюю государственную машину, но и вновь созданная начнет действовать в полную меру сил, лишь преодолев устоявшиеся в самой глубине народной жизни представления о вседозволенности для чиновного лица, о бескрайнем разрыве между, говоря словами Ленина, «начальством» и простыми людьми. Достигается это не в один день и не в один год…
Ленин замечал, как наивен тот, кто полагает, что с победой революции сразу же, в тот же миг, жизнь всех и каждого сделается лучше – этого быть не может. В обществе, тогда лишь завоевавшем себе право стать социалистическим, где каждый отдает по способностям и каждый получает по труду, еще никто по труду не получал. Кто мог рассчитывать на это? Угасающий от недоедания Александр Блок – его встречали на Невском, нес бережно кастрюлю с пшенной кашей? Нарком продовольствия Цюрупа, не справившийся с голодным обмороком на заседании Совнаркома? Рабочий – Иванов, Петров, Сидоров, – выходивший на смену за осьмушку хлеба? Крестьянин – Иванов, Петров, Сидоров, – лишавшийся зерна по требованию продотряда? Миллионы, мучимые голодом, тысячи, приговоренные к смерти сыпной вошью?
Термин «примитивный демократизм» мы употребляем теперь обычно в отрицательном смысле: когда говорим о чем-то наивном в решении серьезных дел, ну прямо ребяческом, есть еще такое словечко – «незрелом».
Во времена революции это понятие представлялось иным. В «Государстве и революции» читаем: «…переход от капитализма к социализму невозможен без известного «возврата» к «примитивному» демократизму…»
Сознание людей изменяется не быстро. В те годы приходилось лишь мечтать о рождении человека будущего – высокообразованного и глубоко гражданственного. Кто, по выражению Ленина, ни слова не возьмет на веру, ни слова не скажет против совести, кому радости духовной жизни, участие в делах своего народа неизмеримо дороже всех материальных соблазнов. Но наступает время – оно нерасторжимо с социальным взрывом, – когда весь дух эпохи заставляет, обязывает, зовет становиться достойней, честнее, чем были бы люди, окажись в других обстоятельствах. Уходит соблазн, сама возможность хоть чем-нибудь да отличиться от других – будь то общий достаток, богатая квартира или загородный дом, наконец, просто уставленный разносолами стол. Рождается гордость, приходит удовлетворение от того, что по полной мере разделяешь жизнь других – своего народа… Перед нами и теперь не меркнет, покоряет и сегодня братское равенство тех, кто вступил в борьбу за общее социальное равенство, чистота их помыслов, благородство отношений.
А жизнь была такой тяжелой, страшной была она.
Стремительно миновали ее дни, люди встречались и расходились, познав или не заметив друг друга, радовались, горевали, любили, ненавидели, разочаровывались, восторженно воспринимали мир и проклинали его, жертвовали собой и убивали других. Благородство помыслов, одержимость веры, радость побед и кровь, мучения, смерти – трагическая драматургия революции. Она делала счастливыми тех, чьим надеждам отвечала, счастливыми вопреки всем лишениям – они были платой за надежды, ее ценой. И неминуемо обрекала на страдания других, кто с молоком матери, с детских безмятежных лет привык к благополучию прежней жизни и не хотел, не мыслил себе иной. Да, их было считанное меньшинство, оттого и считали себя избранными. Теперь «черная», лузгающая семечками масса погружала их в черную бездну дна. Нет, нельзя, невозможно было с этим мириться. Как не мог эмигрант Набоков простить, даже свыкнуться с мыслью, что лакей, всю жизнь прислуживающий его Семье, повел отряд матросов к месту, где были спрятаны фамильные бриллианты.
Но революция масс есть революция – ее не совершают в белых перчатках. Разумеется, не все богато одетые люди были «хищниками-эксплуататорами», как случалось – всех под одну гребенку, – называли их в те времена. Кто-то из них презирал царизм, мечтал о просвещенном будущем России – где оно, это просвещенное будущее? Брали лопаты в руки, нередко впервые в жизни, рыли окопы. Убирали снег, исполняя трудовую повинность, – это в преклонном возрасте, имея безукоризненное образование за плечами. Никто не наживался на их труде: где нет эксплуатации, нет и эксплуатируемых. Но от этого, согласитесь, не становилось легче. Всем кругом домочадцев теснились в одной комнате, а по соседству, в их же квартире, хозяевами располагались те, кто поднялся из подвалов, а прежде были так незаметны. Устраивались в дорогом твоему сердцу кабинете, среди твоих книг, где столько часов было отдано чтению, записям, неторопливым мыслям, и все казалось правильным, достойным, разумным. Пожалуй, из нашей сегодняшней жизни дано скорее ощутить горечь тех переживаний.
Да и в материальных ли только потерях суть. Можно с ними еще было смириться: не вспоминать, собравшись с силами, о тихих вечерах в уютной столовой, где хозяйка, не спеша, разливает серебряной ложкой что-то удивительно вкусное; забыть о золотых запонках, которые заграбастал в грязную ладонь мужичища в обмен на картошку… Но возможно ли – нет, это невероятно, не дано – свыкнуться с враждебной, вечно угрожающей неприязнью победителей, с выматывающей душу неизвестностью: что будет с тобой завтра или уже сегодня, в любую минуту могут поступить, как сочтут нужным, как вздумается. И эти унижения, насмешки, необузданное хамство «черной массы» – она стала властелином всего и вся. Неужели победителям дано смотреть лишь сверху вниз? Разве нельзя хоть немного культурней? Однако победители как раз и протестовали против того, что лишены культуры, но и от этого, согласитесь, не становилось легче.
Даже Горький, так тесно, всей жизнью связанный с революцией, не смог сразу же принять происходящее. Публиковал статьи, справедливым в которых был прежде всего заголовок – «Несвоевременные мысли». Проповедовал, когда шла борьба не на жизнь, а на смерть: именно пролетариат «должен отбросить, как негодное для него, старые навыки отношения к человеку, и именно он должен настойчиво стремиться к раскрепощению и углублению души, вместилища впечатлений бытия».
Позже, встретившись с Владимиром Ильичем, – после революции они не виделись целый год, – Горький рассказал не то историю, не то легенду, поразившую писателя своим трагизмом.
«В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:
– Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!
Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки ее, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили ее отказаться от самоубийства».
Ленин выслушал, поглядывая искоса на Горького, сказал угрюмо: «Если это и выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка революции».
Сказал «выдумано неплохо», почувствовал, как волнует, будоражит эта драма именно писателя. К подобным историям – их ходило тогда немало – еще долго станут тянуться многие перья. И всякий раз, раскрывая одну из таких историй-легенд, раскроется сам художник – в его понимании причин и следствий.
Мог бы стать темой для повествования и эпизод, свидетелем которого оказалась Крупская. Через день после взятия Зимнего его защитники юнкера – их отпустили подобру-поздорову выспаться в казармы – подняли мятеж. «Ранним утром начался бой около находившегося неподалеку от нас Павловского юнкерского училища. Узнав о восстании юнкеров, подавлять его пришли выборгские красногвардейцы, рабочие с выборгских фабрик и заводов. Палили из пушки. Весь наш дом трясся. Обыватели испуганы были насмерть», – рассказывала Надежда Константиновна. И тогда же она вышла из дома. Навстречу ей с криком бросилась знакомая горничная: «Что делают! Сейчас видела: подцепили юнкера на штык, как букашку!»
Сколько шагов успел сделать в жизни тот юнкер? Немного – совсем еще юноша, как наши сыновья. Если и любил, то не узнал усталости от любви. Мечтал, надеялся, не будет этого. Хотел заглянуть в будущее, представить себя взрослым. Нет будущего. Нет ничего. Конец… Отец и мать, если дано им будет пережить и горе, и эту пору, станут хранить все, что связано с памятью сына. И его полочку с книгами стихов – Надсон, Шиллер… Смахивая как-то пыль, мать обнаружит в книге иссохший кленовый лист – невесомый, неприкасаемый, несуществующий, как былое. Кто-то из молодых дачниц уж не в последнее ли мирное лето – ах, как прелестно тогда было – вложил между страниц этот листок. На память… Как же мучительна ее неугасающая боль.
Трагедия человека – не лишь одного, а именно одного – всегда остается трагедией. И чем дальше уносят нас годы от причинных связей минувшего, тем неожиданней, необъяснимей, а значит, и горше высвеченная в складках былых лет беда, несчастье, смерть.
Но существует и общество, его неминуемое для каждого бытие. «Постоянно, через всю гражданскую жизнь каждого человека тянутся исторические комбинации, в которых обязан гражданин отказаться от известной доли своих стремлений, для того, чтобы содействовать осуществлению других своих стремлений, более высоких и важных для общества».
Так писал Н. Г. Чернышевский, не зная пока, что скоро его ожидают гражданская казнь, приговор к семи годам каторги; еще тринадцать лет без приговора – в Вилюйском остроге, и женщина, видавшая его там, станет рассказывать: «За одну ночь, бывало, сколько перемен бывает с ним! То он поет… то хохочет вслух, громко, то говорит сам с собой, то плачет навзрыд! Горько плачет, громко этак! Особенно плачет, бывало, после получения писем от семьи… После таких ночей так расстроится, бывало, что не выходит из своей комнаты, печален, ни с кем не говорит ни слова, запрется и сидит безвыходно».
* * *
Председатель Совнаркома сам составлял проекты декретов, подписывал мандаты, расчертив лист для сводки, заполнял графы: находится вагонов с хлебом в пути… прибыло сегодня… подавать сводку к 12 часам… И постоянно принимал посетителей. Они бывали самыми разными.
Пожалуй, первый из них – рабочий завода «Эриксон» Семенов. На улице ограбили заводского кассира, и нечем было платить рабочим. «Немедленно выдать т. Семенову 500 тысяч рублей для раздачи жалованья рабочим завода «Эриксон». Ленин».
Пришел крестьянин. Перед самым февралем, еще при царе, у него забрали лошадь на военные нужды – обещали вознаграждение. И толкался он уже два месяца, так ничего и не добившись, по канцеляриям Временного правительства. Ленин отправил крестьянина к народному комиссару государственного призрения Коллонтай. Но где найти Александру Михайловну – в прежнем министерстве продолжается саботаж; пометил на всякий случай домашний адрес.
Этот крестьянин и появился на рассвете следующего дня в дверях квартиры, где жила Коллонтай. Протянул ей клочок бумаги с запиской от Владимира Ильича: «Выдайте ему сколько там причитается за лошадь из сумм Госпризрения».
«Первой выдачей из кассы Народного комиссариата государственного призрения была выплата за лошадь, которую царское правительство отняло у крестьянина», – вспоминала Александра Михайловна.
Пришел к Ленину член Петроградского военно-революционного комитета Н. М. Анцелович. В его просьбе Владимир Ильич отказал. Анцеловича посылали в Вологду за хлебом для Петрограда, ему же казалось, что больше принесет пользы на месте. «Вы думаете, что рабочих можно кормить агитацией», – сказал ему Владимир Ильич.
«2 стенографистки для диктовок и диктов[альная] машина…» – пометил Ленин, уже заканчивая свои «Заметки об организации аппарата управления». Подчеркнул «диктовальная машина» как особенно желаемое – так назывался тогда изобретенный Эдисоном фонограф.
Пожалуй, это была единственная из всех тринадцати строк, которую не удалось осуществить сразу же, в первые дни. Рассчитывать на стенографисток и диктовальную машину пока не приходилось. Аппарат Совнаркома начинался с Управления делами, и было в нем поначалу лишь два человека – управляющий Бонч-Бруевич и секретарь Горбунов. Конфисковали где-то пишущую машинку, и, склонившись над ней, Горбунов выстукивал двумя пальцами документы Совнаркома. А когда ему впервые пришлось протоколировать заседание Совета Народных Комиссаров, то совсем оконфузился: «Не имея представления, как нужно вести протоколы, я попытался записать содержание доклада, но, конечно, не поспевал…»
Да, здесь все начиналось с нулевого цикла. «Работали вовсю, – вспоминала Крупская, – но никаких сил не хватало, и Ильичу сплошь и рядом приходилось выполнять самому черновую работу, звонить по телефону и т. д. и т. п. Все было первобытно до крайности».
Кабинетом Владимира Ильича стала комната на третьем этаже Смольного, в его южном крыле. На дверях табличка: «Классная дама», снимать не стали, сохранилась до сих пор. В первой, проходной комнате разместились Бонч-Бруевич и Горбунов. Дальше – кабинет Ленина. Окна его с тыльной стороны здания, к ним тянутся ветви высоко поднявшихся деревьев, видна Нева, Охтинский мост.
Памятку для часовых, которые дежурили у дверей, – «Обязанности часового при Председателе Совета Народных Комиссаров» – Владимир Ильич писал тоже сам: «Не пропускать никого кроме Народных комиссаров (если вестовой не знает их в лицо, то должен требовать билета, т. е. удостоверения от них)… От всех остальных требовать, чтобы они на бумаге записали свое имя и… цель визита… Когда в комнате никого нет, держать дверь приоткрытой, чтобы слышать телефонные звонки…»
Не знаю, какая мебель была у классной дамы. Теперь поставили койку за перегородкой, застелили одеялом из солдатского сукна. Можно здесь отдохнуть, когда нет уже больше сил. А сам кабинет полупустой, оттого и представляется просторным. Внесли массивный письменный стол, поставили так, чтобы удобней падал свет из окон: одним углом – к ним, другим – к перегородке. Сев за стол, Ленин оказывался лицом к перегородке, вполоборота к тем, кто входил в кабинет, мог увидеть их, лишь обернувшись. Не очень-то удобно. Но это же был первый служебный кабинет Владимира Ильича, и сказалась, очевидно, привычка всей жизни. Работать за столом с книгой, пером и бумагой – не представительствовать, не принимать посетителей, беседуя с ними через стол, а работать – значит писать – письменный же стол… И поставить его именно так скорее всего распорядился сам Владимир Ильич.
Кстати, это не всем было понятно. Коллонтай, например, писала: «Совет Народных Комиссаров в первые недели своего существования собирался в Смольном, в третьем этаже, в угловой комнате, которая называлась «кабинетом Ленина». Обстановка заседаний Совнаркома была самая деловая, и даже более чем деловая, недостаточно удобная для работы. Стол Владимира Ильича упирался в стену, над столом низко висела лампочка. Мы, наркомы, сидели вокруг Владимира Ильича и частью за его спиной. Ближе к окнам стоял столик Н. П. Горбунова – секретаря СНК, который вел протокол. Всякий раз, когда Ленин давал кому-нибудь слово или делал указания Горбунову, ему приходилось оборачиваться. Но переставить стол поудобнее никто не подумал…»
Приходишь сегодня в этот первый кабинет Ленина – и не покидает ощущение: чего-то здесь не хватает, такого привычного, необходимого, всегда связанного с Владимиром Ильичем. Да, да, конечно же – почти нет книг. Нет книжных полок, книжных шкафов. Недолго работал здесь Ленин – лишь первые дни революции, а они, пожалуй, были единственным временем во всей жизни Ленина, когда не мог позволить себе и на минуту открыть книгу.
Зато сразу же появились карты. «Тут была масса карт, он был весь окружен картами, – вспоминала А. И. Ульянова-Елизарова, – и я особенно обратила внимание на выражение его лица: он сидел такой бледный и какой-то углубленный, глубоко углубленный, что мне как-то страшно стало за него, и я подумала: «Как же это он с военными делами сможет разобраться?«…Это самое яркое воспоминание у меня осталось, как он сидел и работал над военными картами и как страшно утомлен был».
Линия обороны проходила в предместьях Петрограда – сюда вышел корпус Краснова, поднятый Керенским. Ленин составлял «Набросок правил для служащих» и тогда же, буквально одновременно, подписывал распоряжение: «Приготовиться к выступлению орудий к 10 часам вечера 29.Х». На приказе Военно-революционного комитета – доставить на позиции у Царского Села бензин, артиллерию, полевые телефоны, самокатчиков, саперов для рытья окопов – помечал: «Прошу принять все меры кнемедленномуисполнению». Спешил в штаб Петроградского военного округа, связывался оттуда с Гельсингфорсским Советом депутатов армии, флота и рабочих Финляндии.
Ленин. Есть известия, что войска Керенского подошли и взяли Гатчину, и так как часть петроградских войск утомлена, то настоятельно необходимо самое быстрое и сильное подкрепление.
Гельсингфорс. И еще что?
Ленин. Вместо вопроса «еще что» я ожидал заявления о готовности двинуться и сражаться.
Гельсингфорс. Сколько вам нужно штыков?
Ленин. Нам нужно максимум штыков, но только с людьми верными и готовыми решиться сражаться. Сколько у вас таких людей?
Гельсингфорс. До пяти тысяч. Можно выслать экстренно, которые будут сражаться.
Ленин. Через сколько часов можно ручаться, что они будут в Питере при наибольшей быстроте отправки?
Гельсингфорс. Максимум двадцать четыре часа с данного времени.
Ленин. Я настоятельно прошу от имени правительства Республики немедленно приступить к такой отправке и прошу вас также ответить, знаете ли вы об образовании нового правительства и как оно встречено Советами у вас?
В Гельсингфорсе знали об этом пока лишь из газет… С первых дней – мир и война одновременно. Только что родившееся государство должно было себя защищать.
…Пишешь о тех днях и все время стремишься отделить одно от другого: назначение народных комиссаров и, скажем, наступление на Петроград казаков Краснова; работа Ленина в Смольном и саботаж чиновников бывших министерств, переговоры с Викжелем… Одним взглядом все это не охватить. Но в жизни, на самом деле, все происходило одновременно: и назначения, и мятежи – 27, 28, 29, 30-го – в последние дни Октября, в первые дни Октябрьской революции. «И не мудрено, – писала Крупская, – что, придя поздно ночью за перегородку комнаты, в которой мы с ним жили в Смольном, Ильич все никак не мог заснуть, опять вставал и шел кому-то звонить, давать какие-то неотложные распоряжения, а, заснув наконец, во сне продолжал говорить о делах…»
* * *
Тринадцать строк. Один только лист. Мгновенная, как озарение, запись; она определила на многие десятилетия вперед управление страной. Мы помним слова Горького: Ленин видел настоящее из будущего. Привыкли к мысли – Ленин умел предвидеть. Более того.
Быть может, в Разливе, где была сделана фотография для удостоверения на имя рабочего Константина Петровича Иванова, Владимир Ильич набрасывал план седьмой главы «Государства и революции», последней главы этой книги – «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». В Гельсингфорсе или Выборге, оставаясь в подполье, написал две. первые фразы: «Тема, указанная в названии этой главы, так необъятно велика, что об ней можно и должно писать томы. В настоящей брошюре придется ограничиться, разумеется, только самыми главными уроками опыта, касающимися непосредственно задач пролетариата в революции цо отношению к государственной власти». А следом нетронутая страница, как говорится в комментариях к изданию, «на этом рукопись обрывается»! Не закончил, не успел – «задача пролетариата в революции по отношению к государственной власти» уже решалась на практике. И когда книга увидит свет, в послесловии заметит, что написать седьмую главу «помешал» политический кризис, канун октябрьской революции 1917 года. Такой «помехе» можно только радоваться… Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».
В Горках осенью восемнадцатого годаг еще не поправившись после ранения, занят был брошюрой «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Спешил – торопили надвигающиеся события: «Дела так «ускорились» в Германии, что нельзя отставать и нам». Закончил работу к ноябрьским праздникам, к первой годовщине Октября. Но хотел еще написать заключение. И вновь не успел, опять «помешала» революция. Послесловием к этой работе стало: