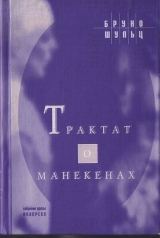
Текст книги "Трактат о манекенах"
Автор книги: Бруно Шульц
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Сейчас, например, там никто уже не предлагает гарцских щеглов, потому что из шарманок наших брюнетов, из изломов и изгибов мелодии через нерегулярные промежутки времени выпархивают эти пернатые метелочки, и рыночная площадь усыпана ими, как цветными буквицами. Ах, что за щебетливое, мерцающее размножение… Вокруг всех выступов, палок и флюгеров возникают настоящие цветастые заторы, трепет крыл и борьба за место. Достаточно высунуть из окна трость, чтобы тут же втянуть ее в комнату, облепленную трепещущей тяжелой гроздью.
И теперь мы стремительным шагом приближаемся в своем повествовании к той великолепной и катастрофической эпохе, которая в нашей биографии носит название гениальной.
И напрасно стали бы мы утверждать, будто не чувствуем уже сейчас то стеснение сердца, то блаженное беспокойство, священную тревогу, какая предшествует бесповоротным событиям. Вскоре в тиглях нам недостанет красок, а в душе сияния, чтобы расставить наивысшие акценты, обрисовать лучезарнейшие и уже трансцендентальные контуры на этом полотне.
Что такое гениальная эпоха и когда была она? Тут мы вынуждены стать на минутку такими же эзотерическими, как синьор Боско из Милана, и понизить голос до проникновенного шепота. Вынуждены подчеркивать наши выводы многозначительными улыбками и, как щепотку соли, растирать кончиками пальцев тонкую материю неуловимых факторов. Не наша вина, что порой мы будем смахивать на продавцов невидимых тканей, демонстрирующих изысканными движениями свой обманный товар.
Так была все-таки гениальная эпоха или не была? Трудно ответить. И да, и нет. Ибо есть вещи, которые полностью, до конца не могут произойти. Слишком велики они, чтобы уместиться в событии, и слишком великолепны. Они лишь пытаются произойти, пробуют почву реальности, выдержит ли она их. И тотчас отступают, боясь утратить свою целостность в убогости осуществления. А если они и напочали свой капитал, утеряли то и это в попытках воплощения, то тут же ревниво отнимают свою собственность, востребывают ее обратно, вновь воссоединяются, и потом в нашей биографии остаются белые пятна, благоуханные стигматы, затерянные серебряные следы босых ангельских стоп, рассеянные по нашим дням и ночам, меж тем как эта полнота великолепия неустанно возрастает, пополняется и кульминирует над нами, превосходя в триумфе восторг за восторгом.
И однако же в определенном смысле она целиком и полностью умещается в каждом своем убогом и фрагментарном воплощении. Тут имеет место феномен представительства и замещающего бытия. Некое событие, что касается его особенностей и собственных средств, может быть крохотным и ничтожным и однако, если поднести его к самому глазу, может открывать внутри себя бесконечную лучистую перспективу, благодаря тому что в нем пытается выразиться и ярко блистает высшее бытие.
Так что мы будем собирать эти намеки, эти земные приближения, эти станции и этапы на дорогах нашей жизни, как осколки разбитого зеркала. Будем собирать по кусочку то, что едино и неразделимо – нашу великую эпоху, гениальную эпоху нашей жизни.
Возможно, напуганные необъятностью трансцендента, в порыве умаления мы чересчур ее ограничили, подвергли сомнению и поколебали. И все же, вопреки всем оговоркам, она была.
Она была, и ничто не отнимет у нас этой уверенности, того просветленного вкуса, который еще сохраняется у нас на языке, того холодного огня на нёбе, того вздоха, широкого, как небосвод, и свежего, как глоток чистого ультрамарина.
Сумели ли мы в определенной степени приуготовить читателя к тому, что наступит, можем ли рискнуть начать путешествие в гениальную эпоху?
Наша дрожь передалась читателю. Мы чувствуем его нервичность. Несмотря на кажущееся оживление, у нас тоже тяжело на сердце, и мы так же полны тревоги.
Итак, во имя Божие, садимся и – в путь!
Гениальная эпоха
1
Обычные факты выстроены во времени, нанизаны на его течение, как на нитку. Там у них свои причины и следствия, которые теснятся, наступая друг другу на пятки без перерывов и промежутков. Это имеет свое значение и для повествования, душой которого является непрерывность и последовательность.
Однако что же делать с событиями, у которых нет своего собственного места во времени, с событиями, которые пришли слишком поздно, когда время уже все было роздано, разделено, разобрано, и вот они остались как бы ни при чем, не классифицированные, повисшие в воздухе, бездомные и бродячие?
Неужели время слишком тесно и не может вместить все события? Неужто может случиться так, что все места во времени окажутся распроданы? Озабоченные, уже готовясь к поездке, мы бежим вдоль поезда событий.
Ради Бога, неужели тут нельзя купить билет во время, так сказать, с переплатой? Пан кондуктор!
Спокойно, спокойно! Мы без излишней паники все негласно уладим в соответствующей сфере деятельности.
Слышал ли читатель что-нибудь о параллельных временных рядах в двухпутном времени? Да, существуют подобные боковые ответвления времени, правда, немножко незаконные и проблематичные, но когда везешь такую контрабанду, как мы, такие сверхкомплектные происшествия, не подлежащие классификации и учету, чересчур разборчивым быть не приходится. Так что попробуем в какой-нибудь точке истории ответвить такой боковой, тупиковый путь, чтобы столкнуть на него эти нелегальные происшествия. Только опять же без опасений. Произойдет это незаметно, читатель не почувствует ни малейшего толчка. Кто знает, быть может, пока мы о том говорим, нечистая эта манипуляция уже произошла, и мы катим по тупиковому пути.
2
Прибежала перепуганная мама и объяла мой крик руками, желая накрыть его, как пожар, и потушить в складках своей любви. Она замкнула мне рот губами и кричала вместе со мной.
Но я оттолкнул ее и, указывая на огненный столп, на золотую балку, что, полная сияния и пляшущих пылинок, косо, как заноза, торчала в воздухе и не давала сдвинуть себя с места, закричал:
– Вырви ее, выдерни!
Печь напыжилась большим красочным богомазом, нарисованным на передней ее стенке, и казалось, он вот-вот вырвется из конвульсии своих жил, сухожилий и всей набухнувшей до предела анатомии ярким петушиным криком.
Я стоял, вдохновенно раскинув руки, и вытянувшимися, удлинившимися пальцами в гневе и безмерном волнении показывал, показывал – дрожа в экстазе и напряженный, как дорожный указатель.
Моя рука вела меня, чужая и бледная, влекла за собой – застывшая восковая рука, подобная тем слепкам рук, что кладут по обету в церкви, – как взнесенная для присяги ангельская длань.
Было это в конце зимы. Дни стояли в лужах, в оттепелях, и на нёбе у них был привкус огня и перца. Блестящие ножи кроили медовую мякоть дня на серебряные пласты, на призмы, которые в разрезе были полны красок и пряной остроты. Но циферблат полдня громоздил на скудном пространстве все сверкание этих дней и указывал все пылающие, огненные часы.
В полуденный этот час день, не в силах вместить в себе жар, лущился серебряными листами, шуршащей фольгой и, сбрасывая слой за слоем, открывал свою сердцевину из литого блеска. Но словно бы этого было мало, дымили трубы, клубился сверкающий пар, и каждая минута взрывалась огромным взлетом ангелов, бурею крыл, которые поглощало несытое, распахнутое для новых взрывов небо. Его светлые палисады рвались белыми султанами, далекие фортеции развеивались тихими веерами многослойных разрывов – под блистающую канонаду незримой артиллерии.
Окно комнаты, залитое до краев небом, полнилось этими бесконечными взлетами и проливалось гардинами, и они, охваченные пламенем, дымящиеся в огне, растекались золотыми тенями и дрожью воздушных слоев. На ковре, переливаясь блеском, лежал косой пылающий четырехугольник и не мог оторваться от пола. Огненный этот столп возмущал меня до глубины души. Завороженный, я стоял, широко расставив ноги, и каким-то не своим голосом облаивал его чужими жесткими проклятиями.
В дверях, ведущих в сени, заламывая руки, стояли перепуганные, растерянные родственники, соседи, принарядившиеся тетушки. Они подходили на цыпочках, заглядывали с любопытством в дверь и отходили. А я кричал.
– Видите, видите! – кричал я матери, брату. – Я всегда говорил вам, что все заграждено, замуровано, невысвобождено! А посмотрите сейчас – какой разлив, какой расцвет всего, какая благодать!
И я плакал от счастья и бессилия.
– Пробудитесь! – кричал я. – Поспешите ко мне с помощью! Разве могу я один справиться с этим разливом, разве могу охватить этот потоп? Как я смогу один ответить на миллион ослепляющих вопросов, которыми Бог затопляет меня?
Но они молчали, и я кричал им в гневе:
– Торопитесь, набирайте полные ведра этого изобилия, делайте запасы!
Но никто не мог мне помочь, они беспомощно стояли, оглядывались, прятались за спины соседей. И тогда я понял, что надо делать; исполненный воодушевления, я принялся вытаскивать из шкафов старые фолианты, заполненные до последней страницы, рассыпающиеся отцовские гроссбухи и швырять их на пол под огненный столп, что лежал на воздухе и пылал. Мне не хватало бумаги. Мама и брат подбегали с охапками старых газет и кучами бросали их на пол. А я, ослепленный блеском, – глаза мои полнились взрывами, ракетами и красками, – сидел среди бумаг и рисовал. В спешке, в панике рисовал на исписанных и запечатанных страницах – вкось, поперек. Мои цветные карандаши вдохновенно летали по колонкам нечитабельных текстов, неслись гениальными каракулями, головоломными зигзагами, свиваясь внезапно анаграммами видений, ребусами сияющих озарений и вновь расплываясь пустыми, слепыми зарницами, разыскивающими след вдохновения.
О эти лучезарные рисунки, что вырастали как бы под чужой рукой, о прозрачные цвета и тени! Как же часто еще и сейчас, после стольких лет, я нахожу их в снах на дне старых ящиков – блистающие и свежие, как утро, еще влажные от первой росы дня – фигуры, пейзажи, лица!
О эта лазурь, холодящая дыхание спазмом испуга, о зелень, что зеленей изумления, о прелюдия и щебет едва лишь предчувствуемых красок, еще только пробующих назвать себя!
Зачем в беззаботности преизобильности я тогда с непонятным легкомыслием растранжирил их? Я позволял соседям копаться, рыться в кучах моих рисунков. Они забирали их целыми пачками. В какие только дома они тогда не попали, на каких только не валялись помойках! Аделя оклеила ими кухню, и она стала такая светлая и красочная, как будто ночью за окнами выпал снег.
Рисование это было исполнено жестокости, засад, нападений. Когда, напряженный, как лук, я, затаившись, недвижно сидел, а вокруг на солнце ярко пылали бумаги, достаточно было, чтобы пригвожденный моим карандашом рисунок чуть шевельнулся, готовясь к побегу. Тотчас рука моя, вся в судорогах новых инстинктов и импульсов, яростно прыгала на него, как кошка, и, уже чуждая, одичалая, хищная, молниеносными укусами насмерть загрызала чудище, которое хотело вырваться из-под карандаша. И отрывалась от бумаги, только когда уже безжизненные и неподвижные останки начинали разлагаться, являя, как в тетрадке гербария, свою многоцветную фантастическую анатомию.
То была смертоубийственная охота, борьба не на жизнь, а на смерть. И кто бы смог отличить нападающего от подвергшегося нападению в этом шипящем от ярости клубке, в этом сплетении, преисполненном визга и ужаса! Случалось, рука моя взметывалась в прыжке дважды и трижды, чтобы настичь жертву где-нибудь на четвертом или пятом листе. И не раз вопила она от боли в клещах и клешнях чудовищ, извивающихся под моим скальпелем.
С часу на час видения стекались все многочисленней, толпились, создавали заторы, и вот в один прекрасный день все дороги и тропы зароились и потекли вереницами, по всему краю разветвились шествия, растеклись растянувшиеся процессии бесконечного паломничества зверей и животных.
Как во времена Ноева ковчега плыли многоцветные шествия, реки шкур и грив, колышащиеся спины и хвосты, головы, безостановочно покачивающиеся в такт шагам.
Моя комната была границей и рогаткой. Здесь они останавливались, толпились, умоляюще мыча. Кружили, тревожно и дико топтались на месте – горбатые и рогатые существа, заключенные во все костюмы и доспехи зоологии, и, перепугавшиеся самих себя, собственного маскарада, они смотрели тревожными, удивленными глазами сквозь отверстия в своих косматых шкурах, жалобно мычали, словно под масками пасти у них были заткнуты кляпами.
Ждали ли они, чтобы я их назвал, разрешил их загадку, которую они не могли постичь? Спрашивали ли у меня свои имена, чтобы войти в них и заполнить своей сущностью? Приходили странные уроды, твари-вопросы, твари-предложения, и мне приходилось кричать и отпихивать их руками.
Они пятились, наклонив голову, глядя на меня из-подо лба, исчезали в самих себе, возвращались, распадаясь, в безымянный хаос, на свалку форм. Сколько ровных и горбатых спин прошло тогда под моей рукой, сколько голов с бархатистой ласковостью проскользнуло под ней!
Тогда я понял, почему животные имеют рога. Это было то непонятное, что не могло уместиться в их жизни, дикий и навязчивый каприз, неразумное, слепое упрямство. Некая идефикс, выросшая за пределы их существа, выше головы, внезапно вынырнувшая на свет, застывшая осязаемой, твердой материей. Там приобрела она дикую, непредвиденную, невероятную форму, завилась фантастической арабеской, пугающей и незримой для их глаз неведомой цифрой, под страхом которой они жили. Я понял, почему эти животные склонны к неразумной и дикой панике, к безумию страха: втянутые в свое помешательство, они не могли выпутаться из лабиринта рогов, между которыми – наклонив голову – грустно и одичало смотрели, словно искали прохода среди их ветвей. Эти рогатые животные были далеки от высвобождения и с тоской и смирением носили на головах стигматы своего помешательства.
Но еще дальше от света были кошки. Их совершенство пугало. Замкнутые в точности и аккуратности своих тел, они не ведали ни ошибок, ни отклонений. На миг они сходили в глубину, на дно своей сущности и тогда замирали внутри мягкой шкуры, становились грозно и торжественно серьезными, а их глаза округлялись, как луны, втягивая взгляд в свои огненные воронки. Но уже через миг, выброшенные на берег, на поверхность, вызевывали свою ничтожность и тщетность, разочарованные, лишенные всяких иллюзий.
В их жизни, исполненной замкнутой в себе грациозности, не было места ни для какой альтернативы. И, пресыщенные в этом узилище совершенства, откуда нет выхода, охваченные сплином, они морщили верхнюю губу, шипели, а их маленькие, расширенные полосами мордочки были полны беспредметной жестокости. Внизу украдкой проскальзывали куницы, хорьки и лисы, воры среди зверей, существа с нечистой совестью. Коварством, интригой, обманом вопреки плану творения они добились места в бытии и, преследуемые ненавистью – вечно под угрозой, вечно настороже, вечно в страхе за это место – яростно любили свою краденую, укрывающуюся по норам жизнь и были готовы, защищая ее, дать разорвать себя на куски.
Наконец все они прошли, и в комнате воцарилась тишина. Я снова стал рисовать, утопая в своих листах, с которых струился блеск. Окно было открыто, и на его карнизе трепетали на весеннем ветру горлицы. Как бы испуганные и исполненные полета, они наклоняли головы и демонстрировали профили с круглым, стеклянным глазом. Дни под конец стали мягкими, опаловыми и лучезарными, а то вдруг перламутровыми и полными затуманенной сладостности.
Наступили пасхальные праздники, и родители уехали на неделю к моей замужней сестре. Меня оставили одного в квартире на произвол моих вдохновений. Аделя каждый день приносила мне завтраки, обеды, ужины. Когда она появлялась на пороге, празднично одетая, источая из своих тюлей и фуляров аромат весны, я не замечал ее присутствия.
Через открытое окошко втекали ласковые дуновения, наполняя комнату отблеском дальних пейзажей. С минуту навеянные цвета ясных далей еще удерживались в воздухе, но вскоре расплывались, развеивались в голубоватом дне, в ласковости и волнении. Половодье образов несколько успокоилось, потоп видений умиротворился и утих.
Я сидел на полу. Вокруг лежали мелки и пуговки акварели, Господни цвета, дышащая свежестью лазурь, зелень, забредшая до самого предела изумления. А когда я брал в руки красный мелок, в просветленном мире звучали фанфары счастливого красного цвета, по всем балконам плыли волны красных флагов, и дома выстраивались вдоль улицы торжественной шеренгой. Колонны городских пожарников в малиновых мундирах проходили парадом по светлым счастливым дорогам, и мужчины, приветствуя друг друга, приподнимали котелки цвета черешни. Черешневая сладость, черешневый щебет щеглов наполняли воздух, насыщенный лавандой и ласковым блеском.
Когда же я брался за синий цвет, по улицам по всем окнам пробегал отблеск кобальтовой весны, одна за другой со стуком открывались рамы, полные синевы и небесного огня, занавески взметывались, как по сигналу тревоги, и радостный легкий сквозняк пробегал вдоль их шеренги среди колышащегося муслина и олеандров на пустых балконах, как будто на другом конце этой длинной светлой аллеи появился кто-то далекий и приближался – лучистый, предшествуемый вестью, предчувствием, благовещаемый полетом ласточек, светозарными грамотами, разбрасываемыми на каждой миле.
3
В пасхальные праздники, в конце марта либо начале апреля, Шлёма, сына Товия, выпускали из тюрьмы, куда его сажали на зиму после летних и осенних похождений и безумств. И вот в один из дней той весны я в окошко увидел, как он выходит от парикмахера, который в одном лице являл собой городского цирюльника и костоправа; с изысканностью, приобретенной в тюремных стенах, Шлёма открыл сверкающую стеклянную дверь парикмахерской и спустился по трем деревянным ступенькам, посвежевший и помолодевший, с аккуратно подстриженной головой, в куцеватом сюртучке и высоко подтянутых клетчатых панталонах, худощавый и моложавый, несмотря на свои сорок лет.
Площадь Св. Троицы в это время была пустая и чистая. После весенней слякоти и грязи, смытых потом проливными дождями, мостовая лежала отмытая, высушенная за много дней тихой и ясной погоды, дней уже длинных и, быть может, слишком обширных для ранней этой поры, дней, затягивающихся сверх меры, особенно вечерами, когда сумерки, еще пустые в своей глубине, тщетные и бесплодные в безмерном своем ожидании, длятся и длятся без конца. Когда Шлёма закрыл за собой стеклянную дверь парикмахерской, небо тотчас же вошло в нее, как во все маленькие оконца этого одноэтажного дома, открытого чистой глубине тенистого небосклона.
Сойдя с крыльца, Шлёма оказался совсем один на краю большой пустой раковины площади, через которую проплывала синева бессолнечного неба Эта широкая чистая площадь лежала в тот день как стеклянный сосуд, как новый, не початый год. Шлёма стоял на его краю, серый и угасший, и не смел сломать решением идеальную округлость неиспользованного дня.
Лишь раз в году, в день выхода из тюрьмы, Шлёма чувствовал себя таким чистым, ничем не обремененным и новым. День принимал его в себя, омытого от грехов, обновленного, примирившегося с миром, со вздохом открывал перед ним чистые круги своих горизонтов, увенчанные тишайшей красотой.
Он не торопился. Стоял на краешке дня и не смел переступить, перечеркнуть своей молодой, легкой, чуть припадающей походкой эту мягко закругляющуюся раковину пополуденной поры.
Над городом лежала прозрачная тень. Молчание третьего часа пополудни извлекало из домов чистую белизну мела и раскладывало ее, как колоду карт, вокруг площади. Обделив его в одном круге, оно уже начинало новый, черпая запасы белизны из высокого барочного фасада церкви Св. Троицы, которая, как слетающая с неба огромная рубашка Бога, вся в складках пилястров, ризалитов и фрамуг, распираемая пафосом волют и архивольт, поспешно приводила на себе в порядок это гигантское взволнованное одеяние.
Шлёма поднял, принюхиваясь, голову. Мягкий ветерок нес аромат олеандров, запах праздничных комнат и корицы. И тогда он чихнул своим знаменитым могучим чихом, от которого сорвались и взлетели с полицейского участка перепуганные голуби. Шлёма усмехнулся: через сотрясение его ноздрей Бог давал знак, что настала весна. То был знак куда вернее, чем прилет аистов, и отныне дни будут пронизаны этими детонациями, что, затерянные то ближе, то дальше в городском шуме, станут служить остроумным комментарием ко всевозможным событиям.
– Шлёма! – позвал я, стоя в окне нашего низкого первого этажа.
Шлёма увидел меня, улыбнулся своей приятной улыбкой и приветственно поднял руку.
– Мы с тобой сейчас одни на всем рынке. Я и ты, – тихо произнес он, потому что вздувшийся пузырь неба резонировал, как бочка. – Я и ты, – повторил он с грустной улыбкой. – Как пуст сегодня мир.
Мы могли бы поделить его и назвать по-новому – до того открытый, беззащитный и ничей лежал он перед нами. В такой день Мессия подходит к самому краю горизонта и оттуда смотрит на землю. И когда он видит ее – белую, тихую в синеве и задумчивости, может случиться, что в глазах у него исчезнет граница, голубоватые полосы облаков улягутся тропою, и он, не ведая, что делает, сойдет на землю. А земля в своей задумчивости даже не заметит того, кто сошел на ее дороги, и люди, пробудясь после послеобеденного сна, ничего не будут помнить. Вся история окажется словно бы стерта из памяти, и будет как в прадревние времена до начала ее.
– Дома Аделя? – поинтересовался с улыбкою Шлёма.
– Никого нет. Зайди на минутку, я покажу тебе свои рисунки.
– Ну, коль никого нет, не откажу себе в таком удовольствии. Открой мне.
И, оглянувшись в дверях по сторонам, он по-воровски проскользнул в дом.
4
– Потрясающие рисунки, – приговаривал он, жестом знатока отстраняя их от себя.
Его лицо прояснилось от рефлексов красок и света Порой он складывал в трубочку ладонь, приставлял ее к глазу и смотрел через эту импровизированную подзорную трубу, и черты лица у него стягивались в значительную гримасу понимания.
– Можно бы сказать, – объявил он, – что мир прошел через твои руки, чтобы обновиться, претерпеть в них линьку и сбросить, как чудесная ящерица, старую кожу. Неужели ты думаешь, что я воровал бы и совершал тысячи безумств, если бы мир не так износился и обветшал, если бы все вещи в нем не утратили своей позолоты – дальнего отблеска Божьих рук? Что можно делать в таком мире? Как не разувериться, не пасть духом, если все замкнуто, наглухо замуровано над собственным смыслом и всюду только стучишь по кирпичу, как в тюремную стену? Ах, Иосиф, ты должен был бы родиться раньше.
Мы стояли в полутемной глубокой комнате, перспективно удлиняющейся в направлении открытого окна, что выходило на рыночную площадь. Оттуда даже до нас долетали в спокойной пульсации воздушные волны, растекаясь тишиною. Каждый приток приносил новый ее заряд, приправленный красками дали, как будто предыдущий был уже использован и исчерпан. Эта темная комната жила лишь отсветами далеких домов за окном, отражала в своей глубине их цвета, словно камера обскура. Через окно, точно в подзорную трубу, было видно, как по карнизу аттика полицейского участка прогуливаются напыжившиеся голуби. Время от времени они все разом взлетали и делали полукруг над рыночной площадью. И тогда комната на минуту светлела от их раскрытых маховых перьев, становилась шире от отблеска их далекого трепета, а потом угасала, когда они, опадая, складывали крылья.
– Шлёма, – сказал я, – тебе я могу открыть тайну этих рисунков. Уже с самого начала у меня возникали сомнения, действительно я ли являюсь их автором. Временами они кажутся мне невольным плагиатом, чем-то, что мне было подсказано, подсунуто… Как будто нечто чуждое воспользовалось моим вдохновением для неизвестных мне целей. Должен тебе признаться, – тихо произнес я, глядя ему в глаза, – что я нашел Подлинник…
– Подлинник? – Переспросил он, и лицо его осветилось внезапным блеском.
– Да. Впрочем, посмотри сам, – отвечал я, присев на корточки перед ящиком комода.
Сперва я вынул шелковое платье Адели, коробку с лентами, ее новые туфли на высоких каблуках. По комнате разошелся запах то ли пудры, то ли духов. Я вытащил еще несколько книжек: на дне действительно лежали и сияли давно не виденные драгоценные листы.
– Шлёма, – взволнованно сказал я, – смотри, вот лежит…
Но он, погруженный в раздумье, стоял с туфелькой Адели в руке и с напряженным вниманием рассматривал ее.
– Этого Бог не говорил, – произнес он, – и однако до чего же неопровержимо это убеждает меня, припирает к стене, отнимает последний аргумент. Эти линии неотразимы, потрясающе точны, окончательны и ударяют, как молния, в самую сущность. Чем закроешься от них, что им противопоставишь, если ты уже продан, выдан и предан самыми верными своими союзниками? Шесть дней творения были Божьими и светлыми. Но на седьмой день Он почувствовал под руками чужую материю и, испуганный, отъял руки от мира, хотя Его творческий запал был рассчитан еще на многие дни и ночи. О Иосиф, берегись седьмого дня…
И, с ужасом поднимая изящную туфельку Адели, он говорил, словно зачарованный блестящей иронической выразительностью этой пустой оболочки из лаковой кожи:
– Понимаешь ли ты чудовищный цинизм этого символа на ноге женщины, провокаторский вызов ее разнузданной походки на этих высоких каблуках? Да разве могу я оставить тебя под властью этого символа! Избави меня Бог так поступить…
Говоря это, он ловко засовывал за пазуху туфельки, платье и бусы Адели.
– Шлёма, что ты делаешь? – ошеломленно пробормотал я.
Но он в своих коротковатых клетчатых панталонах уже шел, чуть прихрамывая, к дверям. На пороге еще раз повернулся ко мне серым, невыразительным лицом и успокаивающим жестом поднес руку к губам. И исчез за дверью.








