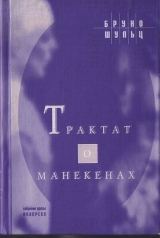
Текст книги "Трактат о манекенах"
Автор книги: Бруно Шульц
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)

Бруно Шульц
Трактат о манекенах
Коричные лавочки
Август
1
К июле отец уезжал на воды и бросал нас с мамой и старшим братом на произвол белых от зноя, ошеломляющих летних дней. Одурев от света, мы перелистывались в огромной книге каникул, все страницы которой нестерпимо сверкали и таили на дне приторно-сладкую мякоть золотых груш.
Аделя появлялась сияющими утрами из пламени разгорающегося дня и высыпала из корзины красочные дары солнца – блестящие черешни, полные влаги под прозрачной кожурой, таинственные черные вишни, аромат которых был еще нежнее, чем вкус, абрикосы, в чьей золотистой мякоти крылась сущность тягучих вечеров, а рядом с этой чистой поэзией плодов она выкладывала набухшие силой и сытостью пласты телятины с клавиатурою ребер, водоросли овощей, словно бы мертвых спрутов и медуз, – сырье обеда с еще неоформленным и непонятным вкусом, вегетативные и теллурические ингредиенты обеда с диким, полевым запахом.
Через огромную квартиру во втором этаже каменного дома на рыночной площади каждый день проходило все огромное лето: тишина дрожащих слоев воздуха, квадраты света, смотрящие на полу жаркие свои сны, мелодия шарманки, добытая из самой глубинной золотой жилы дня, два-три такта припева, без конца наигрываемые где-то на фортепьяно, упавшие на залитые солнцем белые тротуары и затерявшиеся в пламени глубокого дня. После уборки Аделя, задернув полотняные шторы, впускала в комнату тень. Тогда краски звучали октавой ниже, комната наполнялась сумраком, словно погруженная в глубины моря, и ее отражение в зеленых зеркалах становилось еще мутней, а дневной зной дышал на шторы, слегка колышущиеся от задумчивости полдня.
В субботу после полудня мы с мамой шли на прогулку. Из полумрака прихожей мы сразу же попадали под солнечный душ дня. У бредущих в золоте прохожих глаза были прищурены от жары, а приподнятая верхняя губа приоткрывала зубы и десны. И у всех идущих по этому золотистому дню застыла на лицах одинаковая гримаса жары, как будто солнце надело на своих приверженцев одну и ту же маску – золотую маску солнечного братства; и все, кто шел сейчас по улицам, встречаясь, расходясь, старые и молодые, дети и женщины, приветствовали друг друга этой маской, нарисованной жирной желтой краской, корчили вакхическую гримасу – гримасу варварской маски языческого культа.
Рынок был пуст и желт от зноя, выметен горячими ветрами, как библейская пустыня. Колючие акации, выросшие из пустоты желтой площади, вскипали над ней светлой листвой, букетами искусно выделанной зеленой филиграни, словно деревья на старинных гобеленах. Казалось, эти деревья изображают вихрь, театрально волнуя свои кроны, чтобы в патетических изгибах продемонстрировать изящество лиственных опахал с серебристыми подбрюшьями, как у шкурок благородных лис. Старые дома, много дней подряд полируемые ветрами, зацветали отражениями огромной атмосферы, эхами, воспоминаниями красок, рассыпанными в глубине цветастой погоды. Казалось, целые поколения летних дней, как терпеливые реставраторы, что освобождают старые фасады от плесени штукатурки, отбивали лживую глазурь, с каждым днем все отчетливей открывая подлинные обличья домов, физиономии судеб и жизней, формировавших их изнутри. Сейчас окна, ослепленные блеском обезлюдевшей площади, спали; балконы исповедовались небу своей пустотой; из открытых сеней пахло холодом и вином.
Кучка оборванцев, спасавшаяся на задворках рынка от огненной метлы зноя, облепила кусок стены, непрестанно исследуя ее ударами пуговиц и монет, как будто из гороскопа этих металлических кружочков можно было вычитать подлинную тайну стены, исписанной иероглифами черточек и ударов. Больше никого на рынке не было. И ждалось – вот к этим сводчатым сеням, забитым бочками виноторговца, подойдет в тени качающихся акаций ослик, ведомый за уздечку самаритянином, и двое отроков заботливо снимут больного мужа с горячего седла и по холодным ступеням заботливо внесут в пахнущие субботой комнаты.
Так мы с мамой брели по обеим солнечным сторонам рыночной площади, проводя нашими сломанными тенями по домам, как по клавишам. Квадраты мостовой медленно текли под нашими мягкими и плоскими шагами – одни бледно-розовые, как человеческая кожа, другие золотые и синие, и все плоские, теплые и бархатистые, словно солнечные лица, затоптанные подошвами до неузнаваемости, до блаженной неразличимости.
Наконец на углу улицы Стрыйской мы вступили и тень аптеки. Большой шар с малиновым соком символизировал и широком аптечном окне прохладу бальзамов, которыми можно исцелить любой недуг. А еще через несколько домов улице становилось уже невмоготу выдерживать городской вид, словно крестьянину, который, возвращаясь в родную деревню, сбрасывает с себя по дороге городскую щеголеватость и по мере приближения к селу превращается постепенно в деревенского оборванца.
Домики предместья тонули в буйном и запутанном цветении маленьких садиков. Всевозможные травы, цветы, сорняки, забытые долгим днем, буйно и тихо плодились, обрадованные передышкой, которую они могли проспать на полях времени, на границе бесконечного дня. Огромный подсолнечник, вытянувшийся на могучем стебле и больной слоновой болезнью, ожидал в желтом трауре последних грустных дней своей жизни, сгибаясь от гипертрофированного, чудовищного дородства. Но наивные пригородные колокольчики и простенькие ситцевые цветочки беспомощно стояли в своих накрахмаленных розовых и белых рубашечках, не постигая великой трагедии подсолнуха.
2
Сплетающаяся чащоба трав, лебеды, крапивы, чертополоха бушует в пламени дня. Роем мух гудит послеполуденная дрема сада. Золотая стерня вопит на солнце, как рыжая саранча; под проливным дождем огня орут сверчки; из стручков с тихими взрывами выпрыгивают, как будто кузнечики, семянки.
А у забора кожух трав поднимается выпуклым горбом-пригорком, словно бы во сне сад повернулся, лег навзничь и его толстые мужицкие плечи дышат тишиной земли. На этих плечах сада неряшливая бабья плодовитость августа разрослась глухими провалами огромных лопухов, полотнищами мохнатых листьев, буйными пластами мясистой зелени. Там лупоглазые истуканы лопухов таращились, словно рассевшиеся бабы, наполовину сожранные своими ошалевшими юбками. Там сад задаром распродавал дешевую крупу воняющей мылом бузины, жирную кашу подорожников, дикую сивуху мяты и всю заваль, и все старье августа. А за забором, за этими дебрями лета, в которых разрасталась дурость ополоумевших сорняков, была свалка, вся заросшая чертополохом. Никто не знал, что именно там август того года справлял свои великолепные языческие оргии. На свалке в зарослях бузины стояла прислоненная к забору кровать полоумной Тлуи. Так все звали ее. На куче мусора и отбросов, битых горшков, рваных башмаков, тряпок и щебня стояла крашенная зеленой краской кровать, подпертая вместо отломанной ножки двумя кирпичами.
Одичалый от зноя воздух на свалке раздирают молнии блестящих навозных мух, разъяренных солнцем, и воздух трещит, словно от невидимых трещоток, разжигая бешенство.
Тлуя, скорчившись, сидит среди тряпья на желтом тюфяке. На ее большой голове дыбится мочало черных волос. Лицо судорожно корчится, словно меха гармоники. Ежеминутно плаксивая гримаса собирает эту гармонику множеством поперечных складок, но удивление вновь растягивает ее, открывая щелки крохотных глаз и влажные десны с желтыми зубами под длинной, похожей на хобот мясистой губой. Тянутся часы, исполненные зноя и скуки, и все это время Тлуя что-то бормочет вполголоса, дремлет, тихо бурчит и хрипит. Мухи густым роем облепляют ее. Но вдруг эта куча грязных тряпок, лоскутьев, лохмотьев начинает шевелиться, словно ее возвращает к жизни царапанье нарождающихся в ее недрах крыс. Мухи в страхе просыпаются и взлетают огромным гудящим роем, полным яростного жужжания, блеска и мерцания. Тряпки сыплются на землю и разбегаются по свалке, словно испуганные крысы, и вот из них выкарабкивается, постепенно высвобождается ядро, вылущивается сущность свалки: полуголая желтая кретинка, похожая на языческого божка, медленно идет на коротких детских ножках: – ее шея набрякла от прилива злобы, лицо побагровело от гнева, и на нем, словно дикарская татуировка, расцветают извивы набухших жил; раздается звериный визг, хриплый визг, добытый из всех труб и бронхов в груди этого полуживотного-полубожка. Сжигаемые солнцем чертополохи вопят, лопухи вспухают и хвастаются бесстыдным мясом, лебеда сочится блестящим ядом, а кретинка, охрипшая от крика, в диких конвульсиях бьется с бешеной яростью мясистым лоном о ствол бузины, который тихо поскрипывает под напором неукротимой бесстыдной похоти, поощряемой всем этим нищенским хором к выродившейся языческой плодовитости.
Мать Тлуи, старая Марыська, нанимается мыть полы. Это маленькая, желтая, как шафран, женщина, и она придает шафрановый оттенок полам, сосновым столам, лавкам и дверям, которые моет в небогатых домах. Однажды мы с Аделей побывали у нее. Было раннее утро, мы вошли в беленую до голубизны комнатку с глинобитным полом, на котором лежало раннее солнце, ярко желтеющее в утренней тишине, отмериваемой пронзительным лязгом ходиков. В сундуке на соломе лежала придурковатая Марыська, бледная, как полотно, и тихая, как снятая с руки перчатка. И словно пользуясь ее сном, разглагольствовала тишина, желтая, яркая, злая тишина; она говорила сама с собой, выкрикивала громко и грубо свой маниакальный монолог. Марыськино время – время, заключенное в ее душе, – вышло из нее ужасающе реальное и безнадзорно разгуливало по комнате, шумное, гулкое, свирепое, сыплющееся в ярком молчании утра из звонких жерновов часов, словно скверная мука, сыпучая мука, глупая мука безумцев.
3
В одном из тех домиков, огороженном коричневым забором и утопающем в зелени маленького садика, жила тетя Агата. Мы проходили к ней по саду мимо торчавших на столбиках цветных стеклянных шаров, розовых, зеленых и фиолетовых, в которых были заключены светлые и сияющие миры, подобные идеальным и счастливым картинам, что замкнуты в недосягаемом совершенстве мыльных пузырей.
В полутемных сенях со старинными олеографиями, изъеденными плесенью и ослепшими от старости, нас встречал знакомый запах. В этот доверительный старый запах в поразительно простом синтезе вместилась жизнь хозяев домика, квинтэссенция расы, сорт крови и секрет их судьбы, незримо кроющийся в ежедневном течении их собственного, обособленного времени. Старые мудрые двери, темные вздохи которых впускали и выпускали этих людей, молчаливые свидетели того, как входят и выходят мать, дочери и сыновья, бесшумно отворились, будто дверцы шкафа, и мы вступили в жизнь наших родственников. А они сидели как бы в тени собственной судьбы и не защищались – первыми же неловкими жестами выдав нам свою тайну. Но разве не были мы кровью и судьбой сроднены с ними?
Из-за темно-синих обоев с золотыми узорами комната была темная и бархатистая, но эхо пламенного дня все-таки латунно дрожало на рамах картин, дверных ручках и золотых бордюрах, хоть и процеженное сквозь зелень сада. Из-под стены поднялась тетя Агата, крупная и обильная, с белым и округлым телом, усыпанным рыжей ржавчиной веснушек. Мы присели рядом с ними, как бы на краю их судьбы, слегка пристыженные беззащитностью, с какой они безоговорочно выдали себя нам, и пили воду с розовым соком, удивительнейший напиток, в котором я нашел сокровенную сущность этой жаркой субботы.
Тетя жаловалась. Таков был обычный тон ее разговоров, голос этой белой и плодородной плоти, словно бы уже вышедшей из границ личности, едва удерживающейся в совокупности, в узах индивидуальной формы, но даже и в этой соединенности уже разрастающейся, готовой распасться, разветвиться, рассыпаться в семье. То была плодовитость, способная чуть ли не к самозарождению, болезненно изобильная и лишенная узды женственность.
Казалось, даже запах мужчины, аромат табачного дыма, холостяцкая шутка могут дать этой обостренной женственности импульс для безудержного партеногенеза. И впрямь все ее жалобы на мужа, на прислугу, ее забота о детях были всего лишь капризами и обидами неуспокоенной плодовитости, дальнейшим развитием того грубого, злого и плаксивого кокетства, которым она безуспешно искушала мужа. Дядя Марек, маленький, сгорбленный, с лицом, лишенным плоти, сидел, словно серый банкрот, примирившийся с судьбой, в тени безграничного презрения и, казалось, отдыхал в нем. В его серых глазах тлел далекий распятый в окне огонь сада. Порой слабым движением он пытался как-то воспротивиться, оказать сопротивление, однако волна независимой женственности презрительно отметала эти его поползновения, триумфально проплывая мимо него, и заливала своим широким потоком слабые судороги мужественности.
Было что-то трагическое в этой неряшливой и неумеренной плодовитости, была убогость земного творения, борющегося на грани небытия и смерти, был какой-то героизм женственности, своей урожайностью торжествующей даже над увечностью природы, над немощностью мужчины. Но потомство подтверждало обоснованность материнской паники, этого бешеного стремления к размножению, исчерпывающему себя в неудачных плодах, в эфемерных поколениях безликих и бескровных фантомов.
Вошла Люция, средняя дочка, – белокожая и нежная, с чрезмерно расцветшей и созревшей головой на пухлом детском теле. Она подала мне кукольную, словно бы едва налившуюся ручку и сразу же расцвела, как розовый пион. Страдая от румянца, бесстыдно выдающего тайну регул, она прижмуривала глаза и еще ярче пылала от прикосновения самых нейтральных вопросов, поскольку каждый из них мог таить скрытый намек на ее сверхвпечатлительное девство.
Старший кузен Эмиль, светлоусый блондин, с лица которого жизнь как бы смыла всякое выражение, расхаживал по комнате, держа руки в карманах мятых брюк.
В его элегантном, дорогом костюме было нечто от экзотических стран, откуда он недавно возвратился. Увядшее мутное лицо, казалось, с каждым днем все больше забывало о себе, превращаясь в пустую белую стену, испещренную сетью жилок, в которых, как в линиях на географической карте, заплутались угасающие воспоминания бурной и бесполезной жизни. Он был мастер карточных фокусов, курил длинные благородные чубуки, и от него исходил странный аромат дальних стран. Блуждая взглядом по далеким воспоминаниям, он рассказывал чудные анекдоты, которые в определенный момент внезапно обрывались, рассыпались и развеивались в пустоте. Я следил за ним тоскливым взглядом, мечтая, чтобы он обратил на меня внимание и спас от мучительной скуки. И действительно, мне показалось, будто, уходя в другую комнату, он мне подмигнул. Я поспешил за ним. Он сидел на низенькой козетке, скрестив ноги почти на высоте лысой, как биллиардный шар, головы. Казалось, это всего лишь костюм, мятый, в складках, переброшенный через спинку кресла Лицо его было как дуновение лица – черточки, оставленные в воздухе неизвестным прохожим. В бледных, цвета голубой эмали руках он держал бумажник и что-то в нем разглядывал.
Из мглы лица с трудом вылезло выпуклое бельмо глаза, подманивая меня игривым подмигиванием. Я чувствовал к нему неодолимую симпатию. Он зажал меня между коленями и, проворно тасуя перед моими глазами фотографии, стал показывать изображения голых мужчин и женщин в странных позах. Я стоял, прижавшись к нему боком, и далеким, невидящим взглядом всматривался в эти нежные человеческие тела, как вдруг флюид непонятного возбуждения, от которого внезапно помутнел воздух, дошел до меня и пробежал по телу дрожью беспокойства, волной мгновенного озарения. Но тем временем облачко улыбки, вырисовавшееся под мягкими красивыми усами Эмиля, завязь вожделения, от которого напряглась пульсирующая жилка на его виске, сила, на минуту соединившая его черты в единое целое, вновь вернулись в небытие, и лицо опять исчезло, забыло про себя, развеялось.
Наваждение
1
Уже в ту пору наш город все глубже погружался в хроническую серость сумерек, обрастал по краям лишайниками тени, пушистой плесенью и мхом цвета железа.
Едва высвободившись из пеленок бурых дымов и мглы раннего утра, день сразу же склонялся к низким янтарным вечерам, становился на мгновение прозрачным и золотистым, как темное пиво, чтобы затем быстро сойти под расчлененные фантастические своды цветных просторных ночей.
Мы жили на рыночной площади в одном из тех темных домов с голыми и слепыми фасадами, которые невозможно отличить друг от друга.
Это приводило к постоянным недоразумениям Достаточно было нечаянно войти в чужие сени, и ты тотчас вступал в настоящий лабиринт незнакомых комнат, лестниц, нежданных дверей, ведущих в какие-то неведомые дворы, и начальная цель путешествия забывалась; только через много дней, заполненных блужданиями по бездорожьям странных, запутанных приключений, в какое-нибудь мутно-серое утро тебе с угрызениями совести вспоминался родительский дом.
Наша квартира, заставленная огромными шкафами, глубокими диванами, бледными зеркалами и дешевыми искусственными пальмами, все больше приходила в запустение из-за небрежности мамы, целыми днями просиживавшей в лавке, и нерадивости тонконогой Адели, которая безнадзорно проводила время перед зеркалами за нескончаемым туалетом и оставляла повсюду очески, гребешки, туфельки и корсеты.
Число комнат у нас в квартире постоянно менялось, потому что никто не помнил, сколько из них сдано постояльцам. Часто бывало, что, открыв случайно какое-нибудь из этих забытых помещений, мы обнаруживали, что оно пусто, жилец давно съехал, а в ящиках комода, которые месяцами никто не выдвигал, я делал неожиданные находки.
В нижнем этаже жили приказчики, и иногда среди ночи нас будили их стоны, вызванные сонным кошмаром. Зимой на дворе еще стояла глухая ночь, а отец уже спускался к ним, распугивая свечой стаи теней, разбегавшихся по полу и стенам, – шел пробуждать заходившихся тяжелым храпом людей от твердого, как камень, сна.
При свете оставленной свечки они лениво вылезали из грязных постелей, вытягивали, сидя на кроватях, босые уродливые ноги и, держа в руках носки, с минуту еще наслаждались зевотой – долгой зевотой, сопровождающейся сладострастными, мучительными, как при тяжелой рвоте, судорогами нёба.
В углах неподвижно сидели большие тараканы, казавшиеся еще громаднее из-за теней, которыми горящая свеча наделяла все предметы в комнате и которые не отделялись от тараканов и тогда, когда какое-нибудь из этих плоских безголовых туловищ бросалось бежать неестественным паучьим бегом.
Здоровье отца стало ухудшаться. Уже в первые недели той ранней зимы бывало, что он целыми днями проводил в постели, обложенный пузырьками, пилюлями и гроссбухами, которые ему приносили из лавки. Горький запах болезни оседал на дне комнаты, обои в которой загустевали темным сплетением арабесок.
Вечерами, когда мама возвращалась из лавки, отец бывал раздражителен и сварлив, выговаривал ей за неточности в подсчетах, разгорался лихорадочным румянцем и доходил до полной невменяемости. Помню, проснувшись однажды поздней ночью, я увидел, как он, босой, в ночной рубашке, бегал по кожаному дивану, демонстрируя таким способом ошеломленной маме свое возмущение.
В иные же дни он бывал спокоен, сосредоточен и целиком погружался в свои книги, блуждая в глубоких лабиринтах запутанных подсчетов.
При свете коптящей лампы я вижу, как он сидит на корточках среди подушек под большим резным балдахином кровати, отбрасывая на стену громадную тень, и покачивается в такт безмолвным размышлениям.
Временами он выныривал из своих расчетов, словно для того, чтобы глотнуть воздуха, открывал рот, с отвращением чмокал сухим, горьким языком и беспомощно осматривался, как будто что-то искал.
И тогда, случалось, он тихонько слезал с кровати, бежал в угол, где на стене висел некий инструмент. То была разновидность водяной клепсидры – большой стеклянный цилиндр, разделенный на унции и наполненный темной жидкостью. Отец соединялся с этим инструментом длинной резиновой трубкой, точно витой мучительной пуповиной, и, слившись таким образом с этим скорбным устройством, каменел; глаза его темнели, а на побледневшем лице выступало выражение не то муки, не то некоего порочного наслаждения.
Затем вновь наступали дни тихого сосредоточенного труда, перемежавшегося одинокими монологами. Когда при свете настольной лампы он сидел на высокой кровати среди подушек, а комната горой громоздилась над ним в тени абажура, роднившей ее с огромной стихией городской ночи за окном, то, не глядя, чувствовал, как пространство обрастает его пульсирующей чащей обоев, наполненной шепотом, шорохами и шелестом. Не оборачиваясь, он ощущал этот сговор, полный понимающих подмигиваний, заигрываний, развертывавшихся среди соцветий подслушивающих ушных раковин и темных усмехающихся губ.
И тогда он словно бы еще больше погружался в работу, вычитал и складывал, боясь выдать поднимающийся гнев, борясь с искушением с криком, слепо кинуться на стену, рвать полными горстями кудрявые арабески, букеты глаз и ушей, которые ночь роем выпускала из себя и которые росли и множились, высасывая новые бредовые побеги и отростки из материнской утробы темноты. Успокаивался он только тогда, когда с отливом ночи обои увядали: съеживались, роняли цветы и листья и, становясь по-осеннему прозрачными, пропускали далекую зарю.
Тогда, в часы желтого зимнего рассвета, под щебет птиц с обоев он ненадолго забывался густым черным сном.
В те дни и недели, когда он казался погруженным в запутанные счета, его мысль тайно углублялась в лабиринты собственных внутренностей. Он задерживал дыхание и вслушивался. И когда его побелевший, мутный взор возвращался из этих глубин, он улыбкой успокаивал его. Он еще не верил, отбрасывал, считая абсурдными, все притязания и предложения, наваливавшиеся на него.
Днем то были как бы рассуждения и уговоры, длинные монотонные размышления вполголоса, полные юмористических интерлюдий, лукавого обмена шутками. Но по ночам голоса эти страстно накалялись. С каждым днем требование становилось явственней и настойчивей, и мы слышали, как он говорит с Богом, словно умоляя и противясь тому, чего упорно и неотступно от него домогались.
Но однажды ночью голос прозвучал грозно и неотвратимо, требуя, чтобы отец дал свидетельство устами и внутренностями своими. И мы услыхали, как дух вступил в отца, как отец встал на постели, длинный и вырастающий еще выше от пророческого гнева, давясь гремящими словами, которые он выбрасывал, точно митральеза. Мы слышали шум борьбы и стоны отца, стоны титана со сломанным бедром, который тем не менее продолжает поносить противника.
Никогда не видел я ветхозаветных пророков, но, глядя на сего мужа, поверженного Божьим гневом, распятого на огромном фаянсовом урыльнике, сокрытого вихрем взметенных рук, тучей горестных, судорожных жестов, над которыми возносился его голос, чужой и жесткий, – я понял праведный гнев святых мужей.
То был диалог, грозный, как разговор громов. Мановением рук отец раскалывал небо на куски и в разломах появлялось лицо Иеговы, набрякшее от ярости и плюющееся проклятиями. Не глядя, я видел его, грозного Демиурга, видел, как, возлежа на тьме, точно на Синае, опершись могучими дланями на карниз штор, приникал он огромным лицом к верхним стеклам окна, как чудовищно плющился о них его мясистый нос.
В паузах, разделявших пророческую тираду отца, я слышал голос Иеговы, слышал мощное рычание вспухших губ, от которого дрожали стекла, рычание, смешивающееся со взрывами отцовских заклинаний, стенаний, угроз.
Временами голоса то притихали и усмирялись, как шум ночного ветра в трубе, то вновь взрывались яростными криками, бурей невнятных всхлипываний и проклятий. Внезапно черный зев окна разверзся, и в комнате затрепетало полотнище тьмы.
При свете зарницы я увидел, как отец в развевающемся белье с ужасающими проклятьями выплеснул мощным движением содержимое ночного горшка за окно, в гулкую, как раковина, ночь.
2
Отец мой угасал, увядал прямо на глазах.
Скорчившись среди огромных подушек, с дико взъерошенными космами седых волос, он вполголоса разговаривал сам с собой, всецело погрузившись в какие-то запутанные внутренние дрязги. Он словно бы распался на множество враждующих личностей с полностью противоположными интересами, до того шумно он спорил с собою – то настойчиво, страстно вел переговоры, доказывая и упрашивая, то как бы председательствовал на многолюдном собрании несогласных друг с другом лиц, которых ревностно и красноречиво пытался примирить. Но всякий раз эти шумные, темпераментные ассамблеи рассыпались проклятьями, оскорблениями и руганью.
Потом пришел период некоторой умиротворенности, внутреннего успокоения, благостной безмятежности души.
Вновь на кровати, на столе, на полу разложены были толстые фолианты, и какое-то бенедиктинское спокойствие работы заполняло освещенное лампой пространство над белой постелью, над его склоненной седой головой.
А когда поздним вечером возвращалась из лавки мама, отец оживлялся, подзывал ее и с гордостью показывал великолепные яркие переводные картинки, которыми он старательно оклеил все страницы гроссбуха.
Тогда-то мы и заметили, что отец со дня на день стал уменьшаться, словно орех, усыхающий внутри скорлупы.
Этому отнюдь не сопутствовал упадок сил. Напротив, он стал подвижнее, состояние его здоровья и настроение даже как бы улучшились.
Теперь он нередко громко и заливисто смеялся, прямо-таки заходился от смеха, а то целыми часами стучал по кровати и на разные голоса отвечал себе: «Пойдите». Временами отец слезал с постели, забирался на шкаф и, скрючившись под потолком, копался в пыльных кучах старого хлама.
Иногда он ставил рядом два стула и, опершись руками на спинки, повиснув на них, размахивал ногами; глаза у него при этом сияли, и он искал в наших лицах признаков удивления и восторга. С Богом он вроде бы совершенно примирился. Изредка ночью в окне спальни появлялось залитое темным пурпуром бенгальского света лицо бородатого Демиурга и с минуту благожелательно разглядывало спокойно спящего отца, мелодичный храп которого, каялось, блуждал по неведомым просторам страны снов.
В долгие полутемные дни под конец зимы отец, случалось, целыми часами просиживал в заваленных всяким старьем чуланах и что-то там упорно выискивал.
Нередко во время обеда он не выходил к столу, и маме приходилось долго кричать: «Иаков!» – и стучать ложкой по тарелке, прежде чем он вылезал из какого-нибудь шкапа, весь в пыли, облепленный клочьями паутины, с отсутствующим взглядом, погруженным в ведомые только ему одному сложные проблемы, которыми вечно были заняты его мысли.
Иногда он вскарабкивался на карниз и недвижно замирал напротив большого чучела грифа, висевшего на противоположной стене. Неподвижный и скрюченный, с затуманенным взглядом и хитрой усмешкой, отец мог часами так сидеть и молчать, чтобы вдруг при чьем-нибудь появлении замахать руками, как крыльями, и запеть петухом.
Мы перестали обращать внимание на его чудачества, в которых со дня на день он запутывался все больше и больше. Словно бы лишенный телесных потребностей, по неделям не принимая пищи, он с каждым днем все глубже погружался в какие-то невразумительные темные приключения, которые мы уже вовсе перестали понимать. Недосягаемый для наших уговоров и просьб, он отвечал нам обрывками своего внутреннего монолога, и ничто внешнее не могло прервать его течения. Вечно озабоченный, болезненно оживленный, с пятнами лихорадочного румянца на впалых щеках, он не замечал и не видел нас.
Мы привыкли к его безобидному присутствию, к тихому лепету, к какому-то детскому, погруженному в себя щебетанию, трели которого звучали как бы на окраине нашего времени. Уже тогда он исчезал, иногда на несколько дней, в забытых закоулках дома, и его невозможно было доискаться.
Постепенно его исчезновения перестали нас волновать, мы к ним привыкли, и когда через много дней он опять появлялся, став на несколько дюймов короче и еще сильнее усохнув, это уже не занимало надолго нашего внимания. Мы попросту перестали принимать его в расчет, так сильно он отдалился от всего человеческого, от реальности. Он постепенно отлучался от нас, нить за нитью порывая связи, соединявшие его с людьми. То, что еще оставалось от него – тщедушная телесная оболочка да горстка бессмысленных чудачеств, – могло однажды исчезнуть так же не замеченное никем, как и та серая горстка мусора в углу, которую Аделя ежедневно выносила на помойку.








