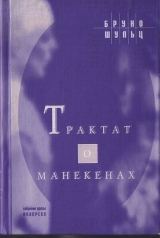
Текст книги "Трактат о манекенах"
Автор книги: Бруно Шульц
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
У летних дней не бывает сумерек. Не успевали мы оглянуться, а в лавке уже наступала ночь, зажигали большую керосиновую лампу, и судьба лавки продолжалась своим чередом. В те короткие летние ночи не имело смысла возвращаться домой. И пока уплывали ночные часы, отец с кажущейся сосредоточенностью легкими касаниями пера помечал поля писем черными летучими звездочками, чернильными чертиками, мохнатыми пуховками, что смутно кружили в поле зрения, как атомы тьмы, отторгнутые от огромной летней ночи за дверью. А из ночи за дверью порошил, точно из созревшего гриба-дождевика, высевался в бурой тени черный микрокосмос мрака, заразная сыпь летних ночей. Очки слепили отца, керосиновая лампа свисала за ними, точно пожар, окруженный хаосом молний. Отец ждал, нетерпеливо ждал и вслушивался, вглядываясь в яркую белизну бумаги, сквозь которую проплывали темные галактики черных звезд и космической пыли. За спиной отца, как бы без его участия, продолжалась большая игра за судьбу лавки, и, странное дело, разыгрывалась она в ярком свете керосиновой лампы на картине, что висела над его головой между шкафом картотеки и зеркалом. То была непостижимая картина-талисман, передававшаяся из поколения в поколение. Что же на ней было изображено? Нескончаемый диспут, что велся уже века, непрекращающийся спор двух противоположных концепций. На ней сошлись два купца, две антитезы, два мира. «Я продавал в кредит!» – кричал тощий, оборванный и недоумевающий, и голос его прерывался от отчаяния. «Я продавал за наличные», – отвечал ему толстяк, который сидел в кресле, положив ногу на ногу и покручивая большими пальцами сплетенных на животе рук. Как отец ненавидел толстяка! Он знал их обоих с детства. Уже в школе этот жирный эгоист, пожиравший на переменках бессчетное число булок с маслом, вызывал у него отвращение. Но и с тощим он тоже не солидаризировался. Он с удивлением видел, как у него из рук уходит инициатива, перехваченная этими двумя спорщиками. Съежившись, затаив дыхание, взволнованный до глубины души, кося застывшим взглядом из-за сползших очков, отец ожидал, как разрешится их спор.
А лавка, лавка была необъятна. Она была предметом всех мыслей, ночных изысканий, испуганных раздумий отца. Непостижимая и безграничная, она была вне всего происходящего, сумрачная и всеобъемлющая. Днем сукна, исполненные патриархального достоинства, лежали, разложенные по старшинству, по поколениям, по нисходящей линия наследования. Но по ночам бунтарская суконная чернота вырывалась и штурмовала небо пантомимическими тирадами, люциферическими импровизациями. Осенью же лавка шумела, исторгала из себя переполняющий ее ассортимент зимнего товара, точно целые гектары лесов стронулись с места и побрели сквозь гулкие бескрайные ландшафты. А летом, в мертвый сезон, она погружаясь во мрак и отступала в темные заповедные дебри, недоступная и безмолвная в суконном своем логовище. По ночам приказчики колотили, точно цепами, деревянными аршинами по сплошной стене, сложенной из штук сукна, и слушали, как она страдальчески воет в глубине, замурованная в медвежьей суконной сердцевине.
По этим глухим фетровым ступеням отец сходил в глубины генеалогии, на дно времен. Он был последним в роду, был Атласом, на плечах которого возлежало бремя безмерного завета. Дни и ночи отец размышлял над смыслом этого завета, пытался во внезапном озарении постичь его суть. Не раз, полный надежд, он вопросительно взглядывал на приказчиков. Не находя в душе своей знаков, без проблесков, без указаний, он ждал, что им, молодым и наивным, только что вышедшим из кокона, внезапно будет явлен, возвещен смысл лавки, что оставался сокрытым от него. Он припирал их к стене упорным подмигиванием, но они, тупые и бессмысленные, избегали его взгляда, опускали глаза и плели какую-то сущую бессмыслицу. По утрам, опираясь на высокий посох, отец, как пастух у водопоя, бродил среди этой незрячей отары, сбивающейся в плотные заторы, среди этих колышущихся, блеющих, безголовых шерстяных туловов. Отец все еще ждал, еще оттягивал ту минуту, когда он поднимет свой народ и вместе со всем этим навьюченным, кишащим, бесчисленным Израилем двинется в гудящую ночь…
А ночь за дверью была как будто из свинца – без пространства, без дуновения, без дороги. Через несколько шагов она заканчивалась тупиком. Человек, как в полусне, топтался у этой стремительно возникшей границы, и пока ноги его увязали, исчерпав скудное пространство, мысль, не останавливаясь, неслась дальше и подвергалась неустанным допросам, дознаниям, ведомая по всем бездорожьям этой черной диалектики. Дифференциальный анализ ночи проистекал из себя самого. Но в конце концов ноги останавливались в том самом глухом закоулке, из которого не было выхода. Во мраке, в глухом безмолвии человек часами простаивал, как перед писсуаром, в сокровеннейшем закоулке ночи с чувством блаженной пристыженности. И только брошенная на собственное попечение мысль потихоньку распутывалась, сложная анатомия мозга свивалась, как с клубка, и среди язвительной диалектики длился бесконечный абстрактный трактат летней ночи, кувыркался между логическими зигзагами, поддерживаемый с двух сторон неутомимыми, терпеливыми выпытываниями, софистскими вопросами, на которые не было ответа. Так, профилосовствовавшись на спекулятивных просторах ночи, он вступал, уже бесплотный, в последнюю, окончательную глухомань.
Было уже далеко заполночь, как вдруг отец оторвался от бумаг и вскинул голову. Исполненный важности, он встал, широко раскрыв глаза, весь обратившись в слух.
– Он идет, – возвестил отец, и лицо у него пылало. – Откройте ему.
Но прежде чем старший приказчик Теодор успел подбежать к загражденной темнотой стеклянной двери, в нее уже протиснулся нагруженный свертками долгожданный гость – чернобородый, праздничный, улыбающийся. Пан Иаков, взволнованный до глубины души, выбежал ему навстречу, поклонился, раскрыл объятия. Они обнялись. С минуту казалось, будто черный, низкий, блестящий паровоз, за которым тянется вереница вагонов, бесшумно подъехал к самым дверям нашей лавки. Носильщик в железнодорожной фуражке втащил на спине огромный сундук.
Мы так никогда и не смогли узнать, кем на самом деле был этот блистательный гость. Старший приказчик Теодор упрямо стоял на том, что то был собственной персоной Христиан Сейпель и Сыновья (прядильные и ткацкие машины). Никаких доказательств тому не было, и мама очень сомневалась в истинности этой концепции. Но в любом случае никто не сомневался, что то был могущественный демон, один из столпов Всеобщего Союза Кредиторов. Черная благоуханная борода обрамляла его толстое, лоснящееся, исполненное достоинства лицо. Отец подвел его, приобняв за плечи, к своему бюро.
Мы не понимали иностранного языка, но с почтением слушали их церемонную беседу, перемежаемую улыбками, прищуриваниями и осторожными, прямо-таки ласковыми похлопываниями друг друга по плечу. После обмена этими предварительными знаками учтивости они перешли к делам. На бюро разложили книги и бумаги, откупорили бутылку белого вина. С лицами, искаженными гримасой раздраженного удовлетворения, они, держа в уголках рта ароматные сигары, обменивались краткими паролями, односложными сообщническими знаками, судорожно тыча пальцами в соответствующую позицию в книге, и глаза их лукаво блестели, как у авгуров. Постепенно дискуссия становилась все жарче, было заметно, что оба с трудом сдерживают возмущение. Они кусали губы, горькие потухшие сигары свисали изо ртов, на лицах внезапно проступило выражение разочарованности и неприязни. Их трясло от сдерживаемого негодования. Отец дышал носом, на щеках у него выступили красные пятна, волосы дыбились надо лбом в капельках пота. Ситуация обострялась. Был миг, когда оба вскочили со своих мест и, вне себя от ярости, стояли, тяжело дыша и слепо поблескивая стеклами очков. Перепуганная мама, желая предотвратить катастрофу, принялась умоляюще стучать отцу по спине. При виде дамы оба спорщика пришли в себя, вспомнили про кодекс светского поведения, с улыбкой обменялись поклонами и вновь уселись, дабы продолжить работу.
Около двух ночи отец наконец захлопнул тяжелую крышку гроссбуха. Мы с тревогой всматривались в лица обоих собеседников, пытаясь определить, на чью сторону склонилась победа. Хорошее настроение отца казалось нам деланым и принужденным, меж тем как чернобородый, скрестив ноги, развалился в кресле, являя собой воплощение благожелательности и оптимизма. С нарочитой щедростью раздавал он чаевые приказчикам.
Сложив бумаги и счета, отец и его гость встали. У них были весьма выразительные мины. Заговорщицки подмигивая приказчикам, они давали понять, что их переполняет жажда приключений. За спиной мамы они изображали, будто намерены предпринять изрядный кутеж. Но то были всего лишь пустые похвальбы. Приказчики знали, чего они стоят. Эта ночь никуда не вела. Она кончалась над сточной канавой в известном месте глухой стеной небытия и стыдливого конфуза. Все ведущие в нее тропки неизменно возвращались в лавку. У всех эскапад, предпринятых в глубинах ее просторов, изначально были сломаны крылья. Приказчики из вежливости тоже подмигивали в ответ.
Исполненные рвения чернобородый и отец под руку вышли из лавки, провожаемые снисходительными взглядами приказчиков. Сразу же за дверью гильотина ночи одним ударом отрубила им головы, и они булькнули, упав во тьму, как в черную воду.
Кто изведал бездонность июльской ночи, кто измерил, сколько саженей приходится лететь вглубь в пустоте, в которой ничего не происходит? Пролетев через всю эту черную бесконечность, они опять стояли у дверей лавки, как будто только что вышли, вновь обретя утраченные головы со вчерашними, еще не израсходованными словами на устах. Неизвестно, как долго они так стояли, монотонно беседуя, словно возвратились из дальнего путешествия, связанные товариществом мнимых приключений и ночных похождений. Хмельным жестом они сбивали на затылок шляпы, пошатывались на подгибающихся ногах.
Миновав освещенный портал лавки, они крадучись вошли в дверь дома и стали тихонько преодолевать скрипучие ступеньки лестницы. Так пробрались они на заднее крыльцо к окошку комнаты Адели и приникли к нему. Но они не могли увидеть ее; раскинув ноги, она лежала в тени, бессознательно, спазматически содрогалась в объятиях сна, откинув назад пылающую голову, фанатически отдавшаяся сновидениям. Отец и его гость стучали в черные стекла, пели срамные куплеты. Но она с летаргической улыбкой на приоткрытых губах странствовала, каталептически оцепеневшая, по своим дальним дорогам, недоступная, отделенная от них десятками миль.
Тогда, смирившись, они уселись на перилах балкона, шумно зевали во весь рот, барабанили ногами по доскам балюстрады. В поздний, неведомый час ночи они обнаружили, что их тела, неизвестно каким образом перенесенные на две узенькие кровати, покоятся на высоко вздымающихся постелях. Они плыли параллельным курсом, спя наперегонки, попеременно обгоняя друг друга усердным галопом храпа.
На каком-то километре сна, в какой-то точке черного этого беспространства – то ли сонный поток соединил их тела, то ли их сновидения незаметно слились в одно? – они ощутили, что, сжимая друг друга в объятиях, борются, сцепившись в тяжком неистовом поединке. В бесплодных усилиях они жарко дышали друг другу в лицо. Чернобородый лежал на отце, как ангел на Иакове. Но отец изо всех сил стиснул его коленями и, оцепенело отплывая в глухое отсутствие, украдкой еще крал короткую подкрепляющую дремоту между раундами. Так сражались они – за что? за имя? за Бога? за контракт? – боролись из последних сил в смертном поту, меж тем как поток сна уносил их в самые дальние, самые поразительные околицы ночи.
4
Утром отец легонько прихрамывал на одну ногу. Лицо его сияло. Перед самым рассветом он нашел готовое, блистательное завершение письма, которое тщетно искал столько дней и ночей. Чернобородого мы больше никогда не видели. На заре он уехал вместе с сундуком и свертками, ни с кем не попрощавшись. То была последняя ночь мертвого сезона. С той летней ночи для лавки начались семь долгих тучных лет.
Санаторий под Клепсидрой
1
Поездка оказалась долгой. На этой боковой, забытой линии поезд ходит лишь раз в неделю, и ехало в нем всего несколько пассажиров. До сих пор мне ни разу не доводилось видеть таких вагонов устаревшего типа, давно уже снятых с других направлений, – просторных, как комнаты, темных, изобилующих всякими закоулками. От их коридоров, поворачивающих под разными углами, от холодных, смахивающих на лабиринты купе веяло какой-то странной заброшенностью, что-то в них было даже пугающее. Я переходил из вагона в вагон в поисках местечка поуютней. Везде дуло, студеные сквозняки повсюду пробивали себе дорогу, проскваживая насквозь весь поезд. Кое-где на полу сидели люди с узелками, не осмеливаясь устроиться на чересчур высоких пустых диванах. Впрочем, их выпуклые клеенчатые сиденья были холодными, как лед, и липкими от старости. На пустых станциях в поезд не сел ни один пассажир. Без свистка, без шипения, словно бы в задумчивости, поезд медленно трогался и продолжал свой путь.
Какое-то время со мной ехал человек в драном железнодорожном мундире, молчаливый, погруженный в собственные мысли. Он прижимал платок к распухшему, воспаленному лицу. Потом и он куда-то исчез, видно, незаметно сошел на одной из станций. После него осталась примятая солома на полу, где он сидел, да старый потрескавшийся чемодан, который он забыл.
Ступая по соломе и мусору, я неуверенным шагом переходил из вагона в вагон. Распахнутые настежь двери купе раскачивались от сквозняка. Нигде ни души. Наконец я наткнулся на кондуктора в черном мундире, какие носили железнодорожники, служащие на этой линии. Он обмотал шею толстым платком и упаковывал свои вещи – фонарь, журнал дежурств.
– Подъезжаем, сударь, – бросил он, глянув на меня какими-то совершенно белыми глазами.
Поезд медленно останавливался без шипения, без грохота, словно с последними клубами пара из него постепенно уходила жизнь. Встал. Тишина и пустота, нет даже здания вокзала. Кондуктор вылез и показал мне, в какой стороне находится санаторий. Я пошел с чемоданом по белой узкой дороге, вскоре углубившейся в темную чащу парка. Не без любопытства я присматривался к пейзажу. Дорога, по которой я шел, постепенно поднималась и вывела меня на вершину пологой возвышенности, с которого открывался весь горизонт. День был серый, пригасший, без акцентов. И, быть может, под воздействием этой тяжелой, бесцветной атмосферы виделась такой темной огромная чаша горизонта, на которой выстраивался обширный лесистый ландшафт, составленный из послойно расположенных полос лесов, все более далеких и все более серых, стекающих, спадающих плавными потоками то с левой, то с правой стороны. Весь этот исполненный значительности темный пейзаж словно бы едва заметно перетекал в себе, перемещался мимо самого себя, подобно укрытому многослойными тучами небу, полному затаенного движения. Текучие полосы и шляхи лесов, казалось, шумели и вырастали из этого шума, как морской прилив, незаметно наступающий на берег. В темной динамике лесистой местности высокая белая дорога вилась, словно мелодия, по хребту широких аккордов, теснимая напором мощных музыкальных масс, которые в конце концов поглощали ее. Я сломил ветку на придорожном дереве. Зелень листьев была темная, почти черная. То была поразительно насыщенная чернота, глубокая и благодетельная, как подкрепляющий, восстанавливающий силы сон. Все серые оттенки пейзажа были производными этого единственного цвета. Такой тон ландшафт порой принимает и у нас в пасмурные летние сумерки, напитанные долгими дождями. Точь-в-точь такая же глубокая и спокойная отрешенность, такое же безучастное окончательное оцепенение, которое уже не нуждается в утешении красок.
В лесу было темно, как ночью. Я ощупью шел по бесшумной хвое. Когда деревья стали реже, под ногами у меня загудел настил моста По другую его сторону среди черноты деревьев виднелись серые со множеством окон стены отеля, именовавшегося Санаторием. Двойные стеклянные двери были распахнуты. Я вошел в них прямо с мостков, обрамленных по обеим сторонам шаткими перильцами из стволов березок. В коридоре царил полумрак и торжественная тишина. На цыпочках я переходил от двери к двери, читая в темноте номера над ними. Наконец на повороте я наткнулся на горничную. Она выскочила из комнаты, запыхавшаяся и возмущенная, словно вырвалась из чьих-то назойливых рук. Горничная с трудом понимала, что я ей говорю. Пришлось повторить. Она только хлопала глазами.
Мою телеграмму получили? Горничная развела руками, глядя куда-то в сторону. Глаза ее косили на полуотворенную дверь, и она ждала лишь возможности нырнуть в нее.
– Я приехал издалека, телеграммой заказал номер в этом доме, – с некоторым уже раздражением объяснял я. – К кому мне обратиться?
Горничная не знала.
– Может, вы сходите в ресторан, – лепетала она. – Сейчас все спят. Когда господин доктор встанет, я доложу о вас.
– Спят?.. Но ведь еще день, до ночи далеко…
– У нас все время спят. А вы не знали? – она с удивлением подняла на меня глаза. – Впрочем, тут никогда не бывает ночи, – кокетливо добавила она. Ей уже расхотелось убегать, и она, чуть покачивая бедрами, теребила кружева передника.
Я махнул рукой. Вошел в полутемный ресторан. Там стояли столики, большой буфет занимал всю стену. После долгого перерыва я почувствовал, что ко мне вернулся аппетит. Мне очень понравились пирожные и торты, которыми в изобилии уставлены были полки буфета.
Я положил чемодан на один из столиков. В зале никого не было. Я хлопнул в ладоши. Никакого ответа. Заглянул в соседний зал, побольше и посветлей. То ли широкое окно, то ли лоджия открывала вид на уже знакомый пейзаж, застывший в обрамлении оконной ниши в глубокой своей печали и отрешенности, подобно траурному memento[9]9
memento
[Закрыть]
– Господин доктор просит вас к себе, – сообщила она, разглядывая ногти.
Горничная шла впереди и, уверенная в магнетической силе, какой обладают ее покачивающиеся бедра, даже не оборачивалась. Мы проходили мимо десятков дверей под номерами, а она развлекалась тем, что усиливала воздействие этого магнетизма, регулируя расстояние между нашими телами. В коридоре становилось все сумрачней. Уже в совершенной тьме она на миг, как бы нечаянно, прижалась ко мне.
– Вот двери комнаты доктора, – шепнула она. – Можете войти.
Доктор Готард принял меня, стоя посреди комнаты. Он был невысок ростом, широкоплеч, лицо его покрывала черная щетина.
– Мы получили вашу телеграмму еще вчера, – сказал он. – Послали на станцию нашу коляску, но вы приехали другим поездом. К сожалению, железнодорожное сообщение оставляет желать лучшего. Как вы себя чувствуете?
– Отец жив? – спросил я, впиваясь тревожным взглядом в его улыбающееся лицо.
– Разумеется, жив, – ответил он, спокойно выдержав мой вопрошающий взгляд, и добавил, прищурив глаза. – Естественно, в границах, обусловленных ситуацией. Вы ведь не хуже меня понимаете, что с точки зрения вашего дома, с перспективы вашей страны – отец ваш умер. И полностью исправить это невозможно. Произошедшая смерть бросает определенную тень на его здешнее существование.
– Но сам отец ничего об этом не знает, ни о чем не догадывается? – шепотом поинтересовался я.
Доктор с совершеннейшей убежденностью затряс головой.
– Можете быть спокойны, – ответил он, тоже понизив голос. – Наши пациенты ни о чем не догадываются, просто не способны догадаться… Весь фокус заключается в том, – добавил он, готовый привычно продемонстрировать механизм этого фокуса на пальцах, – что мы перевели время назад. Мы опаздываем во времени на некоторый промежуток, величину которого определить не способны. Все сводится к простому релятивизму. Одним словом, смерть вашего отца, которая уже произошла у вас на родине, здесь еще не свершилась.
– Это надо понимать так, что отец умирает или находится при смерти… – промолвил я.
– Вы меня не поняли, – произнес он с оттенком снисходительной досады. – Мы здесь восстанавливаем ушедшее время со всеми его возможностями, то есть и с возможностью выздоровления.
Он с улыбкой глядел на меня, сжав пальцами подбородок.
– Вам, наверное, хочется повидаться с отцом. В соответствии с вашим пожеланием, мы поставили вторую кровать в комнате вашего отца Я вас провожу.
Мы вышли в коридор, и доктор Готард заговорил шепотом. Я обратил внимание, что обут он был, как и горничная, в войлочные туфли.
– Мы даем нашим пациентам высыпаться, сберегаем их жизненную энергию. Впрочем, у них тут не так уж много других занятий.
Возле одной из дверей он остановился. Приложил палец к губам.
– Входите, но тихо – ваш отец спит. Советую вам тоже лечь. Это лучшее, что вы сейчас можете предпринять. До свидания.
– До свидания, – шепнул я, чувствуя, как бешено колотится сердце у меня в груди.
Я надавил на ручку, дверь сама отворилась, в точности как губы, что с такой беззащитностью приоткрываются во сне. Я вошел в комнату. Она была практически пустая, серая и какая-то голая. Под небольшим окошком на обычной деревянной кровати с пышными перинами лежал мой отец. Он спал Его глубокое дыхание извлекало из недр сна целые пласты храпа. Казалось, вся комната уже была заполнена храпом от пола до потолка, однако поступали все новые и новые порции. Я растроганно смотрел на исхудавшее, осунувшееся отцовское лицо, полностью сейчас поглощенное трудами храпа, – лицо, которое в далеком трансе, покинув свою земную оболочку, где-то на дальнем берегу торжественным счетом минут исповедовалось в собственном существовании.
Второй кровати в комнате не было. От окна тянуло пронзительным холодом Печь была не топлена.
«Похоже, они не слишком заботятся о пациентах, – подумал я. – Человек болен, а здесь такие сквозняки! И не похоже, чтобы тут убирали». Толстый слой пыли покрывал пол и ночной столик, на котором лежали лекарства и стакан остывшего кофе.
«В буфете у них полно пирожных, а пациентам вместо чего-нибудь восстанавливающего силы дают черный кофе! Впрочем, в сравнении с благодетельностью запаздывающего времени это сущие пустяки».
Я не спеша разделся и залез под перину рядом с отцом. Он не проснулся. Только храп его, взлетевший чересчур высоко, спустился на октаву ниже, отказавшись от чрезмерной декламационной напыщенности. Он стал как бы приватным храпом, храпом для собственного употребления. Я подоткнул вокруг отца перину, пытаясь, сколько возможно, защитить его от сквозящего из окна холода. И вскоре заснул.
2
Когда я проснулся, в комнате стояли сумерки. Отец, уже одетый, сидел за столом и пил чай, макая в стакан глазированные сухарики. Он был в почти еще новом черном костюме английского сукна, который сшил прошлым летом. Галстук, правда, был повязан несколько небрежно.
Лицо у него было бледное и болезненное. Видя, что я уже не сплю, он с радостной улыбкой обратился ко мне:
– Как я счастлив, Иосиф, что ты приехал. Какой сюрприз! Я чувствую себя здесь так одиноко. Разумеется, в моем положении не след жаловаться, я прошел и через гораздо худшее, и если уж захотеть извлекать facit[10]10
здесь выгоду, пользу (неправ. лат.).
[Закрыть] из каждой ситуации… Впрочем, не стоит об этом. Представь себе, в первый же день мне тут подали великолепный filet de boeuf[11]11
говяжье филе (франц.).
[Закрыть] с грибами. Ах, Иосиф, то было просто какое-то адское мясо! Предостерегаю тебя – если тебе когда-нибудь здесь подадут filet de boeuf… До сих пор я ощущаю этот огонь в животе. И диарея, непрекращающаяся диарея… Я просто не знал, что делать. Да, должен сообщить тебе новость, – сменил он тему. – Не смейся, но я снял тут помещение под лавку. Да, да. И могу себя только поздравить. Поверишь ли, я тут ужасно скучал. Ты даже представить не можешь, какая тут тоска А так у меня хотя бы приятное занятие. Нет, нет, не думай, ничего роскошного. Откуда! Гораздо скромней, чем наша давняя лавка. По сравнению с той просто ларек. У нас в городе я стыдился бы такой конуры, но здесь, где пришлось отказаться от многих наших претензий – ведь правда Иосиф?.. – Отец грустно засмеялся. – Вот так потихоньку и живем.
Мне стало не по себе. И неловко, оттого что отец смешался, заметив, что использовал не вполне уместное выражение.
– Вижу, ты еще спишь, – бросил он через секунду. – Поспи еще немножко, а потом навести меня в лавке. Договорились? Я как раз собрался туда, надо взглянуть, как идут дела. Ты не представляешь себе, до чего было трудно получить кредит, с каким недоверием относятся здесь к купцам старой школы, с почтенным прошлым… Помнишь заведение оптика на рыночной площади? Вот рядом с ним и находится наша лавка. Вывески пока еще нет, но ты найдешь. Там трудно не найти.
– Папа, вы что, не наденете пальто? – с беспокойством поинтересовался я.
– Представь себе, мне забыли запаковать пальто – я не нашел его в сундуке, но мне оно тут и не к чему. Здесь такой мягкий климат, такая ласковая атмосфера!..
– Папа, возьмите мое пальто, прошу вас надеть его, – настаивал я. Но отец уже взял шляпу, помахал мне рукой и выскользнул из комнаты.
Нет, спать я больше не хотел. Чувствовал я себя отдохнувшим и… голодным. Я с удовольствием вспомнил буфет, заставленный пирожными. Одеваясь, я представлял себе, как воздам должное всем этим лакомствам. Первым делом, конечно, песочным пирожным с яблоками, но не обойду вниманием и бисквиты с начинкой из померанцевых корочек, которые я там приметил. Я встал перед зеркалом, чтобы завязать галстук, однако его поверхность затаила, подобно сферическому зеркалу, мой облик где-то в глубине, во вращающихся мутных недрах. Тщетно я подходил ближе, пятился, регулируя расстояние – мое отражение не желало выплывать из серебряной текучей мглы. «Надо будет сказать, чтобы сменили зеркало», – подумал я и вышел из комнаты.
В коридоре было темно. Впечатление торжественной тишины усиливало тусклое синеватое пламя газовой лампы, что горела на повороте. В этом лабиринте дверей, ниш, закоулков я не мог вспомнить, как пройти в ресторан. «Выйду-ка я в город, – неожиданно решил я. – Там и перекушу. Надеюсь, здесь найдется какая-нибудь приличная кондитерская».
Сразу за дверью меня окутал тяжелый, влажный и сладкий воздух, присущий здешнему особому климату. Хроническая серость атмосферы спустилась еще на несколько оттенков глубже. Ощущение, будто смотришь на день сквозь траурный покров.
Я никак не мог насытить зрение сочной бархатистой чернотой самых темных партий, пригашенной гаммой плюшевых пепельно-серых оттенков, пробегающих пассажами приглушенных педалью тонов по клавишам этого пейзажного ноктюрна. Изобильный волнистый воздух охлопал мне лицо, точно мягкая ткань. В нем была пресная сладость отстоявшейся дождевой воды.
И опять возвращающийся в себя шум черных лесов, глухие аккорды, взволновывающие пространства уже за гранью слышимого! Я оказался на задах Санатория, на заднем дворе. Оглянулся на высокие стены главного подковообразного здания. Все окна были закрыты черными ставнями. Санаторий спал глубоким сном. Я прошел через железные решетчатые ворота. Рядом с ними была пустая собачья будка – необычно громадная. И опять меня поглотил, принял в себя черный лес, и я шел сквозь его темноту по бесшумной палой хвое ощупью, словно у меня были завязаны глаза. А когда стало чуть светлей, между деревьями появились очертания домов. Пройдя еще несколько шагов, я оказался на широкой городской площади.
Какое странное, обманчивое сходство с рыночной площадью нашего родного города! Как, в сущности, схожи все рыночные площади в мире! Почти те же самые дома и лавки!
Людей на улицах почти не было. Траурный поздний полусвет неясной поры дня порошил с неопределенно серого неба. Я с легкостью читал все афиши и вывески, однако ничуть не удивился бы, если бы мне сказали, что сейчас глубокая ночь. Только некоторые лавки были открыты. На других железные жалюзи были опущены лишь наполовину, явно закрывали их в спешке. Плотный и обильный воздух, воздух упоительный и богатый кое-где сглатывал часть панорамы, смывал, точно мокрой губкой, один-два дома, фонарный столб, кусок вывески. Порой мне трудно было поднять веки, они опускались то ли от странной лености, то ли от сонливости. Я стал искать лавку оптика, о которой говорил отец. Он упомянул ее как нечто хорошо мне известное, словно бы апеллируя к моему знанию здешней топографии. Неужто он забыл, что я тут впервые? Нет, у него явно все перепуталось в голове. Но чего ожидать от отца, реального лишь наполовину, живущего столь условной, относительной жизнью, которая ограничена таким количеством оговорок! Трудно скрывать, что требовалось немало доброй воли, чтобы признать за ним эту специфическую разновидность бытия. То был достойный жалости эрзац жизни, зависящий от всеобщей снисходительности, от того самого consensus omnium[12]12
общее согласие (лат.).
[Закрыть], из которого она черпала скудные свои соки. Было ясно, что лишь благодаря тому, что все согласно смотрели сквозь пальцы, дружно прикрывали глаза на очевидные и вопиющие изъяны подобного положения вещей, эта плачевная видимость жизни и могла удерживаться некоторое время в ткани реальности. Малейшее возражение способно было пошатнуть ее, ничтожное дуновение скептицизма повергнуть. Мог ли Санаторий доктора Готарда обеспечить отцу эту тепличную атмосферу всеобщей терпимости, оберечь от холодных сквозняков трезвости и критицизма? Оставалось только удивляться, что при столь шатком, сомнительном положении вещей отцу еще удавалось так здорово держаться.
Я обрадовался, увидев витрину кондитерской, уставленную бабками и тортами. У меня разыгрался аппетит. Я распахнул стеклянную дверь с надписью «мороженое» и вошел в темный зал. Там пахло ванилью и кофе. Из глубины комнаты ко мне вышла барышня со смазанным сумраком лицом и приняла заказ. Наконец-то после долгого перерыва я смог досыта усладить себя великолепными пончиками, которые я макал в кофе. В темноте вокруг меня плясали кружащиеся арабески сумрака, а я все ел и ел пончики, чувствуя, как кружение тьмы проникает мне под веки, исподволь теплой своей пульсацией, бесчисленным роем ласковых прикосновений заполняет мои внутренности. Теперь уже только прямоугольник окна светился серым пятном в совершенной тьме. Тщетно стучал я ложечкой по краю стола. Никто не пришел взять у меня деньги за съеденное. Я оставил на скатерти серебряную монету и вышел на улицу. Рядом в книжной лавке было еще светло. Приказчики раскладывали книжки. Я спросил, где лавка отца. Второй дом за нами – объяснили мне. Один услужливый молодой человек даже подбежал к двери и показал мне, куда идти. У отцовской лавки был стеклянный портал, еще не оформленную витрину закрывала серая бумага. Уже в дверях я с удивлением обнаружил, что в лавке полно покупателей. Отец стоял за прилавком и, слюня карандаш, суммировал позиции длинного счета. Покупатель, для которого готовили этот счет, склонился над прилавком и, ведя пальцем по суммируемым цифрам, вполголоса считал. Отец глянул на меня поверх очков и, не отрывая пальца от пункта, на котором прервался, бросил мне:








