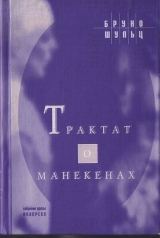
Текст книги "Трактат о манекенах"
Автор книги: Бруно Шульц
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Но прежде чем мы приступим к описанию дальнейших событий той памятной зимы, следует коротко напомнить об инциденте, который в нашей семейной хронике обычно стыдливо затушевывается. Что случилось с дядей Эдвардом? В ту пору он, пышущий здоровьем и энергией, не предчувствуя ничего, приехал к нам погостить, оставив в провинции жену и малолетнюю дочку, которые с нетерпением ждали его возвращения, – приехал в наилучшем настроении, чтобы немножко развеяться, разлечься вдали от семьи. Так что же произошло? Отцовские эксперименты произвели на него ошеломляющее впечатление. После первых же опытов дядя Эдвард встал, снял пальто и всецело предался в распоряжение моего отца. Безоговорочно! Слово это он произнес, крепко пожимая отцу руку и упорно глядя ему в глаза. Отец понял. Прежде всего он убедился, нет ли у дяди традиционных предубеждений по части principium individuationis. Оказалось, нет, совершенно никаких. Дядя был либерален и лишен предрассудков. Единственной его страстью было желание служить науке.
Поначалу отец еще оставлял ему немножко свободы. Он делал приготовления к решающему эксперименту. Дядя Эдвард пользовался предоставленной свободой, осматривался в городе. Он купил себе велосипед неимоверных размеров с огромным передним колесом и, объезжая рыночную площадь, заглядывал с высоты седла в окна вторых этажей. Проезжая мимо нашего дома, он изысканно приподнимал шляпу, приветствуя стоящих в окне дам. У него были спирально закрученные усы и бородка клинышком. Однако вскоре он убедился, что велосипед не способен ввести его в глубинные тайны механики, что гениальный этот механизм не в состоянии постоянно вызывать метафизическую дрожь. И вот тогда-то начались эксперименты, для которых отсутствие у дяди предубеждений касательно principium individuationis оказалось столь необходимым. У дяди Эдварда не возникло никаких возражений против того, чтобы для блага науки позволить физически свести себя до голого принципа молоточка Ниффа. Без всяких сожалений он согласился на постепенное изъятие всех своих свойств и качеств с целью обнажения глубинной сущности, идентичной, как он давно предчувствовал, с вышеназванным принципом.
Запершись у себя в кабинете, отец начал поэтапный разбор сложной индивидуальности дяди Эдварда, мучительный психоанализ, растянувшийся на много дней и ночей. Стол в кабинете постепенно заполнялся разобранными комплексами дядюшкиной личности. Поначалу дядя, сильно уже упрощенный, участвовал в наших семейных трапезах, пытался поддерживать разговор, разок даже прокатился на велосипеде. Потом, видя, что становится все более и более разукомплектованным, отказался от всего этого. В нем появилась своеобразная стыдливость, характерная для той стадии, в какой он находился. Дядя стал избегать людей. Тем временем отец все ближе подходил к цели своих операций. Он упростил дядю Эдварда до необходимого минимума, одно за другим убрал все несущественное. Поместил его высоко в нише на лестничной клетке, организовав его составляющие по принципу элемента Лекланше. Стена в том месте была покрыта плесенью, затянута белым плетением грибка. Отец, без всяких угрызений совести используя весь капитал дядиного энтузиазма, растянул его запас на всю длину сеней и левого крыла дома. Перемещаясь на стремянке вдоль стены темного коридора, он вбивал маленькие гвоздики на всем пути нынешней дядюшкиной жизни. В те дымные желтоватые пополудни в коридоре было почти совсем темно. С горящей свечкой в руке отец пядь за пядью освещал вблизи трухлявую стену. Ходят слухи, будто в последнюю минуту дядя Эдвард, до тех пор героически владевший собой, выказал некое недовольство. Поговаривают даже, будто дошло до бурного хотя и запоздалого взрыва, который едва не уничтожил почти завершенное дело. Но проводка была уже готова, и дядя Эдвард, всю жизнь бывший образцовым мужем, отцом и коммерсантом, в конце концов и в этой своей роли подчинился высшей необходимости.
Функционировал дядя просто великолепно. Не было случая, чтобы он отказал в послушании. Выйдя из туманной своей усложненности, в которой прежде он столько раз терялся и путался, дядя наконец обрел чистоту цельного и прямолинейного принципа и отныне должен был всецело подчиняться ему. Отныне ценой своей с трудом управляемой многосложности он получил простое беспроблемное бессмертие. Был ли он счастлив? Тщетно об этом спрашивать. Подобный вопрос имеет смысл, когда касается существ, в которых заключено богатство альтернатив и возможностей, благодаря чему актуальную действительность можно противопоставить половинчато реальным вероятностям и отразить ее в них. Но у дяди Эдварда не было альтернатив; противопоставления «счастливый – несчастливый» для него не существовало, поскольку до самых последних границ он был идентичен самому себе. Просто невозможно было удержаться от одобрения, видя, как пунктуально, как четко он функционирует. Даже его жена, тетя Тереса, через некоторое время приехавшая к нам следом за ним, не могла утерпеть и чуть ли не ежеминутно нажимала на кнопку, чтобы услышать зычные, громкие звуки, в которых она распознавала былой тембр голоса дяди Эдварда, когда он впадал в гнев. Ну а что до его дочки Эдзи, то можно сказать одно: от карьеры отца она была в восторге. Правда, потом она в определенном смысле отыгралась, отомстила мне за действия моего отца, но это уже совсем другая история.
2
Дни шли за днями и становились все длинней. Непонятно было, что с ними делать. Избыток времени, еще сырого, еще тщетного, которое некуда применить, удлиняло вечера пустыми сумерками. Аделя, рано вымыв посуду и убравшись в кухне, беспомощно стояла на крыльце, бездумно глядя в бледно краснеющую вечернюю даль. В тупой задумчивости она таращила красивые и порой такие выразительные глаза – выпуклые, большие, блестящие. Кожа ее, под конец зимы помутневшая и посеревшая от кухонного чада, теперь под воздействием весенней гравитации луны, нарастающей от четверти к четверти, омолаживалась, в ней появлялись молочный отблеск, опаловые оттенки, эмалевая глянцевитость. Сейчас она торжествовала над приказчиками, которые теряли уверенность под ее темными взглядами, выпадали из роли пресыщенных завсегдатаев кабаков и лупанаров и, потрясенные ее новой красотой, искали иной платформы для сближения, готовые к уступкам ради новой системы отношений, к признанию конструктивных фактов.
Вопреки всеобщим ожиданиям эксперименты отца не вызвали переворота в будничной жизни. Прививка месмеризма на тело современной физики оказалась неплодотворной. Не то чтобы в открытиях отца не была зерна истинности. Но, как известно, вовсе не истина решает успех идеи. Наш метафизический голод весьма ограничен и быстро насыщается. Отец как раз стоял на пороге новых небывалых открытий, когда во всех нас, в ряды его приверженцев и адептов стали закрадываться враждебность и разложение. Все чаще проявлялись признаки недовольства, доходящие до открытых протестов. Наша природа бунтовала против расшатывания фундаментальных законов, с нас было достаточно чудес, мы жаждали вернуться к старой, но такой надежной и солидной прозе извечных порядков. И отец понял это. Понял, что зашел слишком далеко, и придержал полет своих идей. Круг элегантных адептов с закрученными усами таял с каждым днем. Желая отступить с честью, отец собирался прочитать последнюю, завершающую лекцию, как вдруг новое событие направило всеобщее внимание в совершенно неожиданную сторону.
Однажды мой брат, возвратясь из школы, принес неправдоподобную и тем не менее правдивую весть о скором конце света. Мы велели ему повторить ее, решив, что ослышались. Однако нет. Так именно и звучала эта невероятная и во всех отношениях непостижимая новость. Да, да мир в том состоянии, в каком он пребывал, неготовый и незавершенный, в случайной точке времени и пространства, без подведения счетов, не добежав ни до какого финиша, как бы на полуслове, без точки и восклицательного знака, без Божьего суда и гнева – прямо-таки словно по доброму согласию, без протестов, в соответствии с обоюдной договоренностью и взаимно признанными принципами – так вот, повторяю, мир должен был гигнуться, гигнуться окончательно и бесповоротно. Нет, то будет вовсе не эсхатологический, давным-давно предсказываемый пророками трагический финал и последний акт Божественной комедии, Это будет, скорей, велосипедно-цирковой, оппля-престидижитаторский, блистательно-фокус-покусный и поучительно-экспериментальный конец света при одобрении всеми духами прогресса. Практически не было таких, кого бы он не убедил. Испугавшихся и протестующих мгновенно заглушили. Как они не могут понять, что это небывалый шанс – самый прогрессивный и вольнодумный конец света на уровне времени, прямо-таки почетный и приносящий честь наивысшей Мудрости? Все с запалом убеждали друг друга, рисовали ad oculos[18]18
наглядно (лат.).
[Закрыть] на вырванных из записных книжек листках, неопровержимо доказывали и на голову разбили оппонентов и скептиков. В иллюстрированных журналах появились гравюры на целую страницу, предвосхищающие картины катастрофы в эффектной постановке. На них изображались многолюдные города, охваченные ночной паникой под небом, блистающим световыми сигналами и феноменами. Уже отмечалось поразительное воздействие далекого болида, чья параболическая вершина, неизменно нацеленная на земной шар, повисла на небе в недвижном полете, приближаясь со скоростью столько-то миль в секунду. Как в цирковом фарсе взлетали шляпки и котелки, волосы вставали дыбом, зонтики открывались сами собой, парики улетали, обнажая лысины, – и все это под черным безмерным небосклоном, мерцающим одновременным тревожным сигналом всех звезд.
Что-то праздничное влилось в нашу жизнь, какой-то энтузиазм и пылкость, какая-то значительность и торжественность вошла в наши жесты, расширила нам груди космическим дыханием. Земной шар по ночам гудел торжественным гулом солидарного восторга многотысячных толп. Настали черные и огромные ночи. Звездные туманности бесчисленными роями сгущались вокруг земли. В черных межпланетных просторах эти рои стояли, по-разному размещенные, пересыпая метеорную пыль из бездны в бездну. Затерянные в бесконечных пространствах, мы почти утратили под ногами земной шар и, сбитые с толку, спутав направления, висели, как антиподы, вниз головой над перевернувшимся зенитом, ведя послюненным пальцем через целые световые годы от звезды к звезде. Так мы странствовали по бесконечным ступеням ночи – эмигранты с покинутого земного шара, обшаривающие бессчетное кишение звезд. Открылись последние рогатки, и велосипедисты вкатились в черный звездный простор, застыли, встав на дыбы на своих велосипедах, в недвижном полете в межпланетной пустоте, раскрывающейся все новыми и новыми созвездиями. Летя по этому тупиковому пути, они намечали дороги трассы бессонной космографии, а по сути, черные, как сажа, словно засунули голову в печной дымоход, пребывали в планетарной летаргии, последней мете и цели всех этих слепых полетов.
После короткого, безалаберного, наполовину проспанного дня ночь открывалась как огромная оживленная отчизна. Толпы выходили на улицы, высыпали на площади, голова к голове, словно кто-то выбил крышки из бочонков с черной икрой, покатившейся потоками поблескивающей дроби, плывущей точно реки под черной, как смола, ночью, наполненной шумом звезд. Лестницы подламывались под тяжестью тысячных толп, во всех окнах появлялись отчаянные фигурки, люди-спички на дрыгающих лучинках в лунатическом раже сходили с подоконников, творили, как муравьи, живые цепи, выстраивали, стоя друг у друга на плечах, движущиеся многоярусные пирамиды и колонны, которые сплывали из окон на платформы площадей, освещенные огнями смоляных бочек.
Прошу простить меня, если, описывая эти шумные многолюдные сцены, я впадаю в преувеличение, невольно беря за образец некоторые старинные гравюры в великой книге бедствий и катастроф человеческого рода. Ведь все они стремятся к единому праобразу, и гиперболическая крайность, гигантский пафос этих сцен свидетельствует, что здесь мы выбили дно извечной бочки воспоминаний, некоей прабочки мифа и вломились в дочеловеческую ночь, наполненную клокочущей стихией, булькающей амнезией, и уже не способны сдержать поднявшееся наводнение. Ах, эти рыбные и ройные ночи, кишащие звездами, сверкающие их чешуей, ах, эти косяки крохотных ртов, что неустанно втягивают мелкими голодными глоточками все невыпитые струи тех черных проливных ночей! В какие гибельные вентери, в какие скорбные мрежи тянулись эти темные тысячерично размножившиеся поколения?
О небеса тех дней, все в световых сигналах и метеорах, исписанные расчетами астрономов, тысячекратно скалькированные, покрытые цифрами, помеченные водяными знаками алгебры. С лицами, поголубевшими от великолепия ночей, мы в сидерическом ослеплении блуждали по небесам, пульсирующим взрывами далеких солнц, – людское скопление, широко растекшееся по мелям млечного пути, что разлился на все небо, человеческие потоки, над которыми возвышались велосипедисты на своих паучьих аппаратах. О, звездная арена ночи, разрисованная до самых дальних пределов эвольвентами, спиралями, зигзагами и петлями этих эластичных проездок, о, циклоиды и эпициклоиды, вдохновенно исполненные по диагоналям небосвода, теряющие проволочные спицы, безразлично лишающиеся блестящих ободов и докатывающиеся уже нагие, уже только на чистой велосипедной идее до сияющего финиша! Именно этими днями датируется новое, тринадцатое созвездие, принятое навечно в состав Зодиака и с тех пор горящие на небе наших ночей – созвездие Велосипедиста.
В те ночи настежь распахнутые квартиры зияли пустотой в свете отчаянно коптящих ламп. Оконные занавески, выброшенные далеко в ночь, колыхались, и анфилады комнат так и стояли во всеобъемлющем постоянном сквозняке, который пронизывал их насквозь тугой, несмолкающей, пронзительной тревогой. То подавал сигнал тревоги дядя Эдвард. Да-да, он наконец потерял терпение, разорвал все узы, растоптал категорический императив, вырвался из жестких правил высокой своей нравственности и бил тревогу. С помощью длинной палки его тут же заткнули, попытались кухонными тряпками остановить внезапный взрыв, но даже забитый кляпом он бушевал, дребезжал исступленно, неистово; ему уже было все равно, и жизнь уходила из него этим дребезжанием; у всех на глазах он истекал кровью в гибельном ожесточении, и тут уж ничем было не помочь.
Порой кто-нибудь на минуту вбегал в пустые комнаты, просквоженные этой яростной тревогой, проделывал на цыпочках несколько шагов среди ламп с высокими язычками пламени и в неуверенности замирал, словно ища чего-то. Зеркала безмолвно вбирали его в свою прозрачную глубь, молча делили между собой. Сквозь светлые и пустые комнаты несся неистовый вопль дяди Эдварда, и одинокий дезертир звезд, полный угрызений совести, словно он пришел сюда совершить нечто постыдное, украдкой отступал из квартиры, оглушенный тревогой, и направлялся к двери, провожаемый чуткими зеркалами, которые пропускали его сквозь свой поблескивающий строй, а в их глубине тем временем разбегался на цыпочках в разные стороны рой испуганных двойников, прижимающих палец к губам.
Вновь перед нами открывалось небо со своими бесконечными просторами, усеянными звездной пылью. На нем из ночи в ночь и с ранних сумерек появлялся гибельный болид, косо наклоненный, повисший на вершине своей параболы, нацеленный на землю, безрезультатно заглатывающий по стольку-то тысяч миль в секунду. Все взоры были устремлены к нему, покуда он, металлически светящийся, округлый, с математической точностью исполнял свой каждодневный урок. И как же трудно было поверить, что эта крохотная козявка, невинно сияющая среди бесчисленных ров звезд, и есть тот огненный перст Валтасара, что выписывает на таблице неба предвещение гибели нашего земного шара. Однако каждый ребенок знал наизусть роковое уравнение, оправленное в трубку двойного интеграла, уравнение, из которого при подстановке в него граничных условий следовала наша неуклонная погибель. Что могло спасти нас?
Когда чернь разбежалась по бескрайней ночи, теряясь среди звездного света и феноменов, отец тихонько остался дома. Он единственный знал тайный выход из этой ловушки, тайные кулисы космологии и незаметно улыбался. Заткнутый тряпками дядя Эдвард отчаянно вызванивал тревогу, а отец тихо засунул голову в душник. Было там глухо и черно, хоть глаз выколи. Веяло теплым воздухом, сажей, укромной тишиной и спокойным пристанищем. Отец уселся поудобнее, с блаженством прикрыл глаза. В этот черный скафандр дома, вынырнувший над крышей в звездную ночь, падал слабый лучик звезды; он зачинался завязью в черной реторте трубы и, преломленный, словно в линзах объектива, почковался светом в печи. Отец осторожно подкручивал винт микрометра, и вот медленно в поле зрения объектива вошло это роковое светлое, как луна, творение, поднесенное окуляром на расстояние вытянутой руки, пластичное и высвеченное, как алебастровый рельеф, в безмолвной черноте межпланетной пустоты. Было оно чуть-чуть щербатое, как бы изъеденное оспой, – родной брат луны, потерявшийся двойник, который после тысячелетних странствий возвращается к отчей планете. Отец перемещал его перед вытаращенным, напряженно всматривающимся глазом точно круг швейцарского сыра со множеством дырок, резко освещенный бледно-желтый круг, покрытый белой, словно проказной, коростой. Держа руку на винте микрометра, отец глазом, ярко освещенным светом окуляра, холодно исследовал известковый шар, видел на поверхности сложный рисунок болезни, которая точила его изнутри, извилистые ходы, что проделывал короед-типограф в сероватой изъеденной поверхности. Отец вздрогнул, заметив свою ошибку: нет, то вовсе не был швейцарский сыр, то явно был человеческий мозг, анатомический препарат мозга во всей сложности его строения. Отец четко видел границы долей, извилины серого вещества. Он напряг зрение и даже различил еле видимые буковки надписей, расходящихся в разных направлениях на запутанной карте полушарий. Похоже, мозг был захлороформирован, усыплен и во сне счастливо улыбался. Добираясь до ядра улыбки, отец сквозь сложный поверхностный рисунок увидел сущность этого творения и тоже молча улыбнулся. Чего только не откроет нам верная печная труба собственного дома, черная, как подмышка негра! Сквозь извилины серого вещества, сквозь мелкую зернистость отеков отец увидел четко просвечивающий контур эмбриона, характерно скорчившегося, прижимающего кулачки к лицу, спящего блаженным сном вниз головой в светлой жидкости амниона. В этой позиции отец и покинул его. Испытывая облегчение, он встал и захлопнул дверцу душника.
И все, и ничего более. Как так! А что же стало с концом света, с этим великолепным финалом после столь великолепно развернутой интродукции? Тут – глаза долу и улыбка. Неужели в расчеты вкралась ошибка, крохотная неточность в суммировании, случайная описка при копировании цифр? Ничего подобного. Расчеты были точны, в колонки цифр не закралось ни единой ошибочки. Так что же в таком случае произошло? Прошу послушать. Болид неутомимо мчался, несся, словно ретивый конь, стремясь вовремя прийти к финишу. Вслед за ним бежала мода сезона. Какое-то время шел он во главе эпохи, которой придавал свой облик и имя. Потом оба этих неутомимых скакуна сравнялись и в отчаянном галопе летели вровень, и в такт им бились наши сердца. Однако затем мода постепенно вышла вперед, на длину комариного носа опередив неутомимый болид. И этот миллиметр решил судьбу кометы. Да, судьба ее была предрешена, она раз и навсегда отстала. Сердца наши уже бежали вместе с модой, оставив сзади великолепный болид; мы равнодушно взирали, как он тускнел, уменьшался и наконец, поникший, наклонясь как-то боком, покорно остановился на горизонте, уже понапрасну беря последний поворот на своей искривленной траектории – далекий, синеватый и на веки веков неопасный. Он бессильно сошел с дистанции, сила актуальности исчерпалась, никто больше не интересовался проигравшим. Предоставленный собственной судьбе, он потихоньку увядал среди всеобщего безразличия.
Мы же, понурив головы, возвращались к будничным делам, обогащенные еще одним разочарованием. Торопливо сворачивались космические перспективы, жизнь вернулась в обычную колею. В ту пору мы без просыпу спали днем и ночью, отсыпая потраченное время. Сморенные сном, мы лежали вповалку в темных уже домах, уносимые на собственном дыхании по тупиковому пути беззвездных мечтаний. И, плывя так, колыхались – пискливые брюхи, кобзы и волынки, – продираясь напевным храпом сквозь дебри замкнутых и уже беззвездных ночей. Дядя Эдвард навеки умолк. В воздухе еще вибрировало эхо его отчаянной тревоги, но сам он уже умер. Жизнь ушла из него вместе с этим дребезжащим пароксизмом, цепь разомкнулась, и теперь он беспрепятственно вступал на все более высокие уровни бессмертия. Один лишь отец бодрствовал в темной квартире, тихо сновал по комнатам, наполненным мелодичным сопением. Иногда он открывал дверцу душника и с улыбкой заглядывал в темную бездну, где светозарным сном спал вечно улыбающийся Гомункулус, замкнутый в стеклянной ампуле, омытый светом, как неоном, уже неактуальный, вычеркнутый, сданный в архив – единица хранения в великой регистратуре неба.








