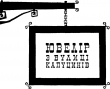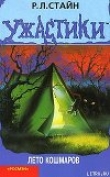Текст книги "В волчьей пасти"
Автор книги: Бруно Апиц
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
– Кропинского.
– Да, Кропинского, – сердито бросил он. Молодой комендант все больше терял власть над собой и допускал ошибки.
– Эти двое, можно сказать, окачурились вовремя! – произнес он, скривив губы. Рейнебот обладал способностью даже грубое слово преподносить элегантно. – Вы, наверно, рады, а? – Его взгляд скользнул по лицу Кремера. – Но тут вышла маленькая неполадка. Перед своей блаженной кончиной оба покаялись.
И снова быстрый взгляд.
Кремер высоко подмял брови.
– Значит, ребенка нашли?
Он перехитрил лису. Рейнебот сделал еще одну ошибку.
– Ребенка?.. Ему я очень благодарен. Он навел нас на след.
Теперь ложь стала явной! Ведь «покаяться» мог только Гефель, Кропинский ничего не знал. А Гефель был жив и ни в чем не признался!
Так они еще побеседовали, ходя все вокруг да около. Рейнебот опасался, что наговорил лишнего. Но ему хотелось просмаковать последнее удовольствие. Он вплотную подошел к Кремеру и снова, казалось, прицелился через прорезь и мушку:
– Значит, спишите со счета.
– Так точно!
Кремер выдержал его взгляд, даже глазом не моргнув. Он и Рейнебот стояли друг против друга и ценой огромного напряжения держали себя в руках. Взгляд Рейнебота стал холодным и зловещим, молодой комендант чувствовал, как все внутри у него уже готово обрушиться на Кремера. Но он ни малейшим жестом не выдал своего состояния и только коротко кивнул:
– Идите!
Когда Кремер ушел, Рейнебот отшвырнул сигарету. «Психологический путь» он сам себе отрезал!..
«А что, если они и в самом деле прикончили Гефеля? Вычеркивать из состава живого человека как мертвого? Этого еще никогда не было!» С тяжелыми мыслями вернулся Кремер в свое помещение.
Неужели Рейнебот сказал ему правду? Но где кончалась правда и где начиналась ложь? Дело ведь шло не о ребенке!
Как тревожны и грозны были часы с того момента, как Гефеля посадили в карцер! Каждый истекавший час мог взорваться изнутри, как снаряд. Тогда разом высыпали бы блокфюреры, бросились в бараки лагеря, туда, где можно найти товарищей из аппарата. Меньше чем за час они согнали бы всех этих людей в одно место. И карцер стал бы их последним бивуаком!
Если Кремеру, когда он спешил к Рейнеботу, казалось, будто он ступает по тонкому льду, то обратный путь он совершал словно по узким мосткам над пропастью. Едва он успел обогнуть здание канцелярии, как из громкоговорителя у ворот разнеслось:
– Лагерного электрика к воротам!
Кремер остановился. Приказ повторили:
– Лагерного электрика к воротам, живо!
Кремер повернулся и побежал к бараку электриков. Шюпп, с ящиком инструментов через плечо, шел ему навстречу.
– Смотри-ка, Вальтер, дело клеится!
Они быстро обменялись новостями.
– Гефель якобы умер…
У Шюппа от ужаса округлились глаза.
– Беги, Генрих, – напутствовал его Кремер, – может, удастся, узнаешь точнее.
Шюпп поспешил дальше. Кремер смотрел ему вслед.
Ферсте сдержал слово. По непонятной причине в карцере погасло электричество. Перегорели предохранители. Шюпп обследовал кипятильник в помещении Мандрила и потребовал, чтобы Ферсте ему помог. Мандрил с недоверчивым видом стоял рядом, он неохотно допускал заключенных в свои владения. Между Шюппом и Ферсте установилось безмолвное понимание. Шюпп избегал всякой интимности. Кратко и деловито он объяснил уборщику, что тот должен делать: держать кипятильник, пока сам он отвинчивает гайки. Обстоятельно осмотрел он внутренности кипятильника и не нашел никакого повреждения.
– Кипятильник в порядке, – объявил он и добавил, переходя на словоохотливый тон: – В случае короткого замыкания обычно виноваты эти штуки.
– Перестань болтать, – грубо оборвал его Мандрил, – и чини, что надо.
– Так точно, гауптшарфюрер, – послушно отозвался Шюпп и стал обращаться к Ферсте лишь с деловыми замечаниями.
Проверяя выключатель, он заметил:
– Проводка, кажется, мертва.
Верным чутьем заключенного уборщик тут же понял шифр намека.
Контакт, установившийся между заключенными, дал им возможность, несмотря на присутствие Мандрила, объясняться и дальше.
– Гауптшарфюрер уже сам исследовал аппарат и ничего не нашел, – сказал Ферсте.
Шюпп безобидным замечанием стер шифр:
– Придется осмотреть проводку. Где-нибудь должно быть короткое замыкание.
«Они ищут тех, кто в аппарате, а Гефель не умер. Он пока ни в чем не признался». Так Шюпп истолковал иносказание Ферсте. Это были ценные сведения. Но как устроить, чтобы с помощью Ферсте быть в курсе дальнейшей судьбы обоих арестованных? Не мог же Шюпп целыми днями возиться с ремонтом проводки!
– Зачем тебе нужно осматривать проводку? – брюзгливым тоном осведомился Мандрил.
Шюпп успокоил его.
– Это пойдет быстро, гауптшарфюрер. Вероятно, где-нибудь порвался провод.
Он попросил Ферсте принести стремянку и принялся осматривать провода, шедшие под потолком. Ферсте держал лестницу. Начав с помещения Мандрила, они метр за метром продвигались в глубь темного коридора. Мандрил стоял в дверях своей комнаты и наблюдал за ними. С этим мрачным зверем надо было обращаться осторожно. Шюпп молча продолжал работу. В то же время мозг его усиленно изыскивал способ безопасно поговорить с Ферсте. Они молчали, но напряженно ждали, чтобы сказать друг другу хоть несколько слов, а это стало бы возможно, если бы Мандрил не шел следом. Они двигались по коридору все дальше, и расстояние между ними и Мандрилом увеличивалось. Но, может быть, он крался за ними?
Чтобы усыпить его подозрения, они развили усердную деятельность, громко произнося слова, предназначенные для слуха Мандрила: «Поставь стремянку чуть круче… Так, хорошо… Держи крепко!..» В то же время они успевали тихо обмениваться другими словами.
– Зайду к тебе завтра…
Не дожидаясь ответа Ферсте, Шюпп поднялся по лесенке и стал возиться с проводом.
Оба не спускали глаз с Мандрила. Это не мешало Ферсте с интересом следить за работой электрика. Шюпп сошел вниз и, когда они вместе переносили стремянку, сказал:
– Ну, посмотрим теперь последний участок.
На что Ферсте шепотом ответил:
– Если Гефель сдаст, я нагнусь поправить башмак… Шюпп понял, этого было достаточно, чтобы наладить дальнейшую передачу известий. Он влез на стремянку и вскоре крикнул Ферсте:
– Все в порядке!
Они обменялись взглядом, все необходимое было сказано. Вместе понесли они стремянку по коридору.
– Ну, что там? – злобно заворчал Мандрил.
Шюпп поднял плечи, выражая сожаление.
– Здесь я в проводке ничего не нахожу. Надо выйти наружу и осмотреть ввод.
Воздушный провод под фронтоном здания, опускаясь, переходил в подземную линию. Место соединения находилось невысоко над землей. Здесь провод был порван. Шюпп усмехнулся. Ферсте был находчивый малый.
Шюпп тут же устранил небольшое повреждение и вернулся в карцер. Он ввинтил новые предохранители, и вспыхнул свет.
Скупой на слова Мандрил, по-видимому, был доволен.
– Что же там стряслось?
– Ничего особенного, гауптшарфюрер: короткое замыкание у ввода подземной линии.
– Почему же ты сразу не поглядел там?
Шюпп с невинным видом развел руками.
– Если бы можно было всегда заранее знать…
Мандрил не нашел что возразить электрику и отпустил его надменным кивком. Шюпп повесил свой ящик с инструментами через плечо. Когда Шюпп покидал карцер, Ферсте уже не обращал на него никакого внимания.
Шюпп сообщил Кремеру о том, что ему удалось узнать. Казалось бы, тот должен был слушать его с интересом. Староста лагеря, как обычно, сидел за столом, широко расставив локти и подперев кулаками подбородок. Но скоро он перестал воспринимать слова Шюппа, который красочно повествовал о том, как ему удалось перехитрить Мандрила. Гефель устоял!.. Лишь теперь Кремер понял, в каком волнении он жил с минуты ареста Гефеля. Он любил Гефеля, хотя и суровой любовью. Проклинал его, а теперь снова любил.
Один вопрос электрика вывел Кремера из задумчивости.
– Гефель входит в руководство? – И, словно этот вопрос испугал его самого, Шюпп быстро добавил – Ты можешь и не отвечать.
Кремер поднял глаза и молча посмотрел на Шюппа. Тот прочел в этом взгляде ответ и больше не стал спрашивать, ему было достаточно и этого. Они сидели друг против друга, занятые каждый своими мыслями. Кремер преодолел наконец свое волнение и почувствовал к Гефелю братское чувство.
– Из-за этой глупой истории с ребенком они теперь могут отправиться на тот свет.
Он задумчиво уставился перед собой.
– Надо рискнуть, – сказал Шюпп, – и вызволить их из карцера.
Кремер недоверчиво рассмеялся.
– Как ты это устроишь?
– Через Цвейлинга!
Ответ Шюппа был не случайным. Но Кремер покачал головой.
– Этот пес и упрятал их туда.
– Знаю, – кивнул Шюпп. – Пиппиг мне рассказал. Вот потому и надо попытаться. В штрафной команде ведь уже раз удалось.
Однако Шюпп не мог убедить Кремера.
– Там было совсем другое, – ответил он.
Несколько лет назад группа политических заключенных из-за широко задуманной провокации, которую подстроили уголовные элементы, попала в штрафную команду и была освобождена оттуда лишь благодаря сплоченности товарищей в лагере. Несмотря на возражения Кремера, Шюпп упорно отстаивал свою мысль. Он быстро наклонился к Кремеру.
– Цвейлинг хочет иметь лазейку и тут и там, но ни с кем не хочет связываться крепко. На этом можно сыграть. Надо напустить на него Пиппига. Может, мне поговорить с Пиппигом?
На миг в Кремере поднялось отвращение. Он не был против того, чтобы использовать эсэсовцев, когда требовалось отвести опасность от товарищей, – к этому уже прибегали в случае со штрафной командой. В тот раз товарищи попали в беду из-за уголовников. Теперь же именно из-за эсэсовца Гефелю и Кропинскому грозила гибель.
И как раз этот доносчик должен будет… Какая дикая мысль! Тем не менее Кремер стал напряженно размышлять. Между начальником лагеря и Клуттигом была вечная вражда. Клуттиг мирволил содержавшимся в лагере ворам, а начальник предпочитал политических. Если бы удалось натравить Цвейлинга на начальника лагеря…
Кремер верил, что у Пиппига хватит на это ловкости. Круглые глаза Шюппа с волнением следили за Кремером. Тот что-то ворчал, проводя ребром руки по столу, и не произносил ни да ни нет.
– Действуйте сугубо осторожно! – наконец промолвил он.
* * *
После разговора с Шюппом Пиппиг проникся надеждой через Цвейлинга помочь друзьям. Он выжидал случая завязать с Цвейлингом беседу. Такой случай скоро представился.
– Вы еще ничего не узнали насчет доносчика? – спросил однажды Цвейлинг Пиппига, когда тот принес ему в кабинет какую-то ведомость.
– Нет, гауптшарфюрер. Вероятно, нам так и не удастся ничего узнать.
– Отчего же?
Цвейлинг облизнул языком нижнюю губу.
Пиппиг был вылеплен из другого теста, чем чувствительный Гефель, и он смело пошел прямо к цели. Подобно канатоходцу, который осторожно и все же уверенно ставит ногу, Пиппиг выбирал слова, лежавшие на острой как нож грани двусмысленности.
– Негодяй слишком хорошо замаскировался, – сказал он и как бы между прочим добавил: – Но мы теперь знаем, зачем он это сделал.
– Это и мне любопытно.
– Он считает себя очень умным и хочет насолить начальнику лагеря.
– Зачем это? – настороженно спросил Цвейлинг.
Пиппиг медлил с ответом.
Он быстро соображал и так же быстро принял решение. Он ведь уже стоял на канате, и ему ничего не оставалось, как пройти по этому канату.
– Тут не приходится много спрашивать, гауптшарфюрер. Достаточно взглянуть на карту фронта.
Цвейлинг невольно обернулся к стене, на которой висела карта. Пиппиг напряженно следил за ним, и когда Цвейлинг снова посмотрел на него, на лице Пиппига играла многозначительная улыбка. Цвейлинг растерялся. Относилась ли эта улыбка к нему? Он тоже ходил по канату. Цвейлинг решил продолжить игру в прятки.
– Вы думаете, доносчик хочет иметь лазейку на случай, если все перевернется?
– Ясно, – сухо ответил Пиппиг.
Разговор заглох. Теперь Пиппиг должен был двинуться вперед в намеченном направлении.
– Если все перевернется… – повторил он слова Цвейлинга и жестом показал, как это произойдет. – Но на какую сторону перевернется? Этого никто не знает.
Цвейлинг откинулся в кресле и отозвался пустой и ничего не значащей фразой:
– Ну, ничего страшного, верно, не стрясется.
В Пиппиге напряжение потрескивало, как электрические искры: его намеки Цвейлинг понял.
– Это зависит от вас, гауптшарфюрер.
Цвейлинг снова облизал нижнюю губу. Он был не в меньшем напряжении, чем Пиппиг! Но Цвейлинг ничего не сказал, и Пиппиг вынужден был продолжать.
– Мы были бы рады сказать: «Гауптшарфюрер Цвейлинг молодчина – вызволил нам Гефеля и Кропинского из карцера…»
Цвейлингу стало жарко, – это было открытое предложение. В нем молниеносно сменялись противоположные побуждения. Пока еще он был защищен пропастью, которая лежала между ним и заключенными. Но рано или поздно все может рухнуть, и тогда они схватят его за горло: у тебя на совести Гефель и Кропинский! Перед эсэсовцами тоже вставало неумолимое «или – или». Для заключенных оно означало свободу или смерть, для эсэсовцев – борьбу до последнего человека или бегство в Неведомое. У Цвейлинга не было охоты участвовать в борьбе «до последнего человека». Предложение манило.
– Как же я могу это сделать? – неуверенно спросил он.
Победа! Пиппиг прошел по канату, и под ногами у него снова была твердая почва!
– Вам едва ли будет трудно поговорить с начальником лагеря. Вы ведь знаете, как высоко он ставит политических.
Цвейлинг порывисто встал и шагнул к окну. В нем шла внутренняя борьба. Вышвырнуть Пиппига вон или согласиться на предложение? Ему хотелось сделать и то и другое. Но вышло это крайне неуклюже. Вдруг, повернувшись к Пиппигу, он грубо сказал:
– Убирайтесь!
А когда Пиппиг был уже у двери, он крикнул:
– Держать язык за зубами, понятно?
Как было Пиппигу не понять! И он чистосердечно ответил:
– Что вы, гауптшарфюрер! О таких вещах ведь не болтают…
В Цвейлинге бушевала ярость. Он сел за стол, и взгляд его забегал по карте.
Всего лишь несколько дней назад ему пришлось удлинить стрелки до Майнца, а теперь они продвинулись уже до Франкфурта…
Наверху, в северной части западного фронта, стрелки указывали уже на Дуйсбург. Пройдет немного времени, и ему придется направить стрелки на Кассель. А тогда через Вестфалию и Гессен враги вломятся в Тюрингию…
Бесплодная ярость Цвейлинга, понимавшего, что он отдал себя в руки Пиппига, сменилась жгучим страхом. «У тебя на совести Гефель и Кропинский…» Сколько уверенности появилось вдруг у этих мерзавцев!..
В обеденный час Бохов зашел к Кремеру.
– Есть новости?
– Нет.
Бохов сжал губы. На лице у него была тревога.
– Что-нибудь случилось? – спросил Кремер.
Бохов не ответил. Он сдвинул шапку на затылок и хотел было сесть на стул, но раздумал. Решение обратиться к Кремеру, чтобы он поручил постороннему человеку спрятать оружие в более надежное место, чрезвычайно его тяготило. Впервые тайна выходила за круг посвященных. Кремер чувствовал, что в Бохове происходит внутренняя борьба.
– Ну, говори же!
Бохов вздохнул.
– Ах, Вальтер, что за жизнь, что за жизнь!.. Иногда я готов проклинать того, кто сейчас сидит там…
Он имел в виду Гефеля.
– Да полно тебе, – упрекнул его Кремер и тут же, успокаивая, добавил – Это ведь наш товарищ. Правда, он начудил, но зачем проклинать?.. Друг, не давай воли нервам!
Грубая сердечность Кремера пришлась Бохову по душе.
– Да-да, совершенно верно, совершенно верно… Но, видишь ли, есть еще одно дело, которое надо уладить, и притом быстро.
Кремер не был удивлен, узнав от Бохова, что вещевая камера служит одним из хранилищ оружия. Он знал человека, кому можно было поручить это задание, – Пиппиг!
– Я все устрою, не волнуйся, – успокоил он Бохова.
Тот назвал ему номера мешков и объяснил, где они висят. Потом сказал со вздохом:
– Самое скверное в этой истории то, что приходится стоять в стороне и нельзя ничего предпринять…
Кремер выпятил нижнюю губу.
– Почему ты считаешь, что нельзя ничего предпринять? Нам следовало бы, например, попытаться вытащить наших двоих товарищей из карцера.
Бохов рассмеялся, словно услышал шутку.
– Я уже кое-что предпринял…
Смех Бохова оборвался.
– Ты с ума спятил?
– Нет, – сухо ответил Кремер. – И, надеюсь, ты одобришь.
Он рассказал, о чем они сговорились с Шюппом.
– Тот, наверно, уже добрался до Пиппига. А на Пиппига ты можешь положиться: хитрейший малый! Он сумеет подцепить Цвейлинга на крючок. Разве нам не стоило попытаться?
– До чего мы дойдем… – проскрипел сквозь зубы Бохов и закрыл руками лицо. Покачивая головой, смотрел Кремер на этого волевого человека, у которого вдруг сдали нервы.
– Я всегда говорил себе: Бохов – это чурбан; его ничто не проймет. А теперь поглядите-ка на этот чурбан…
Бохов не откликался. Так приятно было укрыться за своими руками. Опустив их через некоторое время, он, устало улыбаясь, кивнул Кремеру.
– Ты прав, Вальтер, сейчас нельзя терять голову.
Он собрался уходить, но на мгновение задержался.
– А что касается Цвейлинга… хорошо, надо испробовать все…
Бохов направился к выходу.
С глубоким сочувствием смотрел Кремер ему вслед. Как устало опустились у Бохова плечи.
В тот же обеденный час Мандрил, сидя в казино, обратил внимание на заключенного, который в углу зала чинил один из столиков. С тупым любопытством Мандрил следил за тем, как столяр завинчивал тиски, которые крепко сжали склеиваемые деревянные части. В этом не было ничего особенного.
Однако вечером, придя еще раз в казино и потягивая шнапс, Мандрил вспомнил о тисках. Они вдруг пробудили его интерес. Он подошел к отставленному в сторону столику и принялся рассматривать инструмент. Наконец попытался отвинтить тиски, но они сидели прочно, и освободить их можно было только при большом усилии. В казино в это время оставалось уже мало посетителей. Несколько блокфюреров сидели в зале и наблюдали за странным поведением Мандрила. Заключенные, обслуживающие эсэсовцев, тоже украдкой следили за ним. Мандрил держал тиски в руках, и за его низким лбом, по-видимому, шла какая-то работа. Блокфюреры не решались заговаривать с этим страшным человеком, который с тисками и руках вернулся к своему столику. Заметив, что на него поглядывают, он скривил бесцветный рот в тупую усмешку. Было уже поздно, когда Мандрил покинул казино.
Глядя на него, трудно было понять, пьян он или нет. Чем больше спиртного он поглощал, тем тверже был его шаг. Несмотря на сумбур в голове, он всегда отдавал себе отчет в своих действиях. Только движения его становились неуклюжими и как будто направлялись не им самим.
Допрос – до признания.
Ночью он отправился в камеру номер пять. Гефель и Кропинский лежали, тесно прижавшись друг к другу, на холодном полу и поднялись, когда увидели свет и входящего Мандрила. Дрожа от холода и испуга, стояли они перед ним. На землистом лице Мандрила ничего нельзя было прочесть.
– Ну, так ты успел подумать? – спросил он Гефеля.
Гефель проглотил слюну. Он молчал. Вспугнутой птицей затрепетал в нем страх. Камера была освещена тусклым светом лампочки, у которой, казалось, не хватало сил на большее. Мандрил еще несколько мгновений прислушивался к тишине, словно могло что-нибудь последовать, потом оттеснил Кропинского, стоявшего рядом с Гефелем, в дальний угол камеры.
– Будешь ты говорить? – снова обратился он к Гефелю.
У Гефеля пересохло в горле, он снова глотнул, ему трудно было дышать.
Кропинский, прижимался к стене, готовый срастись с нею. Мандрил не торопился.
– Ну, так в чем же дело? Ты будешь говорить?
Грудная клетка Гефеля была как пустое подземелье, в котором что-то гудело и выло. Ему хотелось броситься в угол к Кропинскому. Но его ноги словно приросли к полу.
– Значит, не желаешь!
Мандрил подошел к Гефелю и надел ему на виски инструмент так, как это делал столяр, когда склеивал части стола.
– Будешь говорить?
Гефель в ужасе широко раскрыл глаза, а Мандрил тем временем приложил подвижную колодку и, повернув рукоятку, затянул тиски.
Кропинский издал тихий пискливый крик. В голове Гефеля билась взбудораженная кровь. Стон, рвущийся из горла, заставил его разинуть рот, но тут же заглох без звука.
Мандрил засунул руки в карманы брюк и, как бы подбадривая, пнул Гефеля коленом в живот.
– Одно имя я уже знаю – твое. Кто второй? Говори!
В черепе Гефеля горел адский огонь. Он сжал кулаки. Ужас душил его.
Мандрил провел кончиком языка по губам, неторопливо вынул руку из кармана и повернул винт. Гефель застонал. Ему казалось, что он зажат между двумя каменными громадами, грозящими раздавить его.
Кропинский упал на колени и в беспредельном отчаянии от своей беспомощности, всхлипывая, пополз к Мандрилу. Тот отшвырнул его назад в угол, как мешок с тряпьем.
– Лежи тут, собака, и не шевелись!
Гефель, воспользовавшись тем, что его мучитель на миг отвлекся, сорвал с себя смертоносные тиски. Они с грохотом упали на пол. Кровь бешено билась и шумела в голове. У Гефеля потемнело в глазах, он прижал к вискам кулаки и зашатался. Мандрил в ярости набросился на него и несколькими увесистыми ударами сбил с ног. От боли Гефель вновь пришел в себя.
Уклоняясь от посыпавшихся на него ударов, он катался по полу камеры. Казалось, идет рукопашная схватка. Однако ослабевший, истерзанный Гефель быстро сдался. Тюремщик склонился над ним, коленями придавил его руки к полу и снова укрепил на голове тиски.
Надрываясь от крика, Гефель мотал головой, но тиски сидели крепко. Мандрил своей огромной ручищей зажал ему рот и туже повернул винт.
У Гефеля заклокотало в горле, глаза готовы были выскочить из орбит.
– Кто второй?
Кропинский заткнул кулаками свой рот, в беспредельном ужасе от того, что совершалось над его товарищем. Кто второй?
От адской боли Гефель бился на каменном полу. Имена! Имена!.. Они сидели у него в клокочущей гортани и ждали, чтобы их выпустили.
– Кто второй? Будешь ты говорить?
Когда Мандрил убрал руку, изо рта Гефеля вырвался задушенный крик:
– Кррааа…
Это были они, имена. Гефель выкрикивал их один за другим:
– Кррааа, кррааа…
Вдруг закричал и Кропинский. Сжав голову руками, он кричал…
Казалось, кричал сам воздух карцера, стены не могли поглотить этих криков, и безумие металось по камере.
Мандрил поднялся и, расставив ноги, стал над беснующимся телом Гефеля. Пока еще нельзя было допустить, чтобы тот умер. И Мандрил отвинтил тиски.
Безумные вопли Гефеля заглохли в хриплых стонах. Освобожденное тело вытянулось.
Кропинский боязливо сжался в комок, и как только Мандрил покинул камеру и потушил свет, он подполз к Гефелю, дрожащими руками ощупал его и начал всхлипывать в тихом отчаянии.
Гефель чувствовал, как в нем жизнь боролась со смертью. Кровь, словно исхлестанная бичами, неистово мчалась по жилам, мозг, казалось, расплавился от боли, и даже мысли горели, как в пламени лихорадки. Дыхание слабо трепетало.
– …имена… Мариан…
Кропинский провел рукой по вздрагивающему телу Гефеля.
– Ты кричать, брат, только кричать…
Гефель с трудом переводил дух. Он был слишком слаб, чтобы отвечать. Его измученное сознание блуждало на краю беспамятства, но не упало в благодетельную бездну.
– О боже, – всхлипывал Гефель, – о боже!..
Он страдал невыносимо.
На другой день Ферсте во время прогулки увидел на дороге электрика. Они взглянули друг на друга. Будет ли Ферсте поправлять башмак?
Казалось, Ферсте не обращает на монтера никакого внимания. Он высоко поднял заложенные за спину руки, и можно было подумать, что он выполняет гимнастические упражнения. Когда Шюпп проходил мимо него, направляясь к контрольному окошку, Ферсте положил руку себе на сердце. Шюпп вернулся в лагерь. Он понял. Гефеля и Кропинского пытали, но рука на сердце означала, что они держатся стойко.
Прошло всего два дня, но эти дни принесли с собой такую тяжесть, которая, казалось, угнетала людей в течение многих лет. Весь аппарат был приведен в бездействие. В группах Сопротивления из-за ареста Гефеля и Кропинского прекратились все занятия. Участники групп избегали всяких разговоров. Встречаясь в лагере, они приветствовали друг друга лишь беглым взглядом. Они не могли показать, что знакомы. В воздухе пахло бедой. И хотя в первый и второй день ничего не произошло, это отнюдь не успокаивало. У каждого было такое чувство, словно опасность лишь коварно притаилась и вырвется наружу как раз в тот момент, когда ты будешь думать, что можно вздохнуть с облегчением. Подавлены были все.
ИЛК тоже строго себя изолировал. Единственный, с кем в эти два дня встречался Бохов, был Богорский. Весть о поведении Гефеля, которую Кремер доставил Бохову, вселяла некоторую уверенность, и Бохов решил рискнуть на созыв совещания ИЛКа. Богорский согласился, и вечером члены ИЛКа собрались в подвале под лазаретным бараком. Они молча выслушали доклад Бохова. Им стал понятен ход событий. Ребенок был для Клуттига и Рейнебота желанным поводом, чтобы попытаться нащупать невидимые следы организации. Члены ИЛКа услышали, что Гефеля и Кропинского подвергали неслыханным пыткам, и теперь знали, что для тех двоих это было серьезным «испытанием преданности». Только одного они не знали: что будет завтра и послезавтра…
Будущее, казалось, было заряжено взрывчатым веществом.
Обычно обсуждение разных вопросов протекало оживленно, сегодня же все сидели вокруг тихо потрескивавшего огарка и не произносили ни слова. Затишье в лагере после ареста было обманчиво, и они ему не доверяли. То, что так болезненно переживал Бохов, теперь вместе с ним переживали и эти молчаливые люди.
Как тщательно велась подготовка к восстанию! Сколько за это время было доставлено оружия и боевых припасов и с каким огромным риском! Нередко то или иное отчаянно смелое предприятие, казалось, висело на волоске. Они обо всем подумали. Тысячи перевязочных пакетиков лежали наготове в надежных уголках лазарета. Были накоплены лекарства, собраны хирургические инструменты. Ломы, изолированные ножницы для проволочных заграждений – все было добыто.
Были разработаны оперативные планы. Боевые группы отдельных национальностей прошли подготовку, их задачи давно были определены. Лагерь разделили на секторы. Боевые действия должны начаться клиновыми ударами в разных направлениях. Польские группы прорвутся из лагеря на север. Советские группы предназначены для штурма эсэсовских казарм. Обязанность групп французов, чехов, голландцев и немцев – завладеть районом комендатуры. Главный удар должен последовать в западном направлении – для установления связи с приближающимися американцами и закрепления успеха восстания.
Среди боевых групп находились специальные отряды для особых задач. Широко разветвленная организация, невидимая, неуловимая, вездесущая и готовая ударить в любой час, была результатом искусной подпольной работы. Когда настанет час, буря грянет. Но час еще не настал, и американцы были еще далеко… А там, в недоступной камере, лежал человек, их товарищ. Достаточно одного его слова, слова, оброненного по неосторожности или из страха смерти, и разверзнется земля лагеря и отдаст свои тайны. Оружие, оружие! Не успеют пятьдесят тысяч ничего не подозревающих заключенных что-либо понять, как на лагерь обрушится чудовищный, лютый ураган уничтожения…
Члены ИЛКа неподвижно смотрели перед собой, смотрели в потрескивающее пламя свечи. Сдержанно и спокойно докладывал Бохов о событиях. Он рассказал, что Гефель и Кропинский до сих пор мужественно держатся. Люди слушали, их думы и мысли слились воедино. Поэтому не нужно было много слов. Но молчание было томительно. Бохов начал сердиться.
– Нельзя же так, товарищи! Что мы сидим, повесив головы? Черт знает что такое! Мы должны подумать, что можно будет сделать, если…
– Если! Да, если!.. – процедил сквозь зубы Кодичек. – Можем ли мы закопать оружие? – Он скрипуче рассмеялся. – Но оно ведь уже закопано.
Он явно нервничал.
– Чепуха! – буркнул Бохов. – Оружие останется на своем месте.
Он взял в руку большой кусок известняка и отбросил его. Взгляд беспокойно блуждал по каменистой почве. Видно было, что он старается вернуть себе утерянное самообладание. Теперь было не время для споров. Он повернулся к Кодичку, погрузившемуся в глубокое раздумье, и сказал с решительным жестом:
– В прошлый раз я уже говорил вам, что эсэсовцы нас ищут. Тогда мы смеялись, ведь Гефель еще не был в карцере. А теперь дело приняло серьезный оборот. Если он не выдержит, если он не устоит…
Бохов обвел товарищей пристальным взглядом. У всех были плотно сжаты губы, и Бохов безжалостно высказал то, что каждый из них думал:
– Если до нас доберутся, нас ждет смерть!
Свеча тихо потрескивала.
– Кое-кого из нас еще можно перебросить в безопасное место. – Члены ИЛКа насторожились, и Бохов предложил – Можем отправить с эшелоном в другой лагерь. Там наш товарищ растворится…
Ответа долго не было. Наконец ван Дален сказал:
– Не может быть, чтобы ты говорил об этом серьезно, Герберт!
– Нет, подумайте, – настаивал Бохов. – Гефель знает имена членов ИЛКа. Стоит ему назвать хоть одно имя…
Ван Дален покорно повел плечами.
– Тогда этот один должен будет умереть.
– А если он назовет всех нас?
– Тогда все мы умрем, – просто ответил ван Дален.
Прибула был взволнован, Бохов покачал головой.
– Кто хочет отправиться с эшелоном? – настаивал Бохов.
Прибула ударил кулаком по колену.
– Ты хочешь сделать из нас трусов?
Его тихие слова прозвучали, как крик. Бохов ответил не сразу, но необычайно спокойно:
– Мой долг, товарищи, спросить вас. – Он опустил глаза. – Я тоже виноват в том, что так все случилось. – Его голос показался остальным каким-то чужим, и они удивленно взглянули на него. Он крепко сжал губы. – Я оставил Гефеля одного, – еще тише продолжал он. – Я должен был сразу заняться им и ребенком. Я… этого не сделал.
Его слова были исповедью. Один только Богорский понял их смысл, но промолчал. Риоман кашлянул.
– Non, camarade[4]4
Нет, товарищ (франц.).
[Закрыть] Герберт, – ласково сказал он. – Ошибка, но не скажи про вина.
Бохов взглянул на француза.
– Из ошибки вырастает вина, – сумрачно заметил он.
Кодичка вдруг прорвало.
– К черту Гефеля, – сердито воскликнул он, – к черту этого ребенка!
Прибула вскочил.
– Гефель и товарищ из Польши вместе в карцере, – жарким шепотом заговорил он, – а ты кричать к черту? Немец и поляк защищать малое польское дитя, и ты говоришь к черту! Ступай сам к черту!
Его побелевшие губы дрожали. В нем вспыхнул гнев. Ван Дален схватил Прибулу за руку. Молодой поляк отбросил руку голландца, в глазах загорелись враждебные искры.
И тут произошло нечто удивительное: Богорский начал смеяться. Он смеялся тихо, и плечи его вздрагивали. Этот смех так резко противоречил общему напряжению и возбуждению, что все с испугом уставились на русского. А он протянул к ним руки и с горькой шутливостью воскликнул: