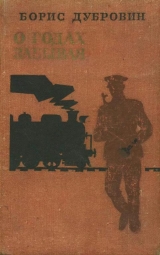
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
XII
Солнце осветило влажную макушку Павлика, когда он вынырнул из реки и, набрав воздуха, снова погрузился в воду. Его рваные тапочки, истрепанные штаны, дырявая куртка и рубашка с майкой были аккуратно сложены на берегу, как раз на том месте, откуда Юлька сорвалась в воду. Подобно круглому поплавку, заблестела его стриженая голова на торопливой реке.
Из-за бугра за Павликом тайком следили трое ребят. Это была засада. Выражение лиц мальчишек не предвещало ничего доброго. Вооруженные камнями и палками, они были настороже.
Павлик появлялся на поверхности, покрасневшими глазами смотрел, на сколько его отнесло бурным течением от берега, и, набрав побольше воздуха, упрямо погружался на дно.
– Мы ему дадим за нашу Юльку! – готовился к возмездию самый младший, а старший мрачно поддерживал:
– Думает, если у нее нет отца, значит, ее обижать можно! – И он треснул палкой по земле, отрабатывая удар. Неминуемая кара приближалась. Мстители клокотали от гнева.
Павлик вынырнул, отдышался и снова исчез под водой.
Один мальчишка выбежал из-за бугра, схватил одежонку Павлика и скрылся в засаде.
Павлик вынырнул счастливый: в руке был нож Атахана. Рукоять блестела, словно отлакированная. Павлик, довольный, выбрался на берег и не заметил пропажи. Рассматривал рукоять подробно, поворачивал… И вздрогнул от окрика:
– Отдай нож!
Он обернулся, кинулся к одежде, но ее не было. Трое ребят уже выскакивали из-за бугра. Перепуганный Павлик отвел руку с ножом за спину.
Мальчишки наступали, размахивая палками.
– Не отдашь – порвем твою одежду! – предупредил старший и высоко поднял на палке рубашку Павлика.
Мокрый, озябший, стуча зубами, стоял перед ними Павлик в длинных и широких, не по размеру трусах. Он растерялся, подтянул трусы и сжал нож, точно это было единственным спасением.
– Брось нож! Считаю до трех! – скомандовал верховод и начал: – Р-р-раз! – Он сбросил рубаху Павлика с палки, ребята подхватили, взялись за рукава, приготовились.
– Считай! – крикнул самый маленький.
С грустью посмотрел Павлик на нож, вздохнул. Один глаз у медведя еще был влажным, будто он подмигивал Павлику.
– Два-а-аа! – считал парень.
Зубы Павлика выбивали чечетку. Губы посинели. Гусиной кожей покрылись руки и ноги. Холодно! Страшно! Жалко рубашку…
– Два-а-аа с половиной! – тянул верховод.
Натянулась рубаха Павлика, затрещала…
– Три-и-ии! – Парень мотнул рыжей головой.
– Не отдам! – мотнул головой Павлик.
Рубаха расползлась на две части. Рыжий метнул камень и выбил из руки Павлика нож. Павлик подхватил нож левой рукой и побежал. Мальчишки – за ним. Павлика настигали камни и палки. Он взобрался на маленькую сопку и, пересекая поле, понесся к больнице. Мальчишки не отставали.
Прерывисто дыша, обессилев, Павлик подбежал к ограде больничного садика, где дремал старик.
– Дедушка, передайте ножик Юльке! – крикнул Павлик.
Сперва старик приставил ладонь к глазам, пригляделся:
– Ась? – Он приставил другую руку к заросшему сивой щетиной уху.
Павлик пробежал вдоль ограды и увидел двух больных: они за столиком играли в домино.
– Ножик этот Юльке передайте! – Он перебросил нож через ограду: – Юльке! Скорее!
Подоспели к самой ограде и трое мальчишек, швырнули рваную одежонку Павлика в садик. На траву упали лохмотья, тапочка перевернулась в воздухе и шлепнулась набок, так что стало видно: подметки нет.
Проходя мимо Павлика, все поочередно ткнули его кулаком в бок, а рыжий стукнул по шее. Павлик, поддерживая руку, распухшую от удара камнем, молча снес все обиды.
Мальчишки ушли с сознанием исполненного долга.
Один больной, положив костяшки домино на столик, поднял нож и, рассматривая его, направился к крыльцу. Другой собрал изорванную одежду Павлика, приблизился к ограде и, укоризненно качая головой, попрекнул:
– Плохо, очень плохо смотрят за тобой родители! Нехорошо, очень нехорошо. Беги скорей домой, мальчик, – и передал Павлику разорванную рубашку, штаны и тапочки.
Павлик поплелся в кусты, проверил, на месте ли чехол, и начал облачаться в пыльные лохмотья.
– Мальчик! – прозвенел голосок Юльки. Она была в синем платьице. – Тебя как зовут?
– Павел! – не оборачиваясь, отозвался он, глядя на свою распухшую руку и шмыгая носом.
– Павлик, тебя мама моя зовет.
– Не пойду! – Он оглядел себя: вид был растерзанный. – Не пойду! Принеси мне хлеба!
Юлька юркнула в комнату, оттуда появилась Гюльчара. Вдвоем они втянули упирающегося Павлика в комнату Наташи.
– А меня зовут тетя Наташа, – приветливо представилась она.
Его поразил ее мягкий, грудной голос. Павлик попробовал насупиться. Почему-то плохо получилось.
– Сейчас тебя накормим, – гостеприимно сказала Наташа.
Он замотал головой, давая знать, что отказывается.
– Мама, дай ему хлеба, он голодный.
– Ничего не голодный! – рявкнул Павлик.
– Нет, голодный, – настаивала Юлька. – Сам просил у меня хлеба.
Наташа придвинула ему тарелку каши с мясом и подливкой.
Павлик шмыгнул носом. Отвернулся бы, но глаза впились в тарелку.
– Ешь, ешь, – ласково сказала Наташа.
– Не буду, не хочу, ни за что! – А рука потянулась за ложкой, другая за хлебом. Но тут он вскочил: – Я с грязными руками дома не сажусь за стол. – Он посмотрел на дверь: не удастся ли сбежать? Взгляд был красноречив, и Гюльчара поплотней притворила дверь.
– Ну что ж, ты прав, – с улыбкой сказала Наташа.
«У нее улыбка и голос, как у Людмилы Константиновны, и Людмила Константиновна так говорит: «Ну что ж, ты прав», и так же улыбается… Нет, не так же… Она совсем не похожа на Людмилу Константиновну. И стаканы у нас в детдоме другие – лучше, и ложки, и хлеб не так режут».
Павлик, увидев, как солнечный луч упал на его ушибленную камнем руку, словно случайно переступил с ноги на ногу, отодвинулся от луча. И как бы между прочим повел глазами по комнате. Увидел рисунки, прикрепленные к стене. Рукоять-медведь… Потом догадался: второй рисунок – фонтан нефти. От третьего рисунка он отвернулся. На нем была изображена цветными карандашами его, Павлика, голова, вздернутый нос, мстительно утыканный ядовито оранжевыми веснушками. Глаза голубели нахально. А главное – выделялись два угловатых приставленных друг к другу кулака. Такая привычка у Павлика: начиная драку, кулаки перед самыми глазами держать рядом – для защиты.
Заметив, что Гюльчара, Наташа и Юлька следят за его взглядом, а Юлька ухмыляется, Павлик хмыкнул:
– И не похоже!
– На кого? – не без ехидства поинтересовалась Юлька. Наташа потянула ее за рукав, и «художница» поджала губки.
– Ни на кого!
Старая Гюльчара, опередив Наташу, подвела Павлика к эмалированному тазику, а сама наклонилась к узкогорлому кувшину с водой. Чувство гостеприимства подтолкнуло Юльку, и она из-под рук Гюльчары выхватила кувшин. Гюльчара притворно нахмурилась.
Юлька наклонила кувшин, полилась узкая струйка воды. Он деловито намыливал исцарапанные руки, стараясь утаить от Юльки ушибленную правую. Полотенцем вытерся старательно, как учила Людмила Константиновна, сказал:
– У моего отца тоже такое полотенце с петухом!
– А где он, твой отец? – осторожно спросила старая Гюльчара. Наташа придвинула Павлику тарелку с едой, налила молока в стакан с золотой каемкой.
– И стакан – как у моего отца. Мой отец на войне задержался. – Он начал ожесточенно есть.
Женщины переглянулись.
– Отец мне всегда все доверял, и Атахан дал задание. – Он взглянул на рисунок с изображением ножа, отложил хлеб и ложку, вынул из-за пазухи чехол. – Вот это Атахан просил передать вам, – волнуясь, произнес Павлик с особой торжественностью. – Он взял у Юльки нож, вложил в чехол и прикрепил к детскому коврику над постелью. И опять налег на мясо и пшенную кашу, щедро сдобренную куском золотистого сливочного масла.
– А как твою маму звать? – спросила Юлька.
Павлик сделал вид, будто никак не может прожевать, а когда дальше тянуть было нельзя, отважно соврал:
– Людмила Константиновна!
Наташа задумалась, стараясь припомнить, где она слышала это имя.
– Тебя Атахан прислал передать чехол, а… больше ничего? – с надеждой спросила Наташа.
– И больше ничего!
Наташа поднялась со стула, достала чистую простыню, сменила наволочку, разобрала свою постель. Достала еще одну старую, но сверкающую белизной накрахмаленную простыню.
Глаза Павлика стали сонными. Он клевал носом.
– Приляг, отдохни! – сказала Наташа.
«Совсем как Людмила Константиновна, – подумал он. – И совсем нет. И не ври, очень похожа. Ты задремал, тебе послышалось. Это сказала Людмила Константиновна: «Приляг, отдохни!»
– Да нет, – вяло заупрямился мальчик. Гюльчара неслышно снимала с него курточку. Наташа придвинула таз. Юлька вылила из кувшина остатки воды, встряхнула его над тазом, чтобы все, до капельки. Подала кусок туалетного мыла. Павлик разулся, постарался спрятать свои тапочки, сунул их подальше под кровать Наташи. Вымыл ноги.
Погладив Павлика по голове, Наташа взялась за таз.
– Да я бы сам, Людмила Конст… – он осекся. – Я бы сам.
– Ничего, ничего. Ты же не знаешь, куда. Приляг, отдохни.
Она вышла.
Павлик сидел на маленькой табуретке, ему было хорошо. Рука, ушибленная камнем, раздулась, но вроде не болела. Он блаженно потянулся, увидел на коврике над Юлькиной кроваткой нож в чехле, улыбнулся. Улыбнулась и Юлька.
– Приляг, приляг, Павлик, – входя, попросила Наташа.
– Я спать не буду! – сурово предупредил Павлик. Наташа легко подняла его, уложила, укрыв простыней, задернула занавеску, чтобы свет не падал в глаза. Обернулась: Павлик спал…
Наташа достала ножницы, нитки, куски материи, взяла куртку Павлика. Гюльчара, стараясь не шаркать, вышла; выскользнула за ней на цыпочках и Юлька. «У меня и нож, и чехол, и… – она чуть не сказала себе: – И Павлик… А что если бы такой брат у меня был? Я дралась бы с ним… Я бы ему нос оторвала. Но зато… если бы от мамы доставалось, то мне – меньше… А вдруг мама стала бы его любить больше, чем меня… Такого-то курносого и в веснушках! Да у него и своя мама Людмила… Людмила… Людмила Константиновна… И у отца такое же полотенце с фазаном. Ему хорошо, его отец на войне задержался. А мой погиб, нет у меня папы…»
Она неторопливо спустилась со ступенек, посмотрела, как ловко юноша вскочил на коня, как он, точно влитой, выпрямился в седле, обернулся с улыбкой, и солнце вспыхнуло на слитке его зубов. Он помахал девушке, и она выскользнувшей из больничного халата бледной рукой тоже взмахнула на прощание.
– Скоро в армию, – сказала девушка пожилой женщине. Та, пригорюнившись, сидела в садике и, подперев щеку ладонью, смотрела вслед всаднику.
– Лихой джигит… А дождешься?
Девушка мечтательно улыбнулась.
Тогда и Юлька подняла руку, помахала ему: может быть, он попадет служить на ту пограничную заставу, где был Атахан…
Тут около ограды Юлька заметила рыжего мальчишку – главаря. Юный защитник обиженных и оскорбленных стоял и ждал заслуженной, завоеванной благодарности. Юлька показала ему кулак и быстренько направилась к ограде. На секунду подняв прижатые друг к другу кулаки, она начала отчитывать рыжего рыцаря:
– Это же Павлик! Я его давно знаю. Это я его в воду спихивала, а сама поскользнулась. Он меня вытащил…
– Ну? – пораженно протянул рыжий. – Врешь!
– Ей-богу, не вру! – побожилась она и покосилась на деда. Тот подремывал.
– Он у тебя нож отнимал? – дознавался рыжий.
– Отнимал! – передразнила Юлька. – Сам ты отнимал… Да не отнял. Вот тебя завидки берут!
– А ну тебя! – Рыжий с оскорбленным видом отвернулся: – Художница-воображала!..
Гюльчара разносила больным обед.
А Наташа сидела над письмом:
«Атахан, обращаюсь к вам так потому, что думала и думаю о вас. Что скрывать!.. Думаю и о себе: почему потянуло в Каракумы? Здесь я нужней. Первая встреча была не с Каракумами, а со своей слепотой: была обманута. Пустыню встретила в нем – в образе того, кого, думалось мне, послала судьба. Он мне принес зло, обокрал душу. А зачем пишу вам? На расстоянии при разлуке с вами (она тщательно зачеркнула «при разлуке с вами») почувствовала вашу искренность. Виновата перед вами за свою резкость, из-за нее вы, не долечившись, оставили больницу… Жизнь меня научила отстаивать то, что отстоялось в душе. Поступать так, чтобы дальше не оступаться. Раньше я отвечала за себя, а ныне и за дочь… Она вспоминает вас, рисует… Хочу просить вас не ловить змей, беречь себя, не сердиться на меня. Вспоминаю вас после появления этого славного Павлика. Ума не приложу, зачем он пришел? Его слова, якобы он прислан вами, не убеждают меня: зная ваш гордый нрав, клянусь здоровьем дочери, вы никого не посылали ко мне. Да и пустить ребенка в такую даль… Нет, этого не могли сделать вы. Может, вам странными кажутся эти строки, но Юлька помнит вас, ждет, несколько раз обмолвилась, назвав вас папой… Говорят, есть судьба. А ведь судьба – это и встречи. Встреча порой превращается в судьбу… Так стали моей судьбой Каракумы, где работала до этой больницы и где, чует мое сердце, еще поработаю. Пустыни, как таковой, нет. Самая страшная пустыня – пустыня души эгоиста… А кроме нее – жизнь всюду! И жить везде хорошо!..»
Наташа подняла глаза, подумала: послать ему заодно письмо Лейлы или нет? Встала, сняла с книжной полки томик стихов Шефнера, вынула оттуда письмо Лейлы, как бы мимоходом заметив стихотворение об охотнике: он не погасил костра на привале. Огонь погнался за ним и настиг его. Так и совесть… Наташа открыла чужое письмо, будто что-то могло измениться в нем за это время. Тогда не обратила внимание на слова: «Я вкладываю в этот конверт другой, с обратным адресом, запечатанный. Знаю, вам не то что слово написать, но и сказать его трудно. Поэтому, если разрешите мне быть около вас, пусть этот конверт опустят в почтовый ящик. Если же нет, ваше молчание будет ответом…»
Наташа внимательно заглянула в конверт. Другого конверта не было. Послал ли он его? Если нет, оно бы осталось. Неужели послал? Но если бы послал, она бы приехала немедленно…
Наташа вернулась к своему письму, но, взяв ручку, снова задумалась. Послать ее письмо? А что написать? «Вы забыли тут письмо какое-то, пользуюсь случаем, посылаю с Павликом…» Какое-то… Я его прочла, я знаю, о чем оно. Ну и что? А кто бы не прочитал на моем месте? Кто бы?! Игорь! Игорь? Да, Игорь не прочитал бы. Немало недостатков, любит и покрасоваться, особенно в своей летной офицерской форме, а не прочитал бы. Честь не позволила бы… Откуда ты знаешь? Ты сама раньше могла поручиться за себя, что никогда не заглянешь в чужое письмо… И все же Игорь бы не заглянул!»
Ручка торопливо выводила:
«Вместе со своим письмом посылаю и другое, оно лежало в вашей палате, под скатертью на тумбочке…»
А если не посылать ее письмо? Это будет ложь. «Очень хочешь казаться лучше, чем ты есть. Нет сил признаться в своей слабости… Ну что ж, нет, и все. Ты и перед родителями не призналась, что жестоко ошиблась, вопреки их советам выйдя за Огаркова».
И Наташа впервые увидела ложную многозначительность Георгия, серость его души. Жалкий, корыстный, хитрый… «Но я же мечтала о нем… Дура, слепая дура… Неужели я принадлежала ему? Невероятно! Столько лет прошло… И я – это уже какая-то совсем другая Наташа Иванова (господи, как хорошо, что не взяла его фамилию!). Не я, а какая-то внешне не похожая на меня десятиклассница была с Огарковым. И Юлька его дочь! Нет! Юлька моя! Моя!»
Наташа не высказала, а выкрикнула: «Моя!» Увы, подбородок, линия бровей, что-то неуловимое в повороте головы Юльки – от Огаркова. «Господи, – почти взмолилась Наташа, – хоть бы внешне походила, но – не душой… Однако что-то есть в Юльке и от его души… Ладно, хватит, хватит о нем. Дел по горло, да и письмо надо дописать». Она обрадовалась, что пишет Атахану, что есть кому написать. И с каким-то новым, неизвестным себе порывом Наташа, мельком глянув на Павлика, наклонилась к письму:
«Кто знает, может, встретимся! Иногда бывает порыв – все оставить, взять Юльку и отправиться к вам, но проклятая робость и недоверие мешают. Глупо быть девчонкой, когда моя Юлька уже большая. Все понимаю, а стыдливость, глупость, робость, называйте как хотите, – все это связывает меня по рукам и ногам. Ах, Атахан, Атахан, какое неясное предчувствие охватывает меня!..
Всего вам доброго
Наташа».
Пока Наташа дописывала письмо, Павлик проснулся.
Он потянулся за одеждой. Что такое? Новенькие трусики, починенные, вычищенные и тщательно отутюженные штаны, новая хорошая рубашка, неузнаваемая куртка – так ловко она отремонтирована и отглажена. Вместо худых тапочек стояли другие – совершенно неношенные. Павлик отдернул руку, словно укололся. Кровать скрипнула. Наташа подняла голову от письма и увидела благодарное недоумение мальчугана.
– А где моя куртка, рубашка, тапочки?
– Это все твое и тюбетейка твоя.
– Я чужое одевать не стану.
– Это все твое.
– Нет!
– А как же ты покажешься своему отцу, когда он с войны вернется? А что скажет мама, если увидит порванную рубашку? Ее починить нельзя, и тапочки каши просили. Одевайся!..
Наташа вышла.
Павлик одевался. Никогда ему не было так хорошо. Лаской, теплом веяло от всех вещей. Легко надевались, сами просились скорее их надеть. Так чувствовал себя Павлик только около Атахана.
Он вышел из больницы, когда Юлька разделалась с рыжим защитником. А тот, увидев Павлика, решил один на один не встречаться и скрылся за оградой больничного садика.
– Пойдем, не бойся, – потянула Павлика Юлька, – со мной не бойся, все тебе покажу.
– Что-о-о? Это я-то боюсь?! Да ты знаешь, как мы с Атаханом на погранзаставе действовали!
– Ну! – завистливо ахнула Юлька. – На какой?
– На какой, на какой! Много знать будешь – скоро состаришься! Военная тайна. Вот на какой!
Юлька не поняла, о чем он сказал, но оттого, что это не просто тайна, а еще и военная, с уважением посмотрела на юного героя-пограничника.
– Мне Атахан о границе и о заставе рассказывал, а о тебе ничего не сказал.
– И правильно! Он военную присягу принимал! Ты знаешь, как ее принимают?
– Нет! А ты?
– Спрашиваешь!
– А ты оружие держал, Павлик? Ты помнишь кино о маленьком разведчике? А ты не был разведчиком? – спросила Юлька.
– Не успел, – сокрушенно махнул он рукой.
Десятки раз, видя кинофильмы о войне, чувствовал себя Павлик солдатом. Он падал, стрелял, погибал, поднимал за собой бойцов и не давал опуститься знамени. Разве ей понять это? Девчонке сопливой. Ну пусть не сопливой, а все же девчонке.
Они, разговаривая, вышли из-за больничной ограды, прошли по улочке. Улочка, сделав два поворота, вывела их к горке, за ней открылась река.
– А мне можно принять военную присягу? Можно? – Юлька так заглядывала в непреклонные командирские глаза Павлика, словно разрешение зависело только от него.
Павлик остановился, положил руки на пояс, оглядел ее сочувственно, сокрушенно вздохнул?
– Мала больно. Мало каши ела. Подрасти надо!
– Но я очень-очень хочу… Я подрасту, а?
– Посмотрим, – солидно пообещал Павлик, и Юлька просияла. Они шли по берегу. И Юлька, чье воображение воспламенилось рассказами Атахана и «подвигами» Павлика, полюбопытствовала:
– Через реку диверсанты переплыть могут?
– А мы, пограничники, на что? А? Сколько раз бывало… – Он легко вспомнил рассказы Атахана. – Ты у Атахана видела фуражку? Видела! Дырочку заметила? Знаешь от чего? От пули! Брали четверых диверсантов, они через реку, а их тут – раз! Тогда чуть не погиб Атахан… Но граница – на замке! Будь спокойна! Я подрасту и обязательно стану… обязательно снова стану пограничником.
– А сейчас почему нельзя?
– Сейчас мы с Атаханом нефть добываем!
– И Людмила Константиновна?
– Да ты что? Того, это… Она, мама Людмила Константиновна, она там по хозяйству, а мы на буровой. Тебе Атахан небось рассказывал. Я же видел на твоем рисунке фонтан нефти…
– Рассказывал. Я хочу быть на заставе с вами и на буровой. Ты меня возьмешь с собой на заставу?
– Ладно, замолвлю за тебя словечко, так и быть, потолкую с начальником заставы.
– Ты не беспокойся, мой дедушка – летчик-испытатель, а мой дядя Игорь – летчик! Офицер! Во! И у него собака Аякс!
Это сообщение сбило спесь с Павлика, и он, чтобы отвлечься, бросил несколько камешков в реку…
– Так ты готова служить на границе? – наконец в упор спросил он свою попутчицу.
– Готова!
– Что ж, значит, махнем туда.
– Сейчас я пойду возьму нож, прощусь с мамой и с Гюльчарой.
– Тс-с! Ни звука! Никому ни слова! Ночью убежим, и все.
– Ночью? – остановилась Юлька и отступила от него. Ночью она всегда спала. – Мама расстроится, если уйду без разрешения. Это, наверное, далеко.
– Да уж не близко! – заверил Павлик. – Сама понимаешь, граница…
– Я все же маме скажу.
– Нет, погоди. Мы лучше так сделаем. Сперва я махну один, ну там о тебе предупрежу. Потом приеду за тобой, но ты все держи в тайне. Это будет наша с тобой тайна.
– Военная?
– Пограничная! Вот увидишь, я буду пограничником! Буду офицером! – Павлик явно терял чувство меры, но Юлька так доверчиво и восхищенно слушала, что он не выдержал: – Буду начальником заставы… Не веришь? Спроси у Атахана! Не сразу, конечно, но буду!
– И я с тобой!
– А не передумаешь?
– Я? – обиделась Юлька.
Он вспомнил, как она сражалась за нож Атахана, и смягчился:
– Ну ладно, не обижайся, это я так… пошутил.
– Только уговор: чтобы ты со мной драку не затевал. Я ведь вчера, если бы в речку не слетела, то тебе, знаешь, как поддала бы! Я бы тебе нос оторвала. – Она чуть было не взяла его за нос. – Знаешь, – и, как любил делать Павлик, подняла сжатые кулачки. Они проходили с Юлькой мимо того обрывистого берега, откуда вчера она упала.
– Нужна ты мне! Мне с диверсантами дел по горло, а еще ты!..
Обедали они втроем. Перед обедом, хотя Павлику и не терпелось поскорее ополоснуть руки и сесть за стол, он набрал воды в кувшин, уступил Юльке очередь над тазом и, подав ей мыло, наклонил кувшин. Юлька мыло-то взяла, но стоило Наташе повернуться, чтобы расставить тарелки, как она сунула мыло под струйку воды и положила на мыльницу, смочила руки и взяла у Павлика полотенце с фазаном.
– Знаешь, – зашептала, доверительно подмигнув, чтобы не выдавал, – когда я маленькая была, мне мыльная пена в глаза попала. С тех пор всю жизнь мыло ненавижу…
Сама же следила, чтобы Павлик добросовестно намылил руки, испытывая удовольствие от умения настоять на своем и одержать верх.
Стараясь не чавкать, но все-таки причмокивая, отведал Павлик домашних щей. Когда облизал ложку, кто-то постучал в окно. Наташа встала, подошла к окну, а Юлька воспользовалась этим и показала Павлику язык – толстый, малиновый, обидный. Не раздумывая, он смазал ей ложкой по лбу. И наверняка получил бы сдачу, но Наташа повернулась к ним. Оба чинно приступили к гречневой каше.
Юлька заметила, как у мамы на лбу сбежались еле приметные морщинки, брови сдвинулись. Юлька, не донеся ложку с кашей до рта, спросила:
– Мама, почему ты такая?
– Какая?
– С морщинками и с бровями?
– Так…
После обеда, когда она выпроводила ребят гулять, недалеко от больницы остановился газик с открытым верхом. Игорь, в полевой форме, пружинистый, вышел из машины, кивнул шоферу. Тот поправил пилотку и, с любопытством стрельнув глазами в сторону Наташи, не торопясь отъехал от садика.
– Здравствуй! – натянуто улыбнулся Игорь, сухо целуя ее в щеку, чувствуя запах эфира, йода, чистоты. «Подумай, и духами не пользуется, и сережек не носит, – отстраняясь и видя точку на мочке уха, отметил он. – А в десятом классе носила мамино кольцо и сережки.
Наташа уловила шершавое прикосновение его губ, гладкость выбритой кожи, запах солнца, а может быть неба, и одеколона «В полет». Его одеколона: любил его еще до авиационного училища.
– «В полет»? – спросила она, радуясь, что он сразу понял, о чем она спросила; радуясь, что его натянутость ослабевает, что он ее брат, что так много можно сказать этим одним словом, вызвав воспоминания о доме, юности и отце – хмуром, сосредоточенном, виртуозном военном летчике-испытателе. Отец тоже любил этот одеколон.
Игорь и правда оттаял, когда Наташа взяла его за левую руку и мягко похлопала пальцами по тыльной части, как делала в детстве, если он петушился и лез в драку. «Что ж, Натка – душа! Хорошего в ней очень много, только язык – не приведи господи, но сколько меня выручала! Почему же не хочет, упорно отказывается от моей помощи?»
– Натка, – он начал разговор, искоса глянув, достаточно ли отъехал шофер: чересчур любопытный. – Натка, отец беспокоится. А уж о матери молчу. Того гляди, примчатся прямо сюда, в Туркмению. Писать им стала реже. Меня отшила с моим предложением о переезде. Я со стыда сгорел на службе.
– Потому что не вышло по-твоему, потому что для тебя твое самолюбие и тщеславие – главное.
– Что ты болтаешь? Во-первых, самолюбие есть у каждого, во-вторых, прости меня, что же сверхъестественного в том, если хочу перевести свою сестру поближе к себе? Что?
Если у Игоря вырывалось «прости меня», это значило: не простит обиды, завелся. Лучше всего перемолчать. Испытанный способ помог. Перемолчала, выдержала паузу, сбавила тон, мирно пригласила:
– Пойдем… чаю попьем.
– Ты меня вот так напоила, – ребром ладони гневно провел Игорь по горлу. – Глупо, понимаешь, глупо выходит. Когда ты меня выставила, ну не выставила, ну отшила, ну отбрыкнулась от моего варианта, я сразу же позвонил домой. Отец – на дыбы! Как, мол, отказывается? Мама – в слезы, взяла трубку, а говорить не может: «Наташа, Наташа…» – и всхлипывает, как маленькая. На службе у меня руками разводят. Место освободилось, держат для тебя, ждут. Если хочешь – просят.
– Ну чего кипятишься? – и невинно спросила: – Расскажи лучше, как новую технику осваиваешь?
– Прости меня, лучше расскажу, как мне родная сестра становится чужой! Почему ты так обидно отказываешься от помощи? Мне столько помогала – дело не в той, что мы брат и сестра, – сколько по-человечески помогала. Женился я и – счастлив благодаря тебе: послушался. Да что, черт возьми, перечислять! Всегда со спокойной душой, с открытой душой принимал помощь, веря, что когда-нибудь отвечу тебе чем-нибудь подобным. Но Почему ты, сделав для меня столько, отказываешься и от того немногого, что я тебе могу предложить? Почему? Или боишься быть мне обязанной? Боишься? Когда-нибудь обращусь за помощью, а щедрость твоя оскудеет?
– Нет, пойдем лучше чаю попьем.
Игорь остановился: ждал.
– Я себя не переделаю. Может быть, Игорек, это и выглядит глупо. Но я сама ошиблась, сама должна исправлять. И, хоть убей, я себя не переделаю… ни в хорошем, ни в плохом. Если люди так легко бы менялись, как все ладно устраивалось бы! Но смешно верить: ты поговорил со мной или я с тобой, и все изменилось. Нет, вижу, чувствую по себе: пока во мне что-то внутренне не перемелется, я и внешне не в силах переменить свой образ жизни. Да, я живу трудно, не скрываю. Многого ты и не знаешь. Но живу. А там – потеряю самостоятельность. Ну не могу тебе этого объяснить… Если хочешь, в этом необходимость самоутверждения. – Она помедлила, усмехнулась: – Знаешь, мне кажется, одним не дано дарования, а другим не дано умения его показать. О себе еще не знаю: есть у меня дарование или нет. Но хочу верить, предчувствую, что как врач – пригожусь. Одним словом, прости и прощай.
– Знаешь, Натка, тебе, может быть, кажется, что ты борешься сама с собой, а выходит на самом деле – борешься со мной, с отцом и матерью. Зачем?
– Наталья Ильинична! – Они обернулись и увидели на пороге больницы Гюльчару. При людях Гюльчара всегда звала Наташу по имени и отчеству, а сейчас особенно уважительно подчеркнула это. – Наталья Ильинична, разрешите вызывать больных на вечернюю перевязку.
– Пожалуйста, Гюльчара! – ответила Наташа и повернулась к Игорю: – Ну, пока, раз чаю не хочешь. Как будешь над больницей пролетать, серебряным махни крылом. Знаю, ты несколько раз тут кружил.
– Вот черт, – и он обнял ее на прощание, – ну и проклятый характер!
– Ивановский! – развела она руками.
– Не тебе махнуть, а на тебя впору махнуть крылом и не серебряным, а вороньим! Ну, да шут с тобой! Не молчи хоть, дуреха, Наталья Ильинична!
Она совсем, как Юлька, показала язык. Получила щелчок по лбу. И почти радостно, по-детски, рассмеялась, впервые за долгое-долгое время. Будто и на душе легче стало.
– А как твой Яшка-чебурашка?
– Спрашиваешь!.. – Игорь расцвел. – Мы с Иринкой так к нему привязались! Правда, все грызет. Тапочки мои и Иркины, а сколько туфель, эх! Даже до моего альбома добрался! – Игорь увлеченно вспоминал все шалости и проделки своего любимца.
– Минуточку! – перебила его Наташа. – Я тут для тебя у Тахира Ахмедовича несколько марок достала. Авиационные!.. – подмигнула Игорю и – совсем как девчонка – опрометью кинулась в комнату. Глядя ей вслед, Игорь подумал, что было бы хорошо жить рядом!
Над головой с шумом пронесся истребитель. «Это наши дают!» – с восхищением и гордостью подумал Игорь о своих товарищах. И вспомнил, как у него в недавнем полете отказал указатель скорости. Высота была около трех с половиной тысяч метров, когда двигатель внезапно заглох. Игорь бросил машину в пике, и двигатель заработал. Но при выходе из пикирования, видимо, заклинило рули хвостового оперения. Командир полка уже готов был приказать покинуть самолет. В то же мгновение немалым усилием Игорь подчинил себе «ястребок». Случай был исключительный. И мгновенная реакция, блестящая натренированность спасли жизнь летчика и машину. Никому об этом, конечно, Игорь тогда не обмолвился ни словом.
Вернувшись с марками, Наташа почему-то пристальнее обычного посмотрела на его виски.
– Ты что, сестренка?
– Что-то раньше я у тебя седины не замечала…
– Это – цвет неба…
– Или цвет риска? – неожиданно спросила она. – Что-нибудь случилось? – Ее глаза тревожно скользнули по его лицу.
– Наташка! – Он благодарно прижался к ней. Ее щека была холодна. – Спасибо, друг Наташка!
«Вот как я ей дорог! – понял он. – И она любит меня, а это так помогает мне в жизни!»
– Спасибо за марки! Одну, с твоего разрешения, я подарю своему другу Муромцеву.
– Муромцев? Такой высокий? Очень живой, открытый?
– Ну да! Старший лейтенант. Замполит на заставе. Друг что надо! Яркий человек! Я многим ему обязан, и даже Аякса он помог достать. А ты откуда знаешь Муромцева?
Наташа хотела рассказать о приезде пограничников, но не решилась, опасаясь разговора об Атахане…
– А ну-ка, – сняла с него фуражку, – а я все-таки выше тебя, – примерилась она, встав рядом.
– Конечно, у меня сапоги не на шпильках, – уколол он.
– Извините, товарищ старший лейтенант. Перед вами скромная, скромнейшая из женщин… на наискромнейших нижайших каблуках. И она выше вас, поднимающегося на своем «ястребке» выше туч и выше Копет-Дага!








