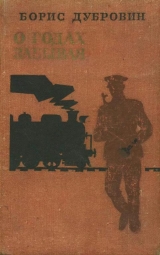
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
– Как твоя сестра дочурку свою назвала? Не Олей?
Проводница счастливо рассмеялась и благодарно кивнула.
Около хвостового вагона вынырнула плотная фигура.
– Василий! – Михаил узнал бывшего морского пехотинца – сигнальщика Василия Алексеевича Оленика. Михаил дотронулся до руки Никитина, предупреждая о чем-то. Никитин решил, что старшина задел его случайно, и направил фонарик на Кулашвили. Старшина улыбался доброжелательно, но смущенно. Кулашвили, как всегда, ждал от Василия точных сведений и, как всегда, ощущал себя виноватым, что сам не может быть одновременно на всех участках.
– Зайдем ко мне на пост! – пожимая им руки, пригласил Оленик.
Зашли в его будку. По окнам лупил дождь. А в печке потрескивал огонь. На огне стоял котелок. Аромат разваренного пшена и приправ защекотал ноздри. Рядом посвистывал помятый, ярко начищенный чайник.
Оленик несколько медленно наклонился к тумбочке и начал доставать сахар и стаканы. Михаил остановил его: некогда. Спросил о радикулите.
– Замучал… проклятый, – вздохнул Оленик и повернулся к Никитину. Никитин увидел полосатую тельняшку в расстегнутом вороте чистой, починенной сатиновой рубашки. Поверх нее, напоминая бушлат, ладно сидела телогрейка. – Радикулит замучал и… вот, – он ключом отомкнул замок на другом ящике, отворил дверцу и указал флажком на смятые и надорванные листовки. – Сжечь, что ли?
– Нет, – забирая «трофеи» вздохнул с сожалением Михаил, – надо сдать, как положено…
Оленик все же налил им чаю:
– Ну, выпейте! Ведь промокли!
– Спасибо, какие еще новости? – улыбнулся Михаил.
– Да, появился около моего поста один… в форме железнодорожника. Я как раз пошел к электрическому управлению стрелками, гляжу, а он выплывает. Головы на две выше меня. Вот пока и все.
– Спасибо!
– Не за что! Тебе жена, Михаил Варламович, привет передавала. Ну выпейте чаю, кулеша поешьте, хоть попробуйте. Жена готовила.
– Спасибо, спасибо!.. – заторопился Михаил. – Жене и Юрке привет. Пусть на алгебру нажимает и мать учительницу не подводит. Так и передай от меня. И еще – на удачу! – Михаил отдал целлофановый пакетик. В нем виднелись рыболовные крючки.
– Спасибо, Миша. Все ты помнишь!
– А как же! – как о само собой разумеющемся, ответил старшина. Он знал всех стрелочников, составителей, рабочих, машинистов, знал их семьи. Самым главным инженером называли Михаила.
На пути к вокзалу к Кулашвили подходили люди, говорили о своих наблюдениях, называли места, фамилии, время. И старшина кивал, очевидно схватывая на лету, прикидывая что-то и решая.
На вокзале они вошли в кабинет капитана Домина.
Богатырски плечистый, среднего роста, с короткой шеей, капитан Домин смотрел на переводчика из «Интуриста», почти седого человека с утонченным лицом – Валентина Углова. Валентин знал девять языков, но никогда не подчеркивал своей эрудиции и отличался молчаливостью. В прошлом отличный врач, он не устоял перед любовью к языкам, а романтика привела его сюда. До того как вошли Кулашвили с Никитиным, здесь в кабинете спорили. Домин, перебирая страницы только что изъятых заграничных журналов, говорил:
– Ты перевел мне нюансы их мыслей. А есть ли они?
– В том-то и дело, Леня! Они убеждены в своей правоте. И потому так опасны.
– Насколько опасны – знаю, – прервал Домин. – Но можно искренне заблуждаться! Иностранцы, побыв в нашей стране, иначе начинают смотреть на нас.
– Иначе смотреть – еще не значит измениться.
– Странно, ты гражданский человек, Валентин, а мыслишь более жестко, чем я, пограничник. Эти писаки, по-моему, уверены лишь в одном: надо быть сытыми любой ценой. Им платят за антисоветчину, они и несут ее.
– Нет, нет! И мысли их острее, и оружие у них тоньше. – Валентин улыбнулся, увидев мокрые лица и мокрые плащ-накидки входящих Кулашвили и Никитина. – Новые материалы?
– Товарищ капитан!.. – Кулашвили доложил обо всем, что произошло на дежурстве. Потом он положил на стол материалы, переданные проводницей Ольгой Нефедовой и Олеником, рассказал о неизвестном в форме железнодорожника. Никитин удивился, когда Михаил Варламович по порядку перечислил фамилии и сведения о встреченных по дороге.
Домин в записной книжке делал пометки.
Разворачивая журналы и антисоветские листовки, принесенные старшиной, капитан с трудом удержался, чтобы брезгливо не отдернуть руку, и как бы вскользь заметил:
– Кстати, оптический прицел и двуствольный пистолет, изъятые вами позавчера, американского производства. Акт на них составлен. Но это потом. Сегодня изъято сто девять экземплярчиков враждебной литературы. В том числе и «старые» наши знакомые: газеты, журналы и ворох вульгарщины. – Домин поморщился. – А ты говоришь – убеждения! – непоследовательно обратился он к Валентину. – Какие к черту убеждения! Это растлители! Наверное, сами себе отвратительны после этой похабщины. – Он вызывающе посмотрел на обложку, на которой бесстыдно раскинулись обнаженные женщины. Домин мотнул головой, точно это было ему личным оскорблением. Давно бы надо капитану притерпеться… По долгу службы с Валентином, перелистывая снимки голых проституток всех рангов и национальностей, он чувствовал, что происходит святотатство, кощунство, превращение женщин в животное. Продавшись сами, они словно кричали, что продажны все. Налистаешься таких журналов, и словно тебя опоили каким-то отравленным зельем: все сброшено со своих пьедесталов, святынь нет. Есть ее величество похоть! И только ей поклоняется все живое!
Вихрем пролетели эти мысли в голове Домина. Он смущенно посмотрел на Никитина, будто прося прощения у него за грязь этого чуждого мира.
Валентин вздохнул.
Лицо Домина приняло строгое выражение, и он обратился к Никитину:
– Первый раз в наряде?
– Первый! – ответил за Никитина Кулашвили. Он сделал сильной рукой короткий отметающий жест, как бы отбросил прочь эти журналы, и празднично горделивым голосом продолжал: – В первый раз… и такая удача! Удача! Понимаете, – Михаил обращался и к Домину, и к Углову, – в первый же выход он обнаружил в куче угля сверток и нацелил меня на топку. – Кулашвили восторженно посмотрел на новичка. – Молодец!
Евгений подтянулся: эта похвала поднимала его, выпрямляла, придавала силы. Лицо Домина прояснилось.
– Молодчага! Так держать!
Евгений вышел на отлакированную дождем и огнями платформу, развернул плечи. Ему показалось, что он стал даже выше ростом. Теперь он может написать брату пограничнику, что, мол, и он не лыком шит. И маме напишет, порадует! Не зря и сам так радовался, когда попал служить в погранвойска!
Если бы Евгений увидел себя со стороны, он обязательно заметил бы, насколько тверже стала его походка, зорче взгляд.
И на следующий день Никитина ждала удача: пришел состав с контейнерами. Каждый должен быть опломбирован. На одном, заметил Евгений, пломба не охватывала оба ушка, можно было опустить рукоятку запора контейнера и открыть, не задевая пломбы.
– Так, Женя! Вызови весовщиков и таможенников. Они же должны пломбировать, – сказал Михаил Варламович, гордясь Евгением.
При досмотре оказалось, что в комплекте не хватало одного торшера.
– Видишь, не зря тебя хвалили! Такие контролеры нам очень нужны! Рад за тебя! Ты еще развернешься! – с теплой улыбкой потрепал его по плечу Михаил Варламович.
Кажется, по-особому шумели высокие тополя в городке, где расположилась воинская часть, в которой служил Никитин. Все тут своими руками сделано. Рассказал об этом Михаил Варламович. Когда-то тополя были совсем маленькими. А теперь какие вымахали! Евгений с Кошбиевым, с которым подружился с первых дней службы, по-хозяйски осматривали яблони и вишневые деревья. Все им нравилось в городке. И телевизор у них есть, и своя киноустановка, своя радиола!
А брусья на спортплощадке – просто янтарные! На турничок хотел взлететь, но уступил место Кошбиеву! Мухарбий – парень натренированный. Он «солнышко» крутанул – позавидуешь!
А потом присели и опять – о нарушителях.
Кошбиев рассказывал, как Кулашвили в полувагоне с досками обнаружил отпечаток ботинка и потом в тайнике – нарушителя границы. Никитин мотал себе на ус. Да и сам Кошбиев старался понять, представить себе, постичь неуловимые импульсы-сигналы, нужные контролеру.
Капитан Домин ехал на газике к вокзалу, и в памяти звучали слова песни: «Днем и ночью, зимою и летом я надеюсь и верю, и жду…»
Он думал: «Мы все ждем (всегда!) чего-то… Но чего? Но кого? А кто-то нас всю жизнь прождал, а мы о нем и подумать не успели… Знает ли Ирина, как я ее жду?.. Понимает ли она, каково мне?.. Или мы вообще разобщены и не можем в полной мере ощутить боль самого близкого человека…»
Он постарался не думать о жене. После того как зимой ее случайно (случайно ли?!) толкнули и она упала на ледяную мостовую, ударившись головой, она заболела. Врач сказал: астенический синдром. Стали частыми головные боли. Они изнуряли учительницу Ирину Николаевну Домину, доводили ее до отчаяния. Потом появилась неожиданная для нее полная неуверенность в себе, как в педагоге, в своих знаниях, хотя она была на хорошем счету в школе. Угнетающее нервное напряжение росло. Она вздрагивала при щелкании выключателя телевизора или при стуке двери. Ей стало казаться, будто ее преследует тот, кто, поскользнувшись, сбил ее с ног, хотя он сам упал, и это она видела. Она стала бояться выходить на улицу, и муж провожал и встречал ее с работы. Ночами плакала, сначала скрывая от Леонида свои страхи, потом с мокрыми глазами уходила в школу, в слезах возвращалась. А однажды ни с того, ни с сего сорвалась на уроке, грубо накричала на своего любимого ученика Арсения Чижикова, хотя сама же признавала, что урок по истории Арсений, как всегда, выучил блестяще. Потом ходила извиняться к его родителям. На следующий день внезапно подала заявление об уходе, озадачив директора школы. Неожиданно уехала к родным в Баку, оставив мужу записку, в которой путанно пыталась объяснить свой отъезд и невозможность дальнейшей совместной жизни до полного выздоровления.
Домин заставил себя не думать о жене, а в подсознании звучала и звучала строка из песни: «Днем и ночью, зимою и летом я надеюсь и верю, и жду». И перед глазами близко вспыхнуло лицо Ирины.
Леонид Леонидович переключил скорость, развернулся у вокзала, остановил машину. Он радовался сумятице дел, необходимости держать в поле зрения и контроля этот вокзал и еще кое-какие объекты. Кстати, надо уточнить, что это за человек пытался проехать по просроченным документам в Эрфурт? Нужно разобраться с документами двух дипломатов, с визами… Поговорить с тем иностранцем, у которого нашли баллончик со слезоточивым газом. Еще раз посмотреть изъятые при личном досмотре нательные спецпояса с потайными карманами для листовок… Ну и потом – о Кошбиеве…
Мостовая влажно поблескивала: дождь то шел, то стихал. Сырое утро было неприветливо. Отряхнув шинель, Домин вошел в вокзал, встретил Михаила Кулашвили и спросил его:
– Что вы, Михаил Варламович, думаете о Кошбиеве?
– Он с Северного Кавказа, из аула Малый Зеленчук. Наблюдателен, память цепкая. Благодаря ему мы начали нащупывать преступную связь между Бусыло, Зерновым и Беловым.
Домин перекладывал платки, принесенные Кулашвили, смотрел на них. Могло показаться, будто он вообще не слушает, о чем рассказывает Кулашвили. А Михаил Варламович продолжал:
– Каждый уходящий за границу поезд осматривал всегда быстро и тщательно. Вы сами знаете, товарищ капитан, сколько люков в каждом вагоне. Мухарбий изучил каждую щель, куда может быть спрятана контрабанда. Отличается высокой ответственностью, умеет принять самостоятельное решение. О нем много можно сказать. Я же ему и в партию дал рекомендацию.
– А как он развит физически?
– Да разве вы не знаете, что он самбист? Спорт – его страсть. Посмотрите, как работает с гантелями. Усиленную физзарядку делает. Через день на тренировку ходит в город, занимается в секции самбо. У него первый разряд. Имеет больше сорока поощрений. Баллончик со слезоточивым газом, спецпояс с потайными карманами, в которых были листовки, – это все он обнаружил.
– Понятно, понятно. А характер, характер какой?
– Добрый, очень справедливый, правда, вспыльчивый, но владеет собой неплохо.
– И наблюдательный, вы говорите?
– Да! Помните, как он подделку в паспорте обнаружил?
– Сто восемьдесят семь платков, – опять обратил внимание на сегодняшние трофеи Домин. – Сто восемьдесят семь… Но не всегда твой Мухарбий Фатихович Кошбиев умеет властвовать собой. После вчерашней тренировки, возвращаясь из города, наткнулся на трех хулиганов. Одного из них он не так давно задержал у товарняка перед самым отправлением за границу. Тот уже проходил у нас как нарушитель погранрежима. Есть сведения, что он собирался махнуть за рубеж. Двое других были неизвестны. И вот эти трое, судя по всему, поджидали Кошбиева. С ножами. Один – его «старый знакомый» – имел и кастет.
– Он ничего не сказал мне…
– Да и нам стало известно с некоторым опозданием. Мог бы ограничиться тем, что обезоружил их.
– А он?
– Так обезоружил, что им придется полечиться. Правда, всех троих привел в милицию, а своего «старого знакомого» на себе приволок.
– Ну и правильно! Черкесская гордая кровь заговорила. Я бы не справился с тремя. А они были еще с ножами, с кастетом. За что же вы им недовольны? Удивительно! Не понимаю вас, товарищ капитан!
– За превышение сопротивления при самообороне.
– Да погодите! Они нападали или он?
– Они! А все-таки ваш самбист переборщил. Я ездил, видел эти рожи. Вернее, старался понять, какие они были до нападения на Кошбиева. Но очень уж свиреп.
– Нет, я прошу, вы его не трогайте. Парень золотой. Я его еще больше после этого уважать стану.
– Не знаю, не знаю…
– А я знаю! Я же с ним не первый день работаю! И если бы видели, какой справедливый, добрый, отходчивый! Я, бывает, готов взбеситься, когда контрабандисты из себя дурачков корчат, а он и бровью не ведет! И ведь парень красивый, девчата так и льнут к нему. А у него есть девушка… Так он… как монах. Вот какой парень!
– Подумаем, посмотрим… Так вот, ваш монах говорит, что в тот вечер около этих троих будто бы видел человека в очках, коротконогого, неторопливого. Задержался и прошел, будто бы успев им что-то сказать. Вам, Михаил Варламович, ни о чем не говорят эти приметы?
– В очках, коротконогий, неторопливый?
– Да, он еще заметил, что указательным пальцем левой руки часто поправляет очки.
– Нет, ничего не могу сказать.
– Ну, ладно. Теперь о другом. Заходите, заходите вместе с вашим другом Алексеем Глебовичем ко мне на чашку чая. А то ведь… знаете… как-то не по себе одному в квартире. Договорились?
Михаил Варламович кивнул понимающе, но опять подумал о приметах незнакомца:
– Так, вы говорите, коротконогий, неторопливый? В затемненных очках?
II
Зная до тонкостей каждого из своих сподвижников, Александр Сморчков старательно носил маску непроницаемости, чтобы никто из них никогда не мог догадаться, о чем он думает. Познав падение, унижение, увлечение водкой, он делал вид, что скользит лишь по поверхности их судеб и отношений друг с другом. Высокий бледно-серый лоб, жесткие бурые волосы, маленькие, близко поставленные глаза, замаскированные чуть затемненными очками в тяжелой оправе. Нижняя часть лица шире верхней. Длинный, волчий подбородок и крепкие, плотно посаженные зубы. Полное брюшко на кривоватых укороченных ногах. Душа ревнивца, честолюбца и стяжателя. Трудно поверить, что он мог быть любимым. Но это было. Сморчкова отличала сметка, хватка, зоркий ум. И если бы не кожная экзема, то Сморчков держался бы еще уверенней. Он принимал себя таким, каков был, знал цену своей воли и выдержки. В своем превосходстве над пограничником Михаилом Кулашвили Сморчков не сомневался.
Нину он пригласил к себе домой, в тесную однокомнатную квартирку.
Нина долго вытирала простенькие дешевые туфельки о сложенную вдвое мешковину около порога. Она впервые решилась прийти в дом, веря в порядочность Сморчкова. Он же для нее был не просто рядовым сотрудником – диспетчером депо, а еще (главным образом) руководителем кружка самодеятельности – Александром Богодуховым. Псевдоним подчеркивал и одержимость идеей, и высоту полета мысли, и одухотворенность души. Это только в паспорте и в трудовой книжке, да и в табеле на получение зарплаты значилось: Сморчков.
– Для вас, Ниночка, несколько внове такое посещение моих пенатов, – высокопарно, витиевато говорил Сморчков-Богодухов. – Милости прошу, мой дом – ваш дом!
Юное, доброе и доверчивое лицо Нины зарделось, на полных свежих губах задержалась милая улыбка чистоты и смущения, особенно любимая им. Сморчков всегда в обществе Нины находил столько радости…
Она все еще медлила, точно должна была переступить не порог его квартиры, а порог судьбы. Скромность Нины была видна и в ее гладко причесанной склоненной голове, и в опущенных руках. Помада еще не касалась полных губ. Естественность и простота руководили каждым движением.
– Ну, прошу вас, Ниночка, ей-богу, под этим кровом вы будете в полной безопасности. – Он широким жестом распахнул перед ней дверь, обтянутую продранным дерматином, крест-накрест перехваченную пепельными лентами, прибитыми обойными гвоздями.
Нина коснулась пальцами шляпок гвоздей, погладила ленты.
– Ну, Ниночка!
Она вошла, еще раз отерев туфельки. В коридоре под линялым зеркалом, на тумбочке для одежных щеток, белело блюдце, в котором лежали два окурка. Запах табака пронизывал коридор. На Нину повеяло запустением и одиночеством от вешалки с зимним пальто.
Дощатый пол был затоптан. Но в комнате Нину встретил порядок, книги – старые, дореволюционного издания. На стене висело несколько иконок.
– Вы верующий? – Она не смела поднять на него глаз, не зная, о чем говорить, смущалась.
– Бог – тайна неисповедимая. И если я, Ниночка, не отвечаю «да», то это еще не значит, будто я склонен сказать «нет»! А собрание редких книг и икон никому но возбраняется. Напротив, я нахожу особую прелесть в общении с произведениями искусства, чьи безымянные авторы, увы, давным-давно по иную сторону бытия. Да садитесь, садитесь вот сюда, на диван.
– Мне удобнее на стуле, если не возражаете. – Она присела на краешек стула, вся подобралась.
И минувшее ему почудилось сном. Почудилось, что сейчас должно наступить, наступает, свершается пробуждение. Неужели чутье обманывало его? Неужели знание людей было несовершенным? Неужели, в конце концов, взгляды этой девушки на занятиях кружка были им поняты неверно? Она смотрела на него! И как! И все ли способен высказать взгляд? И какие за ним скрываются невысказанные слова?
Нина повела глазами по комнате, снова заметила иконки, но уже как-то иначе восприняла их. «Он поклоняется красоте, – думала она, – а я, случалось, поклонялась его любви к этой красоте».
На занятиях танцевального кружка Александр Александрович был для нее особым существом, посредником между всеми кружковцами и сценой. Конечно, была особая прелесть даже в его выговоре с картавинкой. Конечно, девушка смотрела восторженно на своего учителя: он столько сделал для нее! За это ли не благодарить человека? А после танца среди пыльного дыхания кулис его окрыляющий шепот: «Все было хорошо! Вас вызывают! Поклонитесь достойно, не очень низко склоняйте голову. Вы их поднимаете своим искусством, помните это! И когда будете биссировать, приберегите силы для финала, а там вверьтесь себе и порыву!» Такие слова помогали.
Человек не всегда властен над движением своей души, еще меньше он властен над выражением своих глаз. И мы почти не умеем видеть себя со стороны. А взгляд Нины в эти секунды сиял светом рампы, отблеском сотен восторженных глаз, которые улыбались ей. Душой она была на сцене, а глаза ее, лучистые, почти влюбленные, были обращены на Александра Александровича. Было отчего впасть в заблуждение и ему.
– Вот посмотрите, – он снял со стены и подал ей иконку, – шестнадцатый век. Гордость моей коллекции.
Подавая иконку, он вольно или невольно коснулся горячей руки Нины и потому отошел и сел за письменный стол, удерживая себя от порыва. Сев за стол, он проглотил слюну, указательным пальцем левой руки поправил очки, воровато стрельнув глазами в сторону кровати, застланной тканевым белым покрывалом, с двумя подушками, положенными друг на друга.
Чтобы Нина скорее освоилась, он подошел к простенькому буфету и, доставая две чашки и сахарницу, глянул в прямоугольное зеркальце, которое заменяло внутреннюю стенку буфета. Горько было и мельком увидеть свое нескладное лицо, маленькие глазки. Даже сквозь затемненные стекла очков он уловил их маслянистый блеск. Вздохнув, достал ложки.
Нина рассматривала иконку. Ничего в ней не понимала, не постигала красоты, скрытой от нее и доступной Александру Александровичу. Она увидела, как несуетливо двигается по комнате Александр Александрович, как он поставил на электрическую плитку небольшой чайник. Порадовалась, что он при ней еще ни разу не закурил, хотя в пепельнице, придвинутой вплотную к затейливому чернильному прибору с однокрылым голым мальчиком, были вмяты выкуренные, недокуренные и едва начатые папиросы. Письменный стол, буфет, книги, иконки, тяжелый шкаф, двуспальная кровать. На столе лампа с матерчатым ветхим блекло-зеленым абажуром.
– Спасибо, Александр Александрович! – Нина вернула иконку и подошла к лампе.
– А не угодно ли полистать книгу?
– Спасибо! А вы здесь, за этим столом, трудитесь?
– Да… Собственно, присаживаюсь, чтобы записать. А обдумываю на ходу, в депо, на занятиях кружка.
– Мне очень понравилось, как вы читали в последний раз со сцены. А как вам хлопали!
Александр благодарно кивнул.
– Ну, прошу к столу. Конечно, приятно было бы, если бы любящие женские руки сервировали этот скромный стол, но, увы…
В маленьком городе большие секреты долго не держатся. И разрыв Сморчкова с женой, ее отъезд к родным с сыном – все это не раз обсуждалось и среди участников кружка самодеятельности. Говорили, взял он необразованную женщину с ребенком, она ему – не пара. Поглядывали на Нину со значением. Да она и сама гораздо раньше, чем об этом заговорили, почувствовала, как Александр Александрович ее отличает. Он и на выступлениях кружка находил ей такое место в программе, чтобы обеспечить успех. Он мотался по городу, бывал в отделе культуры горисполкома, «выбивая» ей деньги на костюмы для новых танцев. А с каким уважением, прямо почтением, с какими паузами объявлял он о ее выступлении. Были и другие приметы, говорящие о его серьезных и немалых намерениях. Да и это приглашение к себе домой…
Александр Александрович придвинул ей фаянсовую чашку, налил чая, угадав: крепкий не любит.
– Вот сахар, конфеты, хлеб и масло. Разрешите, я вам бутерброд сделаю. – И, не дожидаясь ответа, ловко отрезал кусок белого хлеба, намазал маслом, положил на блюдце около Нины.
– Извините, я без сахара.
– Почему же? Сахару предостаточно! В нашем пограничном городе снабжение вполне приличное.
– Не потому. Но хочется.
– Ну и прекрасно, перед вами конфеты, Ниночка.
– Нет, я так… – было неловко сказать, что из-за диабета не может пить чай с конфетами.
– Неужто вы, такая цветущая и стройная, боитесь поправиться? Вам еще ой как рано об этом заботиться! Вы и так – как струнка. А когда перед дверью пальцами прошлись по шляпкам гвоздей, ну словно по кнопкам гармони!.. Мне даже почудилось, точно моя дверь запела, зазвенела под вашей рукой.
– Ну что вы, Александр Александрович! – Ей было чрезвычайно приятно слышать его слова, изысканные фразы.
Почувствовав ее смущение, он наугад включил радио, песня кончалась, однако мелодия показалась знакомой, и он, чтобы как-то развлечь Нину, проговорил:
– По-моему, это песня «О годах забывая», Я впервые услышал ее в день вашего возвращения после победы на смотре. Может быть, потому и запомнил ее.
– «О годах забывая»?
– Да, мне запомнились слова; сейчас я, секундочку…
– Неужели, вы с одного раза запомнили?
– Что ж удивительного? Владимир Яхонтов – вы знаете, это мой кумир – огромные куски запоминал. Всего «Евгения Онегина» наизусть знал. А как читал! Зритель видел то, что читал Яхонтов! Как же для этого, надо было видеть самому чтецу!.. Так вот слова этой песни; читаю лишь то, что мне запомнилось. – Простым непритязательным словам песни Александр Александрович придал какой-то свой добавочный смысл, как бывает в разговоре по душам:
Днем и ночью, зимою и летом
Я надеюсь и верю, и жду,
Что уйду обязательно в небо
И хоть раз еще в море уйду.
Знаю, скажешь: «Не те уже годы,
Понапрасну теперь не труби:
Улетели твои самолеты,
И уплыли твои корабли…»
– Вы так опечалились, Александр Александрович?
– Нет, нет, ничего, ничего… Прошу вас, пейте чай как и с чем вам угодно. Пожалуйста!..
Приятно вился пар над фаянсовой чашкой, теплел голос Александра Александровича:
– Нина, я чувствую, вы все время настороже. Но разве я посмею вас обидеть или воспользоваться вашей доверчивостью? Не бойтесь меня, а выслушайте внимательно.
– Я вас слушаю очень внимательно, – сказала она, встала, включила лампу так запросто, словно делала это всегда.
Его узкий лоб и жесткие бурые волосы в свете настольной лампы приобрели несколько призрачный оттенок. Очки показались более затемненными, какая-то таинственность пролилась в комнату сквозь блекло-зеленую ткань ветхого абажура.
– Я слушаю вас, Александр Александрович! А лампу включила, чтобы лучше видеть вас.
Пауза затягивалась.
– Нина, вот вы так естественно включили лампу… меня согревает ее свет, будто он принадлежит вам, вашей душе.
– Как вы красиво говорите! Вы, наверное, и чувствуете красиво!
– Мне трудно самому давать оценку своим восприятиям, поэтому благодарю вас за похвалу. Боюсь, я не очень достоин ее. Но позвольте продолжить. – Он долил ей чаю, поставил чайник на плиту. Прислушался, как он изредка стал посвистывать.
– Нас несет время сквозь жизнь, Нина. У меня за спиной достаточно разочарований, у вас впереди много хорошего. В вашей власти избрать свою судьбу. Я пригласил вас домой, чтобы здесь поговорить о самом главном для себя, о создании семейного очага. Не сердитесь на меня за некоторую осведомленность относительно ваших сердечных дел. Я знаю, помощник машиниста – женатый Бусыло – ухаживает за вами. Не сердитесь, но мне больно видеть его разнузданную шкиперскую бородку, его водянистые рыбьи, холодные глаза и квадратную физиономию рядом с вами. Это услужливый, беспринципный человек, созданный для побегушек. Его угодливость, видимо, рассмотрели и вы сами, иначе вы бы так резко не поссорились с ним семь дней назад, когда он неподалеку от танцплощадки посмел вас обнять. Так отрицательно о нем говорю потому, что и вы не думаете о нем положительно. А его друг – Левушка Зернов тоже пытался обольстить вас. Но ни его козлиная бородка, ни звание машиниста не помогли. Я знаю, как вы его отбрили. Но именно ваше объяснение с ним ускорило нашу встречу и приблизило этот столь интимный разговор. По нескольким деталям, приведенным мною, вам ясно, насколько я осведомлен о ваших сердечных делах. Вы знаете, я искренне ценю ваше дарование – вашу непринужденную грацию в танце. Вот почему считаю невозможным более таиться. Впрочем, зачем я говорю «таиться»? Вы, полагаю, давно поняли мое к вам отношение, догадались, разумеется, что пригласил вас не столько на чашку чая, сколько для того, чтобы побеседовать о чаше жизни, о том, чтобы она стала единой для нас. Со своей бывшей женой я связан пока лишь формально: через несколько дней брак официально будет расторгнут. Фактически же я давно морально свободен, если вы не испытываете ко мне физического отвращения, если я ничем не обидел вас, то обещаю, Нина, создать вам благополучие, достойное вас.
– Ну зачем вы это говорите, Александр Александрович! Для меня всегда важней всего душа, душа человека!
– Вот именно, душа. Но скажите, разве Михаил Кулашвили обладает душой? Я говорю о возвышенной душе. Разве он сумеет обеспечить вас и семью?
– Я заканчиваю техникум и сама себя обеспечу. Я… я привыкла полагаться на себя, за кого бы я не вышла замуж, на шее мужа сидеть не буду!
– Вы горячитесь, Ниночка. Вы так же горячитесь, когда не получается танец. Но от вашего решения зависит судьба не танца, а жизни. Вытанцуется ли она у вас? Не возражайте, но я…
– Александр Александрович!
– Не прерывайте меня, умоляю вас!.. Вот вы держали в руках иконку богородицы Владимирской. Не уверен, знаете ли вы о ее истории, но красоту ее вы интуитивно чувствуете. А Михаил Кулашвили человек иного круга, иной крови. Не подумайте плохо обо мне, я против любого национализма. Но что вы знаете о Михаиле?
– Позвольте не отвечать вам.
– Нина, вы знаете немного. Родился он в грузинском селе, недалеко от городишка Квибули. Отец его погиб на шахте, когда Михаил был мальчишкой. С десяти лет он пахал, впрягая в плуг быков. Воспитывали его мать и дядя. Да какое это воспитание! Конечно, он работал добросовестно, и к нему сам бригадир обращался, как ко взрослому, по имени и отчеству… Знаете вы, Нина, что он после окончания седьмого класса поступил в школу ФЗУ и стал слесарем. Наверное, Михаил вам хвастался, что на вокзале в Квибули решетка и ступени балкона – его работа.
Первым желанием Нины было прервать этот разговор. И она вспомнила, как познакомилась с Михаилом. Все вышло случайно. Пьяный верзила на две с половиной головы выше Нины пристал к ней вечером в воскресенье. Прохожие делали вид, что ослепли, оглохли и онемели. Они ускоряли шаги и торопились миновать Нину и верзилу, который уже сгреб ее, хотя она отбивалась и звала на помощь. Потом она перестала звать, видя, что никто не хочет помочь ей. Она молча отбивалась. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы из темноты не вынырнула небольшая фигурка. Подумав, что этот неизвестный – сообщник верзилы, Нина изо всех сил ударила его кулаком по лицу. А неизвестный замахнулся, и верзила как подкошенный рухнул к его ногам.
– Ниночка, вы слушаете меня?
– Да-да! – Она старалась внимательно вслушиваться, а сама мысленно снова переживала эту ночную стычку.
– Нина, Михаил в колхозе работал и на чайной плантации, сажал яблони, абрикосовые деревья… Посаженное им персиковое дерево разрослось сейчас вовсю. Он, наверное, рассказывал вам, как обрадовался, увидев его, когда навещал мать Маро Антоновну и дядю – шахтера… Я вместе с вами прослеживаю вехи его, признаться, скудной и шаблонной биографии, чтобы вы осмыслили всю ординарность старшины. Два года был он в шахте электрослесарем. В начале войны обслуживал ленту транспортера. Представьте картину: идут дни, как куски угля или породы, по транспортеру его судьбы, день похож на день. Михаил в грязном мокром комбинезоне мотается от темна до темна. Потом в 1942 году оставляет бронь и добивается своего: его берут в армию, но много ли он нашел в погранвойсках, около бухты Находка? Вы меня слушаете?








