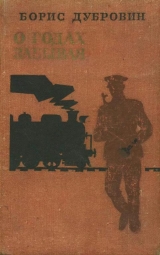
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Эти-то три машины на мосту и помешали Михаилу встретить жену пораньше.
– Прости, Нина, сперва на мосту задержался, потом в вагоне-ресторане на досмотре.
– Знаю, какой ты пьяница, – поняв его с полуслова, улыбнулась Нина. – Познакомься, Миша: Александр Александрович Богодухов – наш руководитель. Это ему я обязана победой на районных смотрах. Он же поставил мой танец!
– Рад познакомиться! – Сморчков-Богодухов пожал сухую, вроде бы и не очень крепкую руку Михаила. – Немало слышал о вас! А мне вы, Нина Андреевна, ничем не обязаны. Я всего лишь подсказывал и направлял. Я ведь мастер разговорного жанра.
– Спасибо, что жену мою одну не отпустили.
– Должен признаться, сперва был такой грех. Запамятовал.
– Александр Александрович нездоров, понимаешь, Миша, но и больной занимался с нами.
– Нет, все равно это не оправдание. Ну, простите, мне в другую сторону.
Александр Александрович поклонился и повернул направо.
– Знаешь, Нина, у меня со вчерашнего вечера было такое тревожное состояние, будто я тебя потеряю. Какое-то предчувствие беды. Сегодня на вокзале я себе места не находил. Все на часы взглядывал. Мне казалось, ты меня зовешь…
– Кстати, эти цветы мне подарил Александр Александрович.
– Странный у него вид.
– Да, он сегодня сам на себя не похож. А ты уж не ревнуешь ли?
– Если моя жена никому не нравится, – пошутил Миша, – зачем мне такая жена. Я рад, что ты нравишься, хотя моя заслуга в этом, увы, не велика.
XI
Через несколько дней Михаил с Ниной уехали в отпуск.
Смена пейзажей, плоскость равнин, спокойствие лесов, тишина здешних рек остались позади.
И вот этот неведомый для Нины край – Грузия. Горы, кипарисы, лавр. Яркие крупные цветы щедрой брызжущей окраски. И лицо Мишиной мамы. Добрые ее глаза, затаенная печаль, морщинистые сухие руки, не знающие отдыха с утра до вечера. Лозы виноградные. Благоухание лиловых круглых виноградин «изабеллы». Молодое вино. Персиковое дерево, посаженное еще Мишей-мальчиком… Решетка на вокзале. Прихотливые извивы металла, подобные плавным линиям виноградных лоз. Все это было согрето солнцем материнской улыбки, ее одобрительными взглядами, заботой?
– Скорей подарите мне внучку! Хочу внучку!
– Мама, что скажешь о моей жене? – спросил Михаил. – Знаешь, какая она…
Но мать мягко остановила его:
– Веревка хороша, когда длинна, а речь – когда коротка. Хорошую дочку мне судьба подарила… Ты не ошибся, сынок…
– Правда? – счастливо заулыбался Михаил.
– Где хорошие цветы, туда и пчела летит. Видишь, тебе пришлось долететь до границы.
– И не устал.
– Когда женщина потянет, десять пар волов не удержат…
– Мы еще не очень обжились, – словно извиняясь, вставила Нина. Она доверчиво посмотрела на мать своего мужа.
– Любящие супруги и на топорище выспятся. Ну а Миша, слава богу, хозяйственный человек, непьющий. Знаешь, поздороваешься с водкой – с умом простишься. Да я вижу он пьян от тебя, Нина… – Мать говорила и радовалась, и все не могла поверить, что уже сын ее женат, что он давно не нуждается в ней…
«Ах, мама, сперва тебе казалось, что ты должна сопровождать меня в школу, встречать после окончания уроков и даже нести мой портфель. И ты всегда поступала так, как считала нужным. Ты знала о всех моих помыслах… Никогда не жаловалась отцу. Ни разу я не видел, чтобы ты была не права. Как гордо и стойко переносила смерть отца… Как много пережила, как мало жалоб слышал я от тебя. Нет, и не баловала меня, знала, видно, какие пути-дороги ждут мужчину… Вот смотрю на тебя и понимаю, почему Нина мне так по душе. Открываю ветхий альбом, а в нем твоя молодость на фотоснимках. И Нина чем-то похожа на тебя – молодую. Как ты любила меня! Просто любила. Не из-за отличной отметки в школе, не из-за того, что рано пошел работать и сам бригадир звал меня по имени и отчеству, не из-за послушания. Просто любила. И каким заслоном от всяких напастей была для меня! Ты все могла. Ты внушила мне чувство собственного достоинства, ты пробудила во мне, открыла во мне щедрость души, и я люблю детей. Не знаю, передается ли им моя любовь, но из-за этого и выступаю перед ними, вожусь с юными друзьями пограничников. Мы с ними и вправду – друзья. И все благодаря тому, что ты была мне другом. И понял или начинаю понимать это здесь, на родной земле. Как оплатить мне свой вечный неоплатный долг? Смотрю в твои глаза, молчу, а в душе – вина перед тобой. Надо бы с тобой не расставаться, а мысли уже там, в пограничном городе, на службе. Но ведь, когда я там задерживаю диверсанта, перехватываю контрабанду, я и тебя оберегаю. Не могу высказать этого точно, но есть нерасторжимая связь между сыном и матерью, какие бы пространства их не разделяли. И все так сложно: я тебя защищал там, вдали от тебя, а обнял тебя и понял, что и там я был защищен тобой, твоей любовью, твоим бескорыстием, твоей неустанной памятью обо мне. Не утаю: я забывал о тебе не раз, а ты обо мне – никогда. Разве такое можно вознаградить даже ценой всей жизни?..»
Михаил пригубил глоток домашнего вина, стараясь справиться с волнением, Все ордена и медали надел. И слышал, кажется, как горделиво бьется мамино сердце, когда соседи и дядины внуки, пальцами показывая на его знаки отличия, говорили наперебой:
– Двадцать восемь нарушителей задержаны им лично, значит, двадцать восемь раз смотрел в глаза смерти и свои глаза не отвел!
– Орден Красной Звезды!
– Знак «Отличный пограничник!»
– Еще один такой же!
– И вот еще!
– Дядя Миша, как медали звенят! Сколько их?
– В школу ходишь, вот и смотри, сколько у моего дяди медалей: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять…
– А с орлами – что это? Это иностранные, да?
Тщеславие никогда не толкало Михаила ни на какое сверхнапряжение сил: он и без того жил всегда на пределе. О наградах не мечтал. Однако здесь, на родине, в своей деревне, как было отрадно видеть молодеющее лицо мамы, когда она разворачивала газеты и журналы с очерками, рассказами и стихами о ее сыне – Михаиле Кулашвили! Не раз среди ветеранов и молодых воинов слышал он о том, что давно пора присвоить ему, Михаилу, звание Героя Советского Союза. Он не принимал эти разговоры всерьез, просто некогда было прислушиваться – ждала работа, надо было идти по следу диверсантов, фарцовщиков, контрабандистов. А вот под кровлей отчего дома он был рад словам, обращенным к маме:
– Маро Антоновна! А сын твой ведь, оказывается, сам лично на два миллиона рублей задержал контрабанды!
– А его воспитанники на тридцать миллионов.
– Не может быть!
– Правда, правда! Вот читай, в газете, в журнале, вот фотографии нашего Михаила Варламовича! Наверно, скоро присвоят ему звание Героя Советского Союза!
– Конечно, смотри! Видишь фотографию? Видишь, с кем он на трибуне? С самим Гагариным! Наш Миша поднимает флаг слета юных пионеров в городе-герое Бресте!
– Что же ты мне, любезный соседушка, это доказываешь, когда я первый тебе эту газету принес! А ты эту посмотри! Видишь, в Артеке отряды юных друзей пограничников перед лицом знаменитых ветеранов границы Кулашвили, Смолина и начальника музея пограничных войск СССР дают присягу Родине.
…Потом заехали к брату в Тбилиси.
Брат спросил как-то:
– Откуда ты все тонкости пограничной службы знаешь? Говорят, от тебя ни один контрабандист не уйдет!
– Как тебе объяснить… Может, потому, что всех людей в бригадах изучил, все характеры, привычки. День за днем, год за годом… Люблю это дело. А если свое дело любишь, оно всегда получается. Да и разве во мне причина? На десятки бригад попадаются один-два нечистых на руку. Что бы мы делали без железнодорожников, местных жителей? Я вот кружок веду в школе. Как ребята помогают!..
– Это уж ты слишком!
– Слишком? Сколько попыток протащить всякую антисоветскую литературу!
– Ну уж это загнул! У нас, в Тбилиси, и не слышно!
– Потому что эта муть, как на плотину, натыкается на наших людей!
– Я же и говорю: на пограничников!
– И не только на пограничников! Границу охраняет весь народ! Не зря самая строгая граница – советская!
Пришло время прощаться. Поздно вечером отправлялся ростовский поезд. Брат ушел, а его жена провожала Мишу и Нину. Нина приболела, и ей не разрешили нести вещи. Чемодан взял Михаил, жена брата взяла сетки с бутылями вина. В чемодане были яблоки, чурела, виноград. Килограммов на двадцать чемодан.
На посадку к вагону народ сбился в кучу. Михаил со всеми стоял в очереди, жена брата с сетками – рядом. Чемодан поставил в ноги.
Михаил расстегнул шинель – он брал ее на всякий случай, – достал из кителя билеты. Подал билеты проводнице, повернулся, окликнул Нину. После проверки положил билет в карман кителя, застегнулся обстоятельно, а чемодана – нет.
– Где же он?
– Нет!
– Свистнули!
– Ай да Миша!.. Как же ты так? Не усмотрел?
– Так это же… – и они расхохотались, потешаясь над его бдительностью.
– Ты ее, видно, на службе до своего возвращения оставил!
Однако той же ночью в вагоне Михаил увидел, как шустрый молодой человек снимает часы с большой, увитой крупными венами рабочей руки соседа.
Вор отстегнул ремешок, и Михаил сперва решил, что это шутка. Но жулик действовал сноровисто и серьезно. Снял часы и, извиваясь между мешками, чемоданами и башмаками, которые свисали с полок, заспешил к выходу. По дороге подхватил дамскую сумочку. Михаил догнал его у тамбура, дотянулся до шеи, стиснул ее:
– Ты чего? – слизистые глаза жулика выпучились.
Вместо ответа Михаил еще сильнее стиснул его скользкое горло.
– На, на часы! – выдавил жулик.
– Я тебе дам часы! – и руки Михаила стиснули глотку еще сильнее. Тот захрипел. Вид пограничного кителя, сверкающего в электрическом свете медалями и орденами, окончательно парализовал его волю.
– Часы возьми, часы, – уже хрипел он. – Сумочку на! Отпусти!
Михаил разжал горло, взял часы и сумочку, размахнулся и треснул ею по морде жулика. И когда тот согнулся и побежал, Михаил с превеликим удовольствием пнул тяжелым сапогом ему в то самое место, где узкая длинная спина жулика теряла свои благородные очертания. Жулик с треском и грохотом ударился кепочкой о дверь тамбура.
Женщина со слезами бросилась на шею Михаилу:
– Товарищ полковник! Товарищ полковник! Спасибо!
– Да я же старшина!
– Все равно… Спасибо вам! – Она раскрыла сумочку. – Вот пятьдесят рублей!
– Зачем? – Он отстранил ее руку, прошел к соседу по купе, растормошил его:
– Э, друг! Где твои часы?
– Какие часы?
– Твои часы!
Тот потрогал правую руку, потом левую.
– Милиция! Часы увели! Часы сперли!
– Так весь вагон разбудишь. Тише! Вот часы. Возьми!
Тот от смущения забыл поблагодарить, схватил, сунул в карман, потом пришел в себя и начал неверными пальцами надевать на правую руку.
– На левую, на левой носят!
– Ой, спасибо! Очумел я совсем! Часы-то дареные!
XII
Судья Андрей Дмитриевич объявил начало слушания дела. Зал был переполнен. Стояли в конце зала у стены. Необычное нервозное напряжение отражалось на многих лицах. Дело до начала слушания Андрей Дмитриевич прочитал дважды. Он снова и снова всматривался в окружающих. День предстоял жаркий.
Слушание дела приурочили к возвращению из отпуска Михаила Кулашвили. Лично с Кулашвили Андрей Дмитриевич знаком еще не был, но из его свидетельских показаний безошибочно вырисовывался образ незаурядного человека, почитавшего долг как святыню. В его показаниях поражало редкостное знание железной дороги. Кулашвили знал своих противников и видел их насквозь. Сейчас, изучая наэлектризованную публику, Андрей Дмитриевич понял, что в зале немало «дружков» подсудимых.
Они пришли заблаговременно. В задних рядах рыжела мочалка бороды Бусыло, желтели лисьи глазки Луки Белова, ерзала лопатка бороды Льва Зернова. Он как бы прокапывал ею воздух, кивая каким-то своим мыслям. Особенно был взвинчен Эдик. Когда он поднимался сюда, на второй этаж, его поразили железные прутья лестницы. «Как решетка», – подумал он и поскользнулся. Сегодня Крюкин вернулся из поездки. В специальном поясе привез издания «Посева» и успел передать их по назначению – какому-то субъекту в туалете городского ресторана. Потом посидел за столиком. Пил лимонад, ел с удовольствием. Все, что привез, уже лежало в портфеле «адресата». Тот якобы не понимал по-русски.
Что-то сегодня больше обычного тревожило Эдика. Может быть, официант в ресторане пристально посмотрел? Но расплачивались порознь. Первым расплатился Эдик и ушел… Вроде бы и ничего… И опять возникали эти решетчатые прутья лестницы. Дрожь пробегала по спине: не придется ли скоро здесь сидеть на скамье подсудимых? С вызывающим видом посматривал Эдик и на судью, и на высокую прическу Липы. С насмешкой обозревал он аскетически худое лицо повара из вагона-ресторана. Тот скорбно клонился к уху соседа. Сосед – лысый, с чуть заметной шишкой на затылке – слушал. Лысый хорошо помнил, как у него из котла Михаил извлек банки с икрой, из поддувала достал еще несколько банок, а из трубы вытащил Кулашвили валюту. Но как он доходил до этого? Почему удавалось провозить, если дежурили другие? Правда, попадались и другим пограничникам, но не так часто.
Кулашвили поймал одного из их коллег, когда тот пытался провезти шерстяную материю на себе. Он обмотал ее вокруг своего достаточно упитанного тела. И никто бы не мог заподозрить проводника. Никто! Однако его засек Кулашвили, и ему пришлось при капитане Домине разоблачиться «перед лицом общественности». Трудно было сказать, что он знать не знает, ведать не ведает, откуда это все на нем появилось!
И у другого проводника Кулашвили непостижимым образом обнаружил несколько золотых колец в сливочном вологодском масле. И опять все это было так неопровержимо, нельзя же было сказать о масле, только что названным своим, что оно чужое.
А у третьего Михаил валюту вынул буквально изо рта: тот невзначай закурил, а деньги были свернуты в папиросе. Ниточка размоталась и дальше. Оказалось, в пачке через одну все папиросы были начинены валютой. Но как дошел до этого Михаил, никто понять не мог.
В зале сидел и Алексей Глебович Чижиков. Он знал обстоятельства, при которых были уличены эти трое.
Алексей Глебович задумался и пришел в себя только в ту секунду, когда увидел Михаила.
При появлении Михаила публика заволновалась. Эдик, чтобы пересилить внутреннюю дрожь, крикнул что-то неразборчивое, по тону оскорбительное. Сбоку его поддержали.
– Прошу соблюдать тишину! – властно обронил судья и предупредил, что свидетель Кулашвили должен давать правдивые показания. Михаил Варламович резко оглянулся на публику. Увидел тех, за кем охотился, кого наверняка поймает. Оглянулся и повернулся к судье. Может быть, Андрею Дмитриевичу показалось, будто по-особенному посмотрел на него свидетель, словно бы предупреждал ничему не удивляться.
И тут Алексей Глебович Чижиков встрепенулся от удивления.
Зал колыхнулся, услышав слова Кулашвили:
– Тут сидят в зале и те, кому надо бы находиться на скамье подсудимых!
– Что? – и судья, точно ведомый жестом Михаила, посмотрел в зал. И снова перевел глаза на твердое гневное лицо Кулашвили. От него исходила заражающая вера в свою правоту. – Что вы сказали, свидетель?..
Кто-то нервно хмыкнул. На него шикнули.
Стало еще тише.
Народные заседатели – дорожный мастер и инженер переглянулись.
Прокурор поднял брови.
– Свидетель Кулашвили Михаил Варламович, объясните суду ваши слова.
– В зале среди публики находятся люди, которым место на скамье подсудимых. Они уже совершили немало преступлений, но за руку их пока схватить не удалось.
В зале возмущенно зашумели. Гул особенно явственно доносился с того ряда, где сидели Бусыло, Белов, Зернов, Эдик, Липа, повар и его приятель с шишкой на затылке.
Судья поднял колокольчик, позвенел им.
Тишина кое-как установилась.
– Свидетель Кулашвили, во-первых, вы должны дать суду показания о тех, кто находится в данный момент на скамье подсудимых. А во-вторых, огульно оскорблять кого-нибудь никому права не дано. И в соответствии с определенной статьей процессуального кодекса я предупреждаю вас…
В зале опять зашумели, но несколько тише.
Судья позвенел колокольчиком.
– Я отвечаю за свои слова, товарищ судья. И, если вы разрешите, я укажу конкретно на лиц, сидящих в этом зале среди публики…
Судья пошептался с народными заседателями.
В зале снова стало тихо.
Кулашвили несколько успокоился, он терпеливо ждал.
– Он за свои штучки ответит! – пискливо выкрикнул кто-то из зала.
– Да, я отвечу! – не оборачиваясь на выкрик, отозвался Михаил Варламович. – Я, может быть, назову не всех, но те, кого я прошу вывести из зала суда, те рано или поздно, но тоже окажутся на скамье подсудимых. Тогда вы вспомните мои слова и это заседание. А пока, если тот, на кого я укажу, захочет подать на меня в суд за клевету, я готов нести ответственность.
Судья снова перекинулся двумя-тремя словами с народными заседателями. Те кивнули.
Кулашвили выпрямился и с убеждающей силой искренне заговорил:
– В этом нет нарушения социалистической законности, если из зала суда удалить тех, кого я заставал на месте преступления, но не успел схватить за руку. А вот если они останутся в зале, то в этом скорее будет нарушение законности. За каждое слово отвечаю. – Тут, словно по сигналу, зазвенели медали и ордена на его груди, как бы подтверждая сказанное.
– И дело не в том, какие они бросали мне оскорбления, едва я переступил порог суда. Эти люди сами являются оскорблением нашего строя, им нечего делить среди публики. Я их не успел схватить за руку, но до них дотянутся руки правосудия. Добро сильнее зла, если добру помогать, а злу мешать! И пусть не думают, что мы их не знаем и не видим.
Эдика передернуло. Какой-то ток пронзил его. Он машинально сунул руку в карман и стиснул рогатку, чуть не сломав ее.
– Товарищ судья! Конечно, я уважаю закон и дам показания, не вдаваясь в подробности, чтобы не раскрыть профессиональных тайн. Но во имя правды, во имя справедливости, во имя чести, которую топчут эти люди, разрешите мне указать на них и вывести их. Чтобы все видели, о ком я вынужден говорить, хотя мне неприятно даже произносить их имена и фамилии.
Судья обменялся взглядами с народными заседателями. Те уважительно склонили головы.
– Так, слушаем вас, – сказал наконец судья, и зал точно подался назад.
– Я могу указать, да? – спросил Михаил Варламович.
– Укажите!
Кулашвили повернулся к залу и указательным пальцем правой руки решительно указал на последние ряды.
Бусыло показалось, будто этот палец вытянулся и уперся ему в грудь, продавливает ее, протыкает насквозь. Дерзко вырезанные ноздри Бусыло дернулись. Он схватился за бородку, отводя глаза и надеясь, что чаша сия минует его.
– Бусыло, Бронислав Бусыло. Помощник машиниста.
Бусыло, держась за бородку, ссутулясь, безропотно покинул зал, опустив глаза и стараясь ни на кого не глядеть.
– Белов, Лука Белов, машинист.
Лука хотел подняться, но неведомая сила вдавила его в стул. Он выпил сегодня изрядно, как и всегда. Но дело было не только в выпитом.
– Лука Белов находится в зале или нет? – спросил судья.
– Да вот он, в восьмом ряду, – указал Кулашвили.
Лисьи глазки метнулись из стороны в сторону. Он стремительно рванулся к выходу, и публика успела увидеть лишь его широченную спину и косолапые ноги. Дверь не успела захлопнуться, как вслед за ним выскочил Лев Зернов.
– Так, – вслед ему бросил Кулашвили, – всех поймаем, у них ничего не выйдет!
Захотелось рассказать, как официант из ресторана сообщил о встрече Крюкина с иностранцем. И что иностранец по-русски вроде бы не понимал, а когда официант представил ему счет, сказал: «Ого, дороговато!» – и тщательно проверил счет. Хотелось сказать, что сегодня утром на вокзале некий гражданин предложил грузчику сто рублей, лишь бы тот в кармане пронес сверток. И грузчик отказался. Хотел сказать, как пионеры помогли задержать опасного нарушителя. Хотелось крикнуть, сколько опасной литературы благодаря простым людям и таможенникам оседает, как на фильтре, на самой границе! Перед глазами потянулись вредные книжонки, для маскировки прикрытые невинными обложками.
И вот эти, кого сейчас выводят, они тоже таят в себе чуждую нам душу!
С новой силой сказал Кулашвили:
– Зернов покинул зал. А теперь… теперь… Прошу вывести, – он указал на повара. Тот, не ожидая, шевеля губами, встал и, понурясь, вышел. За ним потянулся и его приятель с шишкой на затылке.
– Эдик Крюкин, не нагибайся. Встань и выйди из зала, – повелительно сказал Кулашвили.
В зале издевательски захохотали.
Красный до шеи Эдик прошел, подняв голову, и, выходя уже, обернулся свирепо на Михаила. Но тот указывал на Липу:
– Проводница Олимпиада Федоровна Белова!
– Нахал необразованный! – огрызнулась она и, высоко неся свою прическу, неторопливо вышла, вызывающе покачивая бедрами и всем своим видом давая понять, что ее оговорили, но ей пачкаться с этими людьми недосуг. Но прежде чем переступить порог, она обернулась и с презрением прошлась взглядом по судье, по пограничникам, по таможенникам.
– Возили, возят и будут возить! Будем возить! А нас поймать не так-то просто! – Она помедлила, ожидая реакции на свой выпад. Шепот ее напоминал шипение и канул в гуле напряженного зала. Ее не услышали. Липа еще постояла на пороге. Равнодушно посмотрела на подсудимых – фарцовщиков и контрабандистку, пытавшуюся в собственном бюстгальтере провести валюту, – усмехнулась и захлопнула за собой дверь.
На улице она спряталась в тень дерева и стала наблюдать за дверями. Вот вышел изгнанный из зала бывший проводник Михаил Даниленко. Как всегда, он остро шнырял глазами, чуть наклоня вправо красивую голову на худой шее. Злые узкие губы так были стиснуты, что образовали темную нить. Ему удалось в свое время доказать, что велосипед, в раме которого нашли золото, принадлежит не ему. Матерщинник такой же отчаянный, как и пьяница. Липу обдал запах водочного перегара, когда Даниленко, не видя ее, прошел мимо. Не поймали. И он пока на свободе. Пока? Почему это – обязательно должны поймать? А может, и пронесет…
И тут она, как от физической острой боли, страдальчески сморщилась от непреодолимого предчувствия возмездия. Почему? Отчего? Она не могла сказать. Но здесь, у здания суда, она вдруг ясно представила себя на скамье подсудимых, увидела указывающие на нее пальцы, увидела свое плачущее и сразу постаревшее от позора лицо…
Липа впервые в этот день ощутила всю глубину своего падения.








