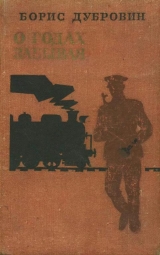
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
И рассказал он ребятам еще одну историю.
– Уже давно окончилась смена, давно надо было быть мне дома, а я все не уходил. Наконец ушел с вокзала, но решил еще раз пройти мимо состава, стоящего в так называемом отстойнике, то есть подготовленного к осмотру или уже прошедшего осмотр.
В одном из тамбуров мелькнул локоть в форменной куртке и угол хозяйственной сумки.
В несколько прыжков я оказался у тамбура.
– Что вы здесь делаете? – спросил раздатчика багажа, который знал русский язык. Тот не развел руками, как он обычно делал, а опустил руки:
– Пришел сюда отдыхать. – По привычке начал было разводить руками, но снова опустил их.
– Покажите руки!
Иностранец показал.
– Ладонями наружу!
На пальцах синяя грязь.
– А где сумка, с которой вы вошли сюда?
– В первом купе следующего вагона.
– Можете идти.
Раздатчика как ветром сдуло. Но где, где он в вагоне мог вымазать пальцы в синий цвет? Где?
Я шел и думал об этом, а глаза искали, искали…
Вот купе следующего вагона. Да, сумка на месте. В сумке ничего недозволенного. Но где же синий цвет? Еще полминуты, и я стоял в переходе – в фартуке-гармошке. Интересно, на какую сумму думает он сыграть на этой гармошке? Так, так, обшивка брезента порвана, встать на носки, проверить… Да, на пальцах синяя грязь. Теперь поглубже. Вот и валюта. Вот и наши деньги.
– А почему нельзя им везти туда наши деньги? – спросил Арсений.
– За границей наши деньги нужны для шпионов и диверсантов. И деньги – оружие. На днях мы задержали одного нарушителя, – продолжал Кулашвили, сказав «мы», хотя задержал он лично. – Он сидел в вагоне в форме железнодорожника. Спрашиваем: откуда, мол, вы? Отвечает небрежно, будто он из этой же бригады. При личном досмотре в форменном пиджаке в каждом плече оказалось по пяти советских сторублевок, несколько пустых бланков для справок с печатью и профсоюзный билет.
– Зачем же ему бланки и этот билет?
– Чтобы диверсанту втереться в доверие и устроиться на работу. Понятно? Надо быть наблюдательным. Позавчера мы (он опять не сказал, что именно он) осматривали одного иностранца. Везет торт домашней выпечки. Только на вес вроде бы тяжеловатый. Подняли аккуратно, а внутри кусок прямоугольный вырезан, и в этом месте – золотые монеты.
– А ведь и страшно бывает? – опросил кто-то.
– Бывает, – просто ответил Михаил Варламович и не сказал о том, сколько раз покушались на его жизнь. – Есть чувство собственного достоинства, и оно-то заставляет подавлять страх.
После занятий пошли проводить Михаила Варламовича.
Последним с ним расстался Арсений. Он спросил на прощание:
– А знаете, почему меня Арсением назвали?
– Нет.
– У папы друг был, они вместе защищали Брестскую крепость.
– И друга звали Арсением?
– Нет, но он мечтал, если останется живым, назвать своего сына Арсением. Но папин товарищ погиб, а папа с мамой в память о нем и о его мечте дали мне такое имя. И я, увидите, буду пограничником!
– Верю, Арсений! – И, как равный равному, Михаил Варламович протянул ему руку. – Верю! И за цветы спасибо! – Он ласково провел по голове мальчугана.
– Я постригусь, не беспокойтесь. До свидания… Да, я хотел вам сказать, я видел, как Бусыло, судя по вашему описанию, это был он, позавчера около тех хулиганов проходил. С Бусыло был какой-то человек в затемненных очках.
– Учтем. Ну, еще раз спасибо за цветы!
А дома все было преображено цветами. Они стояли на окнах, на этажерке с книгами, на столе, даже на стульях!
Его ждали Леонид Домин, Алексей Чижиков с Анной Максимовной и Валентин Углов. Все устремились навстречу Михаилу. Нина зарделась. «Непростую судьбу выбирает Нина, – вдруг оробев и как бы впервые осознавая значительность этих минут, подумал Михаил, еще взволнованный занятиями со школьниками. – Вот Алексей с женой переглянулись. Конечно, они догадались, почему я опоздал на собственную свадьбу».
Михаил остановился у двери, замер.
– Ну что ты? – ободрял его взгляд Леонида Домина.
И тут, пытаясь шуткой преодолеть свое смущение, Михаил по-белорусски сказал:
– Став на порозі, як пень на дорозі.
– Был на занятиях все-таки, – шепнул жене Алексей.
Нина в белом платье встала бок о бок с Михаилом. Его рука нашла ее руку. Почему-то перехватило горло, когда Леонид Леонидович Домин шагнул к ним, обнял их и проникновенно ему и Нине посмотрел в глаза. «Будьте счастливы!» – говорил его взгляд. И это было сильнее слов. Потом капитан Домин лихим жестом сдернул упаковочную бумагу со своего подарка. Проигрыватель с набором пластинок понравился всем.
Алексей преподнес Михаилу крохотную яхту. Анна Максимовна вручила Нине чайный сервиз. Небольшая этажерка – подарок Валентина – уже стояла так прочно около зеркала, словно всегда там была. Зарево цветов в изящной вазе отражалось в овальном зеркале. Михаил и Нина пригласили гостей за стол. Все молча уселись. Стало очень тихо.
– Горько! – вдруг негромко сказал Валентин.
Все подняли бокалы с шампанским.
Михаил и Нина встали и смущенно поцеловались. И Алексей снова поразился целомудрию друга, когда увидел покрасневшие щеки Михаила.
«Нина… Нина… – повторял про себя Михаил. – Я верю: мама моя тебя полюбит… Ведь ты чем-то похожа на нее».
VII
Проснувшись утром, Михаил обнял Нину:
– Я не верю себе, Нина. Неужели это правда? Ты – моя жена!..
Однокомнатная квартира светилась от ее улыбки. Да и не зря поднялась она так рано и начала наводить порядок, еще живя первыми часами близости, еще не понимая всей значительности перемен в их жизни. Тряпка порхала в ее руке, пол начал мерцать, отражая первые лучи. Сияла посуда. Блестел чайник. Нину и дома хвалили за хозяйственность, однако здесь, в своем, да-да, теперь уже в своем доме, было все поенному. Этот стакан держала и его рука, этого чайника касался и он. На эти стены смотрел, под этим белым потолком, под этим простеньким матерчатым абажуром он сидел. И каждое прикосновение к вещам становилось прикосновением и к нему, ибо все вещи в комнате Михаила были частью его жизни. Но когда он сказал: «Ты – моя жена», ей стало тревожно.
– Миша! Ты не заметил около загса человека среднего роста в затемненных очках?
– Сперва услышал его голос, его слова, потом увидел. Той ночью, когда на меня напали неподалеку от моста, мне показалось… будто я видел человека, похожего на него. Но я мог и обознаться. А что?
– Это Александр Александрович Сморчков-Богодухов. Он работает в депо, там же руководит и кружком самодеятельности. Я тебе рассказывала о нем не раз. Он интересный человек. Говорит красиво. И у нас некоторые девочки из кружка влюблены в него.
– Ну-ну? И что же?
– Опасайся этого человека!
– Почему?
– Сама не знаю! Но я видела, как он на тебя взглянул около загса, и мне жутко стало. Точно не глаза у него, а две пули. И они в тебя летят.
– Это уж такая участь пограничника…
– Не шути. Берегись этого человека!
– Нина, знаешь, может быть, я не все понял, скорее, почувствовал.
Михаил не стал ей пересказывать события минувшей ночи, когда он с Контаутасом был в наряде на вокзале. В час ночи в отстойнике к паровозу подошел человек с бородкой. Но во мраке могло показаться, что он с бородкой. Может быть, он поднял воротник. Михаил и Контаутас наблюдали неспроста: несколько раз выглядывал из паровозной кабины помощник машиниста. Кого-то ждал. И действительно – едва приблизился к паровозу неизвестный с бородкой, помощник высунулся, стремительно огляделся и бросил несколько фраз. Расслышать было невозможно. Неизвестный ответил еще тише и прямо через пути заспешил в город. Спустя полчаса из паровозной кабины вышел помощник машиниста и направился к вокзалу. Около сторожевой будки дорогу ему преградил пограничный наряд:
– Доброй ночи! – зябким голосом и почти без акцента сказал иностранец и запахнул пиджак, подняв плечи и поеживаясь.
– Доброй ночи, пан помощник! Куда идете? – напрямик спросил Михаил.
– Я в туалет!
– Почему же, пан помощник, в туалет на станцию? Он же в ста метрах от вас.
– Я не знаю там. Иду на станцию! – Он раскрыл темный пиджак: – Смотрите! Всегда подозреваете! – Он начал снимать пиджак.
– Мы пограничный наряд, а не таможенники. Если нужно, позовем. А на дороге зачем же раздеваться? Идемте в таможню.
– Я хочу в туалет.
– А это рядом с туалетом! – сказал Кулашвили, а сам шепнул на ухо Контаутасу: – Ты – слева, освещаешь его и дорогу. Я – справа, немного позади него, чтобы ничего не смог выбросить.
– Бардзо зимно, холодно, холодная ночь! – Иностранец снова запахнул пиджак, поежился, передернул плечами и на ходу, засунув руки в карманы брюк, ссутулился.
Луч фонарика освещал дорогу, скользил по его замкнутому, обиженному лицу, по безразличным глазам, по пиджаку, по брюкам. Когда луч осветил брюки, иностранец оступился, припал на правую ногу, как бы выпал из полосы света. Михаил успел заметить, как правое плечо стало ниже левого, как напряглась в локте правая рука, углубляясь в карман, силясь продавить, прорвать его. Михаил подсветил своим фонарем, и правая рука заняла прежнее положение в кармане.
На перроне Михаил окликнул высокого горбоносого лейтенанта милиции.
– Участковый! Алеша! Два дня не видел тебя, ты что здесь ночью?
– Из командировки. Не капитан ли нужен?
– Сообразительный!
– С кем поведешься! – слегка заикаясь, с усмешкой ответил Алексей Глебович Чижиков, оценивая обстановку. Он тут же нашел капитана Домина.
– Товарищ капитан, пан помощник хочет в туалет.
– Извините, пан помощник, придется вам минуточку потерпеть! – вежливо отозвался Домин, смекнув. – Сперва в кабинет, потом в туалет.
Иностранец поморщился и взялся за живот.
– Все будет очень быстро, пан помощник! – Низкорослый, с очень короткой шеей, с квадратными плечами, Домин как бы мельком глянул на пиджак и на брюки. Движением густых бровей приказал Михаилу: – Действуйте!
Иностранца ввели в кабинет.
– Облегчить бы желудок сперва! – перекосился в лице иностранец. – Мне минуточку!
– Михаил Варламович! Облегчите карманы пану помощнику.
В левом, как и предполагал Михаил, ничего, кроме платка, не было. В правом кармане брюк оказался небольшой сверток. Достав сверток, Михаил снова проверил правый карман, он оказался уже прорван, но отверстие было невелико.
Из свертка извлекли пятьдесят золотых монет.
Когда там же, в кабинете Домина, у иностранца спросили, откуда у него деньги и с кем он беседовал в час ночи, тот развел руками: ничего, мол, не знаю, ни с кем не разговаривал.
Кулашвили думал об этом, догоняя Нину, думал и о словах участкового Чижикова: «По твоему дельцу мотался в командировочку… Того, с царапиной или со шрамом на правой щеке, разыскивал… Кое-что намечается, но пока все в тумане». Это Чижиков сказал Михаилу после того, как пограничный наряд вышел из кабинета Домина.
И теперь, в первое утро своей семейной жизни, так не хотелось омрачать Нину – жену Нину! – своими служебными делами. Поэтому Михаил сказал:
– Нина, мы позавтракаем, и ты все объяснишь.
– Нет, Миша, пойми, я не могу тебе пока всего объяснить, не могу и разобраться. Нужно время. Но одно знаю, чувствую: бойся, остерегайся этого человека!
Михаил усмехнулся.
Они сели за стол. Впервые завтракали вместе, не сводя глаз друг с друга и смущаясь. Счастье было для Михаила в каждом движении Нины, в каждом взгляде. Ему в это утро поверилось, что он самый счастливый человек на земле.
– Удивительно, Нина, я же, как сыщик, ищу контрабанду, задерживаю диверсантов, всегда ищу тех, кто приносит нам горе, а счастье само нашло меня. Я себя даже немножко потерянным чувствую. Знаешь, у нас в Грузии женщины полные кувшины на голове носят. А мне кажется, полный кувшин радости в моем сердце, и я могу расплескать его…
– А носовой платок не забыл? – спросила она, когда он был уже у двери.
– Нет, он всегда со мной!
– Почему ты так значительно говоришь о каком-то носовом платке, как будто платок – это знамя?
Он достал ее платок – память первой встречи. Показал ей.
– Я об этом говорю, Нина. Это всегда со мной, – и поцеловал ее руки. – Как я счастлив!
– И я!
Спускаясь по лестнице, он услышал голос Алексея Глебовича Чижикова – участкового, любимого в окрестных домах и дворах за редкую справедливость, смелость, доброту и золотые руки. Ему верили, с ним советовались по всяким делам многие жители. Его легко было попросить помочь что-нибудь починить. Вот и сейчас Михаил догадался, что жильцам первого этажа он исправил электрический утюг. Когда он все успевал, понять трудно! До Михаила долетели его слова:
– Никогда не любят тех, кто никого не любит. Но ведь таких немного. А если не уметь прощать друг другу пустяковые недостатки, так, наверное, никогда и не установится настоящая дружба. Главное в том, чтобы любить других не меньше, чем себя!
– Приятно послушать вас, Алексей Глебович! Если бы все так думали, как вы говорите! Спасибо вам еще раз за утюжок!
Выходя из подъезда, Михаил увидел крепкую высокую фигуру Алексея Чижикова. Тот обернулся на звук шагов, и его умное лицо озарилось улыбкой.
Они пожали друг другу руки. Постоянство доброжелательности и терпеливости отличало Алексея Глебовича. Глядя на него, никто бы не мог предположить, сколько им пережито. Желание помочь людям было так велико, что определяло все его решения и действия.
Двое парней подошли к Михаилу и Алексею. Чувствовалась строевая выправка. Головы подняты высоко. Взгляды прямые. Под ковбойками выразительно вырисовываются мощные бицепсы. Высокие, стройные, бравые ребята.
– Здравствуйте, Алексей Глебович! Здравствуйте, товарищ Кулашвили!
– Здравствуйте! – ответил Михаил.
Алексей пожал им руки.
– Спасибо, Алексей Глебович! Целую неделю по вашему совету провели в отделение прибавьте к этому неделю, проведенную с вами! Решение принято единогласно, – сказал тот, который был с виду постарше.
– Не передумаете? – спросил Алексей.
– Зачем же передумывать? Мы и до того, как с вами встретились, умишком пораскинули. А теперь-то совсем убеждены.
– В чем же?
– Да вы, Алексей Глебович, не экзаменуйте нас. Сейчас слово «романтика» совсем затерто, оно от частого употребления обесценивается. Слово обесценилось, а романтика-то от этого не упала в цене, потому что она бескорыстна.
– Мы же видим, что у милиционера очень много возможностей, чтобы выручить людей из беды, заботиться о них, делать добрые дела.
Другой парень вмешался в разговор:
– Ну что ты пересказываешь то, что две недели назад Алексей Глебович нам сказал гораздо внушительнее.
– Потому и пересказываю, что это не урок, а убеждение. И потому, чтобы Алексей Глебович знал: мы с тобой пойдем в школу милиции. Ведь мы, не сердитесь, проверяли вашу работу.
– И что же? – с улыбкой поинтересовался Алексей Глебович. Он хотел пошутить, даже съязвить, однако удержался, видя, насколько серьезно взволнованы парни и как твердо они приняли свое решение. – Так что же вам удалось выяснить?
– В доме двенадцать ссоры прекратились. В доме четырнадцать мальчишки перестали резаться в карты и занялись спортом. В доме девятнадцать… да что перечислять, скольких людей вы удержали от проступков и преступлений! Важно, что многое изменилось благодаря лично вам. Наверное, у вас большое удовлетворение своей работой?
– Нет, не благодаря мне, – благодаря тому, что нахожу общий язык с людьми, они мне доверяют и, кажется, верят.
– Нет, не кажется. Действительно верят! Вот мы прошли армейскую школу, а теперь пригодимся в милиции. Спасибо вам, Алексей Глебович!
Ребята пожали руки Алексею и Михаилу и ушли.
– Агитируешь? – спросил Михаил, когда они остались вдвоем.
– Агитирую! Да и жизнь – за меня. Надо самых лучших, самых чистых людей звать в милицию работать. Тогда жизнь станет лучше и чище. И, между прочим, они времени даром не теряли и кое-что даже помогли мне выяснить. Короче, эти хлопцы кое-что подсказали, и юные друзья пограничников помогают… Прошу тебя… ночью обходи Пушкинскую улицу.
– Постараюсь! – Михаил попытался прочитать в глазах товарища больше, чем услышал. – Спасибо!
Самая короткая дорога на вокзал вела через Пушкинскую. Вбирая шелест утренних листьев, солнечную прохладу ветерка и шорох шагов ранних пешеходов, торопился Михаил на службу. Мельком глянул на строительные леса. Пушкинская улица меняла облик. Новый дом был построен, другой отстраивался. Уже начали третий этаж. Солнечные лучи лежали на кирпичах морковного цвета. До срока пожелтелый, сорванный ветром округлый лист липы спорхнул со стены под ноги. Кулашвили бессознательно переступил через лист и прибавил шагу. Перед глазами все время было счастливое, смущенное лицо Нины…
Показался вокзал.
Начинался новый трудовой день, полный тревог, волнений и опасностей…
С утра в первом же паровозе нервозность команды насторожила. Все вроде было в порядке. Но слой угольной пыли на полу показался слишком густым. Почему? Хотя Кулашвили и знал, сколько километров пройдено бригадой в этом паровозе, но в памяти подсознательно отметилось некое несоответствие между привычным цветом пола и сегодняшним. Он был гуще, плотнее, чернее. Случайно? А чутье подсказывало: «Проверь, приглядись, проверь получше. Может быть, сегодня поймаешь его за руку…»
С лисьими хитрыми глазками и растянутой лисьей улыбкой грузный машинист Лука Белов смотрел куда-то мимо, не обращая внимания на пограничный наряд. Потом удостоил их презрительного взгляда:
– Ну, пошевеливайтесь! Время же!
Михаил был неподвижен. Лука всегда стремился к чистоте, руки у него всегда чище, чем у других машинистов, а сейчас руки грязные, кусок замасленной ветоши торчит из кармана комбинезона… Сунул туда поспешно. А никогда ветошь в карман не кладет. Брезгует. Этакий чистоплюй машинист, и вдруг такая непоследовательность. «Ну и что же? Что же? Но что меня смущает? Все, как обычно. А, пол, пол?!»
– Очистить надо пол! – приказным тоном проговорил Кулашвили.
– Мы будем очищать при сдаче смены.
Лисьи глаза стали совсем равнодушны. Он на работе чистюля. И вдруг – грязный пол. Тонкие, лисьи губы растянулись еще шире в насмешливой ухмылке. Что, мол, не хотите мараться?.. То-то.
Руки Михаила потянулись к лопате.
Улыбка слегка потускнела, глаза остекленели.
Острием лопаты Михаил начал соскабливать грязь, угольную пыль, масло.
Лисьи глаза Луки уставились в пол, в то самое место, которое обнажалось от черноты. Проступили бороздки головок шурупов, повернутые строго в одну сторону, как и полагалось при установке пола на паровозостроительном заводе.
– Отвертку! – приказал Михаил.
Лука не двинул и бровью. Улыбка исчезла, а гримаса улыбки осталась, с остекленелыми желтыми узкими глазками лицо казалось неживым.
– Вот отвертка! – подал Контаутас. – Может, я сам?
– Нет, погоди! – Михаил начал откручивать шурупы. Первые три откручивались с трудом, как и должно было быть. Не бросить ли? Но почему так реагирует Лука? Почему остекленели глаза? Четвертый шуруп пошел легче, видимо, он на полуоборот был не довернут…
– У одних даже вата шуршит, а у других и орехи не трещат. Смотри, Контаутас, – приподняв сантиметров на пять железный пол, сказал Кулашвили. Тот заглянул, потом искоса глянул на Луку Белова. Лука отвернулся и стал смотреть в окно.
Подняли железную плиту, сняли железный пол и вынули свертки контрабанды.
– Ваше? – невольно вырвалось у Контаутаса. И он указал на контрабанду Луке.
– Нет! – с насмешкой: мол, не пойман – не вор.
– А чье же?
– Тут три бригады ездят. – Лука вылез из кабины.
А после обеда из-за рубежа пришел поезд. В третьем головном вагоне, в купе, занятом проводником, Михаил заметил под книгой с расписанием небольшой молоток. С Контаутасом они осматривали купе.
Во втором купе респектабельный господин, прямой как палка, с отсутствующим выражением лица изучал газету. При осмотре купе он взял булку со столика и положил к себе на колени, накрыв их сначала белоснежной салфеткой с инициалами. Что ж, это естественно: нечаянно можно задеть хлеб, можно испачкать. Но он взял эту булку чуть поспешнее, чем следовало бы. Может, нервный? Тогда откуда такая надменность холеного лица и бестрепетное спокойствие?
– Позвольте взять хлеб?
Иностранец посмотрел на руки Кулашвили с недвусмысленным пренебрежением. Во взгляде сквозила и брезгливость. Но что делать? Он пожал плечами. Берите, мол, смотрите, воля ваша.
Михаил достал свой носовой платок, тщательно вытер руки, глядя то на хлеб, то на надменного господина, у которого побледнел кончик длинного аристократического носа. Господин взял газету, но перевернул ее наоборот. Благо, Кулашвили не заметил этого. Вот булка в руке Кулашвили. Отлично выпеченная, золотисто-румяная корочка. Но что-то подозрителен вес этой булочки…
– Какая булка! Наверное, вкусная! – и Кулашвили поднес ее ко рту, якобы намереваясь отведать.
Тонкие седеющие брови господина возмущенно взмыли вверх и опустились на место. Кулашвили успел втянуть в себя хлебный аромат и уловил запах меда. На миг повеяло Грузией, деревней, пчельником… И сквозь все эти видения он усмотрел нитку надреза на булке толщиной с паутинку, старательно замазанную медом. Меда уже не было, но запах остался. Кулашвили переломил булку. Вернее, разнял ее на две почти равные части. Она оказалась с золотой начинкой.
Господин поджал губы, повел бледным носом, подобрал ногу. На полу, на том месте, где только что коричневой дорогой кожей красовался полуботинок господина, лежал крохотный гвоздик.
Пришлось попросить господина подняться с дивана, пришлось поднять и диван. Под диваном пружина и перетяжка. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть полоску ткани. Кулашвили достал из кармана плоскогубцы, быстренько выдернул несколько гвоздиков, точно таких же, какой валялся на полу, оттянул перетяжку. Ее величество валюта мирно дремала под перетяжкой. Михаил не мог сказать, что его толкнуло вернуться в купе проводника и снова пересмотреть часть невыданного постельного белья под пломбами. Из наволочки вытащил несколько денежных купюр.
Выходя из купе проводника, Михаил заметил, как тот проверяет, надежно ли закрыта дверь в туалет. Но на остановке она и так должна быть закрыта.
– Откройте туалет!
Проводник не сразу попал ключом в отверстие замка. Михаил не понял: металл о металл или это зубы проводника лязгнули. Туалет блистал чистотой. Михаил мгновенно обернулся. Он застал врасплох лицо проводника. По интуиции одной рукой взял пепельницу. Внутри, вдоль ее стенки, были очень бережно уложены две двадцатипятирублевки. Снова взгляд на проводника. Небесно-голубые, как бы молитвенно воздетые к небесам очи проводника тут же отпрянули от верхней планки. Мгновение? Миг? Сотая доля секунды? Да и смотрел ли проводник на эту планку, он бы и сам не сказал. Не мог бы утверждать этого и Михаил Кулашвили, но он обнаружил за этой верхней планкой советские деньги – сто рублей. Именно там, сбоку, была чуть различимая щель, в нее-то и были всунуты деньги.
Обедали наскоро.
Домой, конечно, Михаил не заглянул до вечера. А вечером наш поезд подали на осмотр. Проводник – костлявый с благородной сединой – Чинников. Глаза серые. Блеклые губы улыбаются, а в глазах ненависть. О Луке Белове узнал, что ли?
– Здравствуйте, дорогие пограничники! Привет вам с кисточкой! – широким жестом пригласил в вагон Чинников. Даже руку костлявую подал. Рука такая худая, будто нет на ней мяса и кожи, одни кости. Странное ощущение. Стоп! У Чинникова всегда руки отменно сухие, горячие. А сейчас они холодноватые и потные. И почему он так гостеприимно впускает в вагон, полуиздеваясь, правда? Но не придерешься. Вот он пропускает их мимо себя, предупредительно прижавшись спиной к двери туалета, дабы не помешать бдительным стражам границы убедиться в его непричастности к контрабанде.
От Чинникова попахивает дешевыми папиросами, пивком, капустными щами. Святой человек! Вот он простирает руку к своему купе:
– Милости просим! Нет ли закурить?
– Есть! – Контаутас щелкает портсигаром.
– Благодарю. Может, чайку? Мигом!
– Откройте туалет!
– М-м-милости просим! – И он распахнул дверь туалета. – Для вас даже на остановке!
Михаил, сам того не замечая, засек его взвинченность, вкрадчивость и уступчивость. Вроде бы помешкал он у бачка. А между крышкой и баком в туалете есть одно укромное отверстие. Крючок Михаила нащупал в глубине его что-то мягкое. Крючком же и вытащил оттуда рублей на четыреста контрабанды.
Выражение лица у Чинникова менялось на глазах. Он судорожно глотал, будто крючок погружали в его глотку и выворачивали ему, Чинникову, внутренности.
Когда же Михаил попросил Контаутаса открыть унитаз и осмотреть верхний кружок, и Контаутас извлек оттуда свернутые трубочкой деньги, Чинников застонал. Но тут же взялся за щеку: зубы… проклятые, ни днем ни ночью покоя нет.
Михаил не стал спрашивать, чья это контрабанда.
Последовал бы традиционный ответ:
– Не знаю. Ведь за руку не поймали.
А застонал, как от зубной боли.
Действительно, Чинников открыл рот, показывая больной зуб.
Когда же они покидали вагон, когда спрыгнули на железнодорожное полотно и сделали несколько шагов, Чинников заскрежетал зубами и выдавил:
– Ну не дожить тебе, сволочь, до завтрашнего поезда! Месяц провозил! И как на тебя нарвался, так все – вверх тормашками! Ты еще заплатишь за это. Чинников не прощает…
Ночь затемнила город, ветер пошатывал деревья, пошатывался и пьяный, встреченный Михаилом на углу Пушкинской улицы.
– Извините! – вежливо просил прощения забулдыга, натыкаясь на очередной столб. – Извините! – и шел дальше, пока не следовало очередное столкновение.
В доме, окруженном строительными лесами, на пролете третьего этажа, были настороже:
– Посвети спичкой, гляну на часы.
– Ты что… спятил, что ли? Может, он как раз выйдет. Знаешь, он и в темноте все видит. А тут мы спичку…. Так он тебе и пойдет сюда.
– А, может, уйти? Ведь поймать могут! Я сегодня, как нарочно, на Чижикова раза три напоролся.
– Когда?
– Когда! Сегодня! Только начало темнеть, пошел я сюда «рабочее место» подготавливать.
– И он видел тебя? Заметил?
– Кто?
– Да ты совсем сдрейфил, салага! Участковый, говорю, Чижиков заметил тебя?
– Вроде нет.
– Вроде нет, – передразнил хриплый голос. – Раззява! Да не дрожи ты. Осторожнее!
– А что? Я задел тебя?
– Задел? Еще как! По щеке, сука, по больной! Я тебе кирпич придвигаю, а ты локтем!
– Тихо! Тихо! Кто-то идет! Он!
– Слепая кишка! Он! Да ты когда-нибудь видел, чтобы Мишка пьян был? А этого вон как повело. Как Мишка пойдет, я тебя трону за плечо, – сигнал дам, а ты сразу – кирпичиной по кумполу, да не промажь! А то засекут нас!
– А что? Могут поймать?
– Вот нюня! Сто раз спрашивал, сто раз тебе отвечал, сто первый повторяю: нет, не поймают. Мы его кирпичом по кумполу… потом выскочим и дрыной втянем по хребтине! Досмерти все равно эту тварь живучую не убьешь. А дело сделаем! И денежки наши! Если мы Мишку не искалечим, он нас за решетку упрячет. Ведь попадемся с товаром все равно. Да что я тебе толкую! Хлеб хочешь с маслом и икрой жрать, а работать, так – дядя?!
– Да жалко вроде, он же меня из реки вытащил, когда я тонул.
– Ишь ты! Жалость почуял. Он тебя как застукает с товаром, мигом утопит, глазом не моргнет!..
Они шептались довольно громко, не обращая внимания на пьяного. А тот доплелся до стройки, ткнулся в угол, попросил прощения. Тут его повело на другую сторону, где для верности тоже была устроена засада.
Пьяный дошлепал до забора, прислонился к нему спиной и сполз на землю. До него донесся шепот:
– Как появится, бей сразу. Да не так ты кол держишь, за самый край, сильней удар придется. По черепу ему – хрясь! Чтобы оглушить.
– А ты-то тоже не прозевай, а то вдруг не сумеешь палку сунуть в ноги. Ты между ног ему, чтобы он с копыт долой. Понял, промеж ног!
– Учи ученого!
– А где этот пьяный? Что-то не слышно его извинений…
– Дрыхнет небось в подворотне!
Пьяному же казалось, что белая горячка, обещанная ему врачами, началась. Иначе… как могло быть, чтобы ночью заговорила стройка и забор? И человеческими голосами? Вдруг стало страшно, захотелось уйти от этих голосов. Попробовал подняться. На четвереньках пополз назад, к началу Пушкинской улицы, откуда ждали Михаила Кулашвили. Он уже обрадовался, что голоса о каком-то Мишке смолкли, хотел запеть, но упал лицом на водосточную решетку:
– Караул! – разглядев решетку, закричал он. – В вытрезвитель согласен, а почему за решетку посадили? За что? Я же свою получку пропиваю! За что?
Этот-то возмущенный крик и услышал Михаил. Он сошел с тротуара и направился к пьяному. А пьяный, собрав силы, пополз на середину улицы, подальше от голосов и решетки.
На середине мостовой Михаил наклонился над ним:
– Вставайте! Машина или автобус… Поднимайтесь!
– Я не хочу. Мне так хорошо! А там дом разговаривает, во-он то-от. – Он ткнул ногой в сторону стройки, едва не потеряв равновесие. – Дом разговаривает: как Мишка пойдет, так его – того! И забор разговаривает во-он, во-он то-о-от! – Он локтем показал в сторону забора. – Прямо колом по черепу хрясь!
– А где вы живете?
– На планете!
– На какой улице?
– На улице тоски и забвения! Забыть бы, как Мишку… того хотят…
Михаил поднял его и повел по мостовой, надеясь остановить машину и довезти хотя бы до отделения милиции, чтобы человек не попал под колеса. Он вел пьяного, который болтал без умолку, И тут Михаил вспомнил утреннюю встречу с участковым и его предупреждение, совет – не возвращаться по Пушкинской с вокзала. Он прислушался к бреду пьяного, а тот, наваливаясь на Михаила, обнимал его и клялся в вечной дружбе до гроба.
– Милостивый государь! – вопрошал пьяный. – А вам не страшно!
– А оружие зачем? – очень громко ответил Михаил, хотя возвращался невооруженный.
И на стройке, и за забором слова Михаила об оружии произвели внушительное впечатление.
Во всяком случае, никто там и не пошевелился, пока Михаил вел по мостовой пьяного.
– А может, туфта? Мне говорили, нет у него пушки!
– Ясное дело, туфта! Давай, а?
– Так не докину, промахнусь!
– А мы с кирпичами выскочим! И вмажем!
– А вдруг обернется!
– Не успеет!
– Тихо, кто-то идет еще, вон у фонаря. Участковый. Тихо!
И Михаил также увидел участкового Чижикова. Тот остановился в свете фонаря под столбом, наклонился, поправляя сапог. Кобура с пистолетом издали напоминала утюжок. Видимо, участковый что-то заметил на земле, пошарил, повернулся спиной. И теперь кобура видна стала с другой стороны – со стороны забора.
За забором шептали друг другу на ухо:
– Хорошо, что не сунулись. Скажи спасибо, с тебя причитается, если бы я не удержал тебя, кумекаешь, чем пахло бы?
– Успел бы я.
– Не лезь поперед батьки в пекло. Закрой поддувало! Им с кирпичами ближе было и сподручней, а они не решились.
О том же самом шептались и на стройке дома, прижимаясь к каменной кладке:








