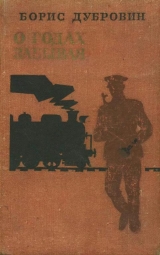
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Нина слушала биение своего сердца: она мысленно бежала по улице, в тот роковой вечер, ее догоняли быстро и уверенно. Позади гремели шаги.
– Спасите! Спасите! – крикнула она, чувствуя, как сердце от бешеного бега разрывает грудную клетку, а дыхание пресекается. – Спасите! – кричала она. Но улица точно вымерла. Добежать бы до того фонаря, до той тумбы, там будто бы камень, схватить его и со всей силы – камнем!
– Так вот, Ниночка, – услышала она как сквозь сон голос Сморчкова, – я чрезвычайно затянул этот экскурс, даже удалился на Дальний Восток, на пограничную тропу, но буду краток: в 1944 году в апреле Кулашвили попадает в Смоленск, а примерно через год – в школу, которую возглавлял известный легендарный следопыт Карацупа. Но общение со знаменитым следопытом еще не означает неизбежности славы для Кулашвили. Конечно, он окончил школу, было у него немало задержаний. Но в то беспокойное время шли нарушители косяком. Не велика заслуга Кулашвили, а велико везение. Я вижу, вы меня не очень внимательно слушаете. Послужил он младшим контролером на КПП в Берестовице и через полгода осчастливил ваш пограничный город. С августа 1949 года он – на посту в таможне. Он мастер пограничной службы. Оклад – сто сорок рублей. Вы знаете об этом? О том, что его оклад сто сорок рублей?
А Нина не слушала его, вспоминая, как она спасалась от преследователя. Она добежала до тумбы, схватила камень обеими руками, подняла над головой, повернулась на грохот шагов и, чуть отклоняясь назад, бросила камедь в голову подбежавшему. И размозжила бы голову, если бы неизвестный на бегу не отпрянул в сторону. Он ринулся к ней из тьмы, когда она хотела нагнуться за другим камнем.
И она успела схватить и замахнулась, но в свете фонаря перед ней появилась фигура ее спасителя, из носа у него текла кровь.
– Я провожу вас, не бойтесь. – Он тыльной стороной ладони отирал кровь, оберегая белую, с закатанными рукавами, рубашку.
– Простите, я думала, что вы с ним заодно.
– Ничего, ничего… бывает. Еще не везде порядок навели, но наведем!
– Как же вам удалось справиться с ним? Ведь он чуть не в два раза больше вас и такой силач! У меня на руках синяки, на плечах будут синяки. Дайте-ка я вам кровь вытру.
Из карманчика на платье она достала обрамленный кружевами носовой платок и вытерла кровь с его лица.
– Возьмите, – она отдала платок, – держите у носа. Или, знаете, давайте присядем, вы запрокиньте голову: кровь быстрей остановится.
Она подвела его к лавочке у деревянных ворот какого-то домишка. Он сперва рукой смахнул пыль, а потом уж разрешил ей сесть, стараясь, чтобы капли крови не попали на скамейку. Нина села. Он полуприлег, положив запрокинутую голову на колени девушке.
– Простите меня, хорошо же я вас отблагодарила – кулаком по носу, – сдерживая слезы, сказала она.
Ее спаситель расхохотался.
– Тише, вам нельзя двигаться. – Она придержала его голову, невольно погладив густые волнистые волосы и смахнув краем ладони капельки пота с его лба.
– Как хорошо! – простодушно сказал он. – За такое можно еще раз получить в нос и еще раз совершить такой кросс!
Теперь она рассмеялась. И вопреки всем своим правилам и обычаям сказала:
– Меня зовут Нина! А вас?
– Михаил.
Молча они дошли до ее общежития.
– До свидания, спасибо за все! – кивнула Нина.
– Прощайте! Возьмите платок.
– Ничего! Он вам еще пригодится.
– Так у меня свой есть. Вы меня напугали сперва, и я со страху забыл о нем.
– О чем вы говорите! – И она дробно застучала туфельками по крыльцу, по коридору. И Михаилу не верилось, что эта девчушка, отчаянно сражавшаяся за свою честь, так просто держала себя с ним, так смущалась и такой оказалась ласковой…
Нина пробежала по ночному коридору, освещенному слабой дежурной лампочкой, юркнула в умывальник, открутила кран и долго смотрела на цепочку воды, которая тянулась и тянулась из отверстия крана в дырочки раковины. Потом сообразила, что надо же вымыть руки. На правой ладони и указательном пальце следы крови Михаила. Она помедлила, подставила руки под струйку воды, наблюдая, как быстро исчезает кровь с ладони, как посветлел палец. Наверное, так быстро исчезает все: мелькнет – и нет. И уже нет этой ночи, этого испуга, этой схватки, этой встречи. Есть только позванивающая струйка воды.
Нина закрутила кран, тщательно вытерла руки и, пройдя в свою комнату, разделась и легла в постель. Но, оказалось, волнение не улеглось. Губы сами собой складывались в смущенную улыбку. Ночная комната казалась иной, свет от уличного фонаря, касаясь потолка, представился Млечным Путем. Почему-то рядом возникли лица Александра Александровича и Михаила…
– Ниночка, – снова наливая ей чай, но уже не придвигая конфет, продолжал Александр Александрович, – вы, разумеется, обратили внимание на мою, скромно скажем, осведомленность.
– Но зачем? К чему вы это, Александр Александрович?
– К тому, что мне далеко не безразлична ваша судьба. Я заранее предвижу печальный удел, если вы выйдете замуж за Кулашвили. Вы знаете, он пропадает на вокзале, на путях все рабочее и все свободное время. Он совершенствует мастерство сыщика или таможенника, или контролера – но берусь точно сформулировать. Однако знаю: жизнь с человеком, одержимым идеей, – печальная жизнь. А он одержим. Мало культурен, по сути, не образовав, но одержим! Повторяю, вы будете все время одна. Его профессия рискованна. Не исключена опасность и для вас, как для члена семьи. Контрабандисты платят деньгами, свободой за обогащение, они заставят Кулашвили и его близких расплачиваться жизнью.
– Откуда вы все знаете?
– Я работаю в депо. Это же прямая связь, с вокзалом, с таможней. Досмотры и осмотры паровозов и вагонов – первейшая обязанность контролеров. Ну и, простите за нескромность и за высокопарность, господь не отказал мне в умении анализировать людей и события.
– Да, я вижу, вы немало знаете о нем, обо мне.
– Знаю больше, чем говорю. Неизвестно пока мне, как вы познакомились с Михаилом, но да это и не столь важно. Важно, что он стал вас встречать, иногда и провожать, важно, что он собирается предложить вам стать его женой, еще важнее и печальней, что вы всерьез думаете об этом. Все это вынудило меня форсировать события и сегодня же провести с вами этот важный разговор.
– Вы и провели его, Александр Александрович!
– Нет, это была лишь преамбула, я хотел сказать, это – присказка. Ведь о себе я вам ничего и не поведал.
– Александр Александрович, я очень ценю ваше доброе отношение ко мне, но вы меня, очень смущаете.
– Чем же, простите? Тем, что беспокоюсь о вашей судьбе, тем, что пытаюсь вам помочь оценить ваше будущее? Приличной жилплощади у него нет. Сто сорок рублей в месяц, и все! Я же сумею обеспечить вас более достойно и разумно. Вам не придется прерывать занятия в кружке самодеятельности. Может быть, мы сумеем поднять вас на подмостки районной и даже областной сцены. Ваша недавняя победа обнадеживает. Кто знает, не исключены и республиканские смотры и, таким образом, не исключено и ваше выступление в столице. Смотреть дальше я не решаюсь, чтобы не обольщать несбыточными мечтами. Зато реально со мной вы будете жить обеспеченной. Да, я получаю восемьдесят пять рублей. Получаю и за ведение кружка самодеятельности. Кроме того, случаются приработки. Поверьте, понять вас и оценить я смогу не хуже Михаила Кулашвили…
За окном уже стемнело. Зеленоватый свет лампы делал лицо и глаза Александра Александровича нереальными и спокойными. Голос его звучал покровительственно, терпеливо, благожелательно. Разве что глаза маслянисто поблескивали. Изредка проскакивали в них искорки бдительности и прозорливости.
Нина оценила его сдержанность и корректность не меньше, чем высокий стиль речи. На миг она увидела себя хозяйкой в этой квартире, увидела, как она скоблит пол, вытряхивает окурки и пепел из пепельницы, вытирает пыль с иконок и книг, моет фаянсовые, с цветочками, чашки, ставит на электрическую плитку чайник, смотрит на старинные книги… Что ж, и это хорошо… Но взгляд ее упал на двуспальную кровать, прибранную, с двумя подушками, И почему-то увиделось, как падала на эту кровать женщина – его жена, как плакала… Почудилось – на подушке осталась еще выемка от прикосновения ее головы. На покрывале словно задержались прикосновения ее рук. Эти чашки мыла она. Нет, Нина не ревновала к ней, ибо не ощущала тяги к Сморчкову. Но комната еще была наполнена присутствием другой женщины, хотя ее следов она не замечала нигде. А у нее был сын, и он жил в этой комнате. И как Нина не старалась отыскать глазами хотя бы одну детскую игрушку или книгу, ей так и не удалось ничего обнаружить. Видно, и в жизни Александра Александровича ребенок не играл никакой роли. Была за этим какая-то не то что тайна, но неясность, драма, молчаливая и долгая дорога. Неужели возможно быть с ним рядом, принадлежать ему? Но ведь была же другая! Другая женщина…
Александр Александрович помешивал в патоке ложечкой, она жалобно позвякивала. Ему хотелось закурить, но он не позволял себе этого в присутствии гостьи. Ее лицо не отличалось красотой, ее душа не блистала какими-то сверхъестественными редкостными достоинствами, но чем-то она трогала сердце, и Александру Александровичу было просто приятно смотреть на нее, просто говорить с ней, просто вслушиваться в звучание ее певучей речи и всматриваться в глаза, видя в них и ее душу. Да, с нею бы жизнь стала иной. Важно теперь не спугнуть ее, важно и не насторожить.
– Ниночка, я, разумеется, не смею торопить вас с ответом. Вам для этого потребуется время – взвесить все «за» и «против». Но я хотел заранее сказать вам обо всем, чтобы не было никаких неясностей ни между нами, ни между вами и Михаилом Кулашвили. В вашей грации есть и грация вашей души, чему я радуюсь и чему со временем найду достойную оправу. Вы – девушка незаурядная, а он – рядовой, простите, старшина. Ему даже не стать офицером: образования нет. Боюсь, нет к образованию и особой тяги или особых способностей.
– Не знаю, способна ли я понять все услышанное. Признаюсь, ничего о Михаиле не знала, – она увидела, как глаза его торжествующе блеснули, и он удовлетворенно кивнул. – Мне многое стало понятно. Верю, вы от чистого сердца советуете мне и предостерегаете меня от возможной ошибки. Я очень благодарна вам, а сейчас позвольте мне уйти. Занятия, дела…
– Жалко, что вы покидаете меня, но… – развел руками Александр Александрович, – я буду ждать вашего решения…
Нина устала.
Он проводил ее до дверей.
Когда она притворила за собой дверь, то, не зная почему, вытерла туфельки о мешковину и ушла. По дороге в общежитие она все время думала о Михаиле. Нет, он еще не предложил ей быть его женой. Он встречал, провожал, шел рядом, и она чувствовала себя надежно. А разве это мало – чувствовать себя надежно?
Когда дверь за Ниной закрылась, Сморчков ощутил, что в его жизни приоткрылась еще одна важная страница. Он смотрел на фаянсовую чашку с лазоревым цветком – она касалась ее. Он взял чашку, допил остатки чая. Чай был не сладок, но Александр впивал частицу влаги, которой касались и губы Нины. И он как бы сам касался ее губ. Нет, он и не предполагал, как много она значит для него! Иначе, зачем бы он снова снял иконку Владимирской богородицы и прикоснулся к тому месту, к которому прикасались руки Нины. Он смотрел и на старинные свои книги иначе: она смотрела на них. Выключил лампу – она же включила! – постоял в вечернем полусумраке, постарался увидеть снова, как она сидела и мельком взглядывала на чайник, на двуспальную кровать, на пепельницу, на него. Все преисполнялось особым значением оттого, что это видела и наполнила каким-то своим отношением Нина. Но каким? И какими глазами смотрела? В одинокости затемненной комнаты еще жили ее наивные вопросы, и он их повторял про себя и мысленно выслушивал, и оценивал свои ответы. Он потрогал себя за руку – эта рука хранила теплоту ее прикосновения. Нет, оно проникло глубже. Что это – очарование юности, свежести, чистоты? Или ему выпал в жизни счастливый лотерейный билет? «Как она смотрела на меня? О чем думала? Разве не была ошеломлена моей осведомленностью? Но ведь сейчас я включу настольную лампу, а ее нет, нет…»
Пока нет. Пока? Значит, она будет!..
Вспоминая о Нине, он думал и о контрабанде, о том, где спрятать новую партию груза. Как обхитрить Михаила Кулашвили… Да и не только его. Следовало подумать, где встретиться с Бусыло и Львом Зерновым. А над всеми этими делами возвышается Нина… Голова кругом идет при мысли о том, что она будет его женой. Женой, его женой! На всю жизнь!
И накопленное риском и изворотливостью будет их общим достоянием. Даже в собственных глазах его жизнь выглядела бы иначе, если бы все содеянное творилось во имя Нины.
Вдруг, не отдавая себе отчета, подражая Нине, произнес он:
Знаю, скажешь: «Не те уже годы,
Понапрасну теперь не труби:
Улетели твои самолеты,
И уплыли твои корабли…»
Он вдруг увидел себя на поле аэродрома, а над собою улетающий самолет, увидел себя на пристани, у причала, от которого, точно оттолкнувшись, уходит последний корабль… Увидел, как только что ушла Нина… «И уплыли твои корабли… Чушь какая! Все в моей воле!»
Палец нажал кнопку переключателя. Лампа вспыхнула. Комната была более пуста и одинока, чем всегда. Что же, время дороже денег. Не стоит терять его. Надо встретиться с Бусыло и с Зерновым. Надо все обсудить. Надо! Но как быть, если Нина затянет с ответом, если она не даст согласия? Промолчать? И что же? Кулашвили отнимет ее у него… И он, Сморчков, уступит девушку, которая и сама не предполагает, как много она значит в его судьбе, особенно после сегодняшней встречи! Александр Александрович рассеянно помешивал ложечкой в пустой чашке, рассеянно ловил ее позвякивание. Ему чудились неведомые колокольчики ямщицких троек, виденных разве что в кинематографе да на картинах…
Но слышнее стала и жизнь города, одышка паровоза, тянущего многовагонный бесконечный состав, вскрик гудка, шаги по улице.
В окне мелькнул знакомый тупой профиль Бронислава Бусыло с округлыми; дерзко вырезанными ноздрями, брезгливой нижней черной губой и растрепанной мочалкой бороды.
Да вот и условный стук. Его рыбьи, холодные глаза, блеклый, лишенный интонаций голос. И он ухаживал за Ниной!.. «Даже я, грешным делом, перед ним чуть ли не Аполлон».
Бронислав в потрепанном пиджаке вошел в комнату. Сморчков ходил из угла в угол и костяшками согнутых пальцев левой руки поглаживал снизу свою длинную челюсть, которая была выбрита идеально.
Бусыло опустился на стул, недавно оставленный Ниной.
– Бронислав, сядь на другой. Этот стул непрочный.
Гость уселся на другой венский стул с выгнутой спинкой, расстегнул пиджак. Щелкнув крышкой портсигара, достал папиросу, томительно разминал ее в пальцах.
– И долго эта разминка будет продолжаться? Опять погорели?
Крышка портсигара закрылась. Чиркнула зажигалка Бронислава, он выпустил дым колечком. Второе бледно-фиолетовое колечко всплыло и растаяло.
– Все сделали, как ты сказал.
– А именно?
– Между крышей и потолком пятого вагона пристроили капрон, бритвы, будильники, ну все, одним словом.
– Ну, дальше, ближе к делу…
Бронислав потеребил мочалку бородки, затянулся, округлил губы и выдохнул дым. Колечко не получилось.
– Ближе некуда. Нащупал Мишка!
– Так, а с плафоном в четвертом?
– Как в отстойник подали состав, так мы отвернули шурупы, опустили плафон на проводах, впихнули туда те свертки, где товару на три косых. Ну, для блезиру постом закоптили спичкой шурупы. Из отстойника через шесть часов подали, а Мишка – тут как тут. Черт бы его побрал… эту пограничную собаку, чутье у него какое-то!
– Ты мне о чутье не пой! Сколько раз говорил всем вам: изучайте его повадки, привычки, манеру поиска. Как же он накрыл? Как? Или ты не закоптил шурупы? Да или нет?
– Закоптил, чуть бороду не сжег, пропади эти шурупы пропадом! Ну а он идет по вагонам. Вечером темно, так он фонариком зыркает. И, как магнитом, притягивает его, гада, именно в четвертый вагон. Ну ничего, думаю, он же идет быстро, время-то им отпущено малое.
– Ты не крути! Как было? Ну?!
– Ну так было… Провел он фонариком по плафону, и словно его кто на месте осадил. Встал – и все тут. Миг постоял и полез к плафону. Пальцем по шурупу, по другому, по третьему. Все закопченные были. Как он унюхал – ума не приложу!
«Было бы что прикладывать», – зло подумал Сморчков и отодвинул от себя пустую чашку.
– Отвинтил шурупы, опустил на проводах плафон. Был он со своим напарником.
– С литовцем Иозасом? Этот умелец – Контаутас?
– Он! Его воспитанник. Тот тоже все молчком. Ну, опустили они на проводах, Мишка шасть туда своим крючком, и прощай еще три косых.
– Ну, а тендер? Не тяни!
– Я впритык к стенке примостил контейнер, залил водой тендер доверху. Метра полтора воды. Там у нас шелк искусственный был.
– Как был?! Неужели?
– Да, Мишка в этот раз сунулся почему-то к тендеру. Ведь туда и положили потому, что он четыре раза не трогал, не искал там. Вот на пятый и попробовали. Ты же сам одобрил. Так он, сволочь, выудил крючком, три раза мимо проскальзывал, а на четвертый подцепил, выволок. Вот и все!
– Значит, с кожухом проскочило? Не усек Мишка? – ожил Сморчков, который буквально физически ощущал, как всевидящий крючок Кулашвили вытаскивает у него из кармана новые тысячи. – Ну говори. С кожухом порядок?
Память мгновенно воссоздала кожух, внутри которого паровую трубу по предложению Зернова обложили брезентовыми мешками с контрабандой. На этот раз были шерстяные платки. Кожух был прихвачен болтами. Топили не много, чтобы не спалить платки.
– Закоптили болты? – тревожась, спросил Сморчков.
– Закоптили! И погорели!
– Что?
– Да, постучал он, ваткой обтер болты. Ну словно отвертка у него заговоренная! Или он сквозь кожу видит, сквозь дерево, сквозь железо.
Сморчков вырвал изо рта Бронислава папиросу и жадно затянулся.
III
Контролеры покуривали и слушали Михаила Кулашвили. Он сидел в комбинезоне. Худенький, как мальчишка. Казалось, молодые контролеры и крупнее, и солиднее, и старше его. А сколько азарта в его блестящих черных глазах, как подвижно лицо! Сейчас на нем можно прочесть все мысли, все чувства. А несколько минут назад это лицо было непроницаемо как маска. Несколько минут назад изымалась контрабанда. И надо контролировать свой внешний вид, чтобы ни одной черточкой, ни одной складкой на лице, ни одним взглядом не дать понять своих мыслей, подозрений и предположений.
– Ну, а с плафоном как вы сообразили, товарищ старшина?
– Смотрю, свежая копоть…
– А разве она отличается от старой?
– Присмотрись – увидишь, – ответил Михаил, – так вот, дай, думаю, проверю. Поднялся, поближе поднес фонарь: да, копоть свежая. Стер ее, смотрю: свежий след на шурупе от отвертки. А раньше его не было. Я четыре дня назад осматривал, помню…
– Что же это, разве можно каждый шуруп помнить?
– А Михаил Варламович по имени-отчеству знает каждый шуруп, – сказал Иозас Контаутас. – Сам видел, как он смотрел на следы отвертки, как мне кивнул. Я еще не понял, в чем дело, а он уже отворачивает. Сразу вспомнил наш городской оркестр, в котором я играл. Михаил Варламович – это целый оркестр. У него все «играет»: и глаза, и слух, и руки, и плечи, все вместе играет контрабандистам грустную мелодию – «Прощай, контрабанда».
Иозас Контаутас был тихим, спокойным парнем из городка Радвелишкиса. До армии он работал инструктором на фабрике «Канцелярские принадлежности». Приносил образцы для цеха, обучал рабочих. Сам же он владел профессией слесаря-наладчика деревообрабатывающих станков, токаря по металлу и дереву. С детства увлекался резьбой, изготовлением моделей самолетов. Его способности заметил Домин. Капитан достал ему лак, восьмислойную фанеру, клей БФ-2. Из дому прислали Иозасу набор напильников и необходимый инструментарий. По вечерам он что-то пилил, вырезал, строгал, клеил. А как он оформил стенды «Границы Родины священны!», каких причудливых фигурок наделал из корней, сколько вырезал из дерева всевозможных медведей, лошадок, собак, оленей!..
– Это ты подарил Михаилу Варламовичу прыгающего оленя? – спросил Никитин.
– Конечно! Олень – самый чуткий!
Когда ребята демобилизовывались, с ними уезжали в родные края подарки, с любовью созданные Иозасом Контаутасом.
Капитан Домин втайне гордился, что открыл этот талант, и всячески опекал его.
Контаутас внимательно слушал все, о чем рассказывал Кулашвили.
Сейчас шла учеба. И Кошбиев спросил Михаила Варламовича:
– Как же вы догадались о тендере?
– Характер знаю.
– Чей характер? – опять спросил Кошбиев, который и сам отличался не раз, но не мог надивиться сметливости и наблюдательности Михаила Варламовича. – Какой характер?
– Характер Бронислава Бусыло. Он же лентяй, все на бородку в зеркальце поглядывает, в паровозной кабине фотографию возит из журнала; такая фифочка – в чем мать родила.
– Причем тут фифочка?
– Притом, что он больше на свою бородку и на эту фифочку поглядывает, а в кабине всегда грязно, вода в тендере залита до половины. Ему же лень залить доверху.
– Ну и что же дальше? – допытывался Кошбиев. Он привстал и погасил свою папиросу: – Причем тут уровень воды в тендере, Михаил Варламович?
– Притом, что в кабине на этот раз было прибрано, а вода была залита почти по самый край. Я соорудил специальный крючок и начал выуживать у самой стенки, потому что Бусыло имеет привычку все вещи и инструменты в паровозной кабине вплотную к стенке ставить, да и сам на улице держится ближе к забору, к домам, в тени. Одним словом, у стенки из воды вытащил герметически закрытый контейнер с искусственным шелком.
Глаза Кулашвили блестели весело и озорно.
– А с кожухом как?
– Ах, Кошбиев, болты закоптили только-только. Я ваткой стер копоть. Наблюдаю за Бусыло, но так, чтобы он не видел этого. А Бусыло закуривает и глаз оторвать не может от болтов. И у Зернова глаза бегают.
– Почему откручивали? Вижу: заворочались.
– Ремонт делали! – отвечает Бусыло, а сам не тем концом папиросу в рот сует.
– Сейчас, – говорю, – я вам буду делать ремонт! – Михаил подмигнул слушателям. – Отвинтил болты, смотрю: кожа, а под ней брезентовые мешки обкручены вокруг паровой трубы. Труба теплая.
– А в вагоне-ресторане? – напряженно спросил Кошбиев. – Ведь оставались считанные минуты на осмотр.
– Прошел на кухню. Стоит этот артист-повар в колпаке с поварешкой около котла с горячим супом, помешивает, уже наливает мне тарелочку: «Отведайте, Михаил Варламыч!» А огонь под котлом чуть теплится, вроде для виду разожгли. Повар мне подает тарелку, а рука вздрагивает. Я тарелку брать не стал, а попросил поварешку. Зачерпнул. Суп как суп. Только что-то меня насторожило. Тут я и вспомнил, как мне проводник Закурдаев шепнул: «Нечистые дела повар делает. Без ветра листья не колышутся. Люди зря не скажут. Зачем один такой марает всех нас?» Ну и добавил подробности. Без таких, как Закурдаев, немного бы мы нашли. Это запомните. На них опирайтесь. Но и к ним подход нужен. Доброе слово железные ворота открывает. Надо его вовремя сказать и знать того, кому говоришь. Кое-чем помог я Закурдаеву, кое-что посоветовал. О больной племяннице расспросил, лекарства достал для нее. И он ко мне со всей душой. А кто дорогу знает, тот не споткнется. Дорогу мне Закурдаев и подсказал… Потому я глянул искоса на повара и опять поварешкой пошарил по дну. Все как будто нормально, гладко. Стоп, думаю! Глубина-то котла больше, чем получается, когда поварешкой по дну шарю. Приказал вычерпать суп. На дне ровненько-ровненько уложены консервы с черной икрой. Сунулся в поддувало. А там в холодной золе – тоже икра!
Все давно докурили.
Михаил Кулашвили предупредил:
– Ты, Контаутас, и ты, Кошбиев, лучше досматривайте туалет, зорче смотрите под диванами, под полом, в проходе коридора, в гармошке, между крышей и потолком. Обратите внимание на вторые полки: там иногда ловко сооружают иностранцы второе дно, между стеной и батареей. Просматривайте шторы, над шторами под планкой тоже кое-что встречается.








