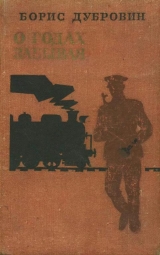
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
IV
Неизвестно, исключает ли дружбу любовь, неизвестно, с чего дружба перерастает в любовь, и перерастает ли? Но Нина стала внимательней прислушиваться к воробьиному щебету. Он ей казался звоном весеннего ручейка, скачущего по камешкам. Нина увидела, что небо и голубое, и лазоревое, и пепельное, и сизое. И виделось ей лицо Михаила. Учеба в техникуме пошла по-иному: она забывалась над учебниками, спохватывалась. Начинала читать в ни слова не понимала. Снова задумывалась о Михаиле – как о загадке, разгадать которую судьба предназначила ей. С особым волнением вспоминала первую встречу. Она же бросила в него таким камнем, что убить могла, изуродовать на всю жизнь! Судьба его пощадила или предупредила, и камень пролетел мимо. Но он мог по другой улице в ту ночь возвращаться с вокзала. Мог и не ходить на работу – был выходной день. Выходит, благодаря его привязанности к службе они познакомились, а удар кулаком по носу можно считать добрым предзнаменованием. Но все-таки… могло ничего и не быть…
Порой она испытывала суровость к Михаилу: он и после окончания своей смены задерживался на вокзале.
Очень скоро Нина, еще задолго до того как поняла, что Михаил ей дорог, осознала и глухую ревность к его работе – к вокзалу, к железной дороге. Железная «соперница» вырывала у нее Михаила, звала к себе и днем и ночью, изматывала его, а он приходил счастливым, заряженным новыми силами и преображенным после каждого «свидания».
Железной «сопернице» все было мало, однажды она чуть ли не заполучила Михаила навсегда.
После дежурства, как обычно задержавшись на работе, Кулашвили возвращался домой. Был поздний вечер. На улицах – ни души. На железнодорожном мосту двое неизвестных, отделившись от перил, решительно пошли ему навстречу. В луче прожектора проходящего паровоза Кулашвили успел заметить на лице одного из нападающих шрам. Блеснул нож. Но Михаил знал цену мгновения в самбо. Резкий выпад – и нож выбит из рук бандита. Еще прием – и верзила, вскрикнув от боли, грохнулся на спину.
Михаил кинулся за вторым. Но, увидев, как Кулашвили мгновенно расправился с напарником, помощник опрометью рванул с моста. В свете проходящего пассажирского состава Михаил заметил длинное лицо убегавшего и блеск его темных очков.
Узнав, что он едва не погиб этой ночью, Нина поняла: его гибель была бы равносильна и ее смерти. И неожиданно для себя сказала Михаилу:
– Будем вместе! Навсегда! – Обняла его и поцеловала волнистые волосы, поцеловала как-то по-матерински или как сестра.
Его это потрясло. Он взял ее руки в свои и молча поцеловал их.
V
Александр Александрович Сморчков был в приподнятом настроении. Все кончено, все покончено с прежней случайной связью! В паспорте стоял штамп и пометка о расторжении брака с гражданкой Тамарой Шигаревой. Тамара работала в депо уборщицей, приходила по просьбе Сморчкова убирать его квартиру, стирала, гладила, иногда и готовила.. Все знали, что она была замужем за пьяницей, но выгнала его. Растила Саньку. Полногрудая, ловкая, всегда свежая, она была щепетильно честна, многое делала и «за так», и Александр Александрович после долгих раздумий предложил ей переселиться к нему с Санькой.
– Зачем вы так решили? В депо говорят о нас: гусь свинье не товарищ. Да и обуза какая вам!
Но Сморчков заработал авторитет своим бескорыстным поступком.
Но вот – это сама судьба – ему навстречу к загсу идет Нина.
Александр Александрович устремился к ней, протягивая руки, безмолвно призывая к себе. Он сиял. Любовь искренняя владела им. В эти минуты он был по-своему привлекателен, может быть, оттого, что большое чувство преображает нас, придает нашим лицам неожиданные оттенки, делает обаятельными.
– Нина, Ниночка! Судьба моя! Как я счастлив! Это добрый знак! В такой знаменательный для меня день встретить вас здесь! Ниночка! – Он весь был возвышен, одухотворен. – Ниночка! Как хорошо, что я вас вижу! Спасибо жизни и судьбе! Я буду благословлять этот день.
Это была редчайшая секунда откровения в многолетней практике молчания и духовного затворничества. Но, еще не дойдя до Нины, он уловил в ее лице смятение. И принял его за смятение счастья, за ответное движение души.
– Ниночка! Я свободен! – Он вкладывал в эти слова свой, особый смысл, подразумевая и формальную возможность для вступления в брак. Господи! Сколько лет молчания, сколько лет одиночества, сколько притворства! Но близка цель! Близка Нина! Вот ее белое девичье платье, оно так похоже на подвенечное, ее гладкие волосы, ее глаза… Глаза… Глаза… Ну понятно ее смущение, понятен и дымок страха в глазах. Но огонек ответной радости? Где он?..
– Простите, Нина! Меня задержали! Простите! – услышал он голос с легким грузинским акцентом. Сморчков понял: Кулашвили! Михаил шел в военной форме, с орденами и медалями.
Сморчков успел оценить обращение на «вы», и облегченно вздохнул, полагая увидеть привычную сценку провожания. Сморчков был слишком умен, чтобы считать своего противника глупым. Его поразило счастливое лицо пограничника. Сморчков понял мгновенно его силу и тяжесть предстоящей борьбы. Если бы он мог предвидеть на минуту вперед все случившееся, то он отдал бы годы, лишь бы не пережить этих минут собственного позора.
Сморчков смотрел на Нину. Ее глаза были устремлены на Михаила. Она его обнимала глазами, звала… Она смотрела на него, Михаила Кулашвили, как на чудо! Она, Нина! Нина, которая вот так, прямо из-под рук, уходила к другому…
Порой накануне провалов с контрабандой Сморчкову снились тяжкие, кошмарные сны. Что-то чудовищное, сверхъестественное вторгалось в сон. Поезда начинали говорить. Паровозы шли по нему своими колесами. Двери товарняка захлопывались и зажимали его. Он то оказывался в тендере – в контейнере с шелком, то в плафоне висел на волоске электрической лампочки. Но увиденное им перед дверями загса затмило те кошмарные сновидения.
Сморчков смотрел на Михаила. Он видел его лицо, повернутое к Нине. Никогда бы не поверил Сморчков, что можно смотреть на девушку как на святыню. Как бы ни было больно, он вдруг осознал, что его присутствие при этом свидании – святотатство.
Мимо Сморчкова прошелестело платье, прозвенели медали, прошло счастье…
Шок был велик. Сморчков, утратив контроль над собой, не нашел сил уйти. Отошел в сторону за поворот, дождался, пока счастливые влюбленные опять пройдут мимо него, с отчаянием послушал их удаляющиеся шаги. Потом ладонью вытер пот, липкий, отвратный, холодный, со лба, с лица, с шеи. Полой пиджака, сшитого у частного портного, протер очки, хотя замша для протирки всегда лежала в кармане пиджака. Побрел в загс…
– Слушаю вас? Вам что-нибудь неясно? Или допущена описка, ошибка? – предупредительно спросила его высокая Анна Максимовна. Ее коричневые лучистые глаза переполняла доброта. – На вас смотреть страшно. Выпейте! – Анна Максимовна из графина налила в граненый стакан воды.
Как во сне, Александр взял стакан. Зубы стучали по стеклу. Пил, не чувствуя вкуса воды. Не узнавая свой голос, сказал:
– Сюда приходили она и Кулашвили…
– Она? – порывисто прервала его Анна Максимовна и взволнованно встала из-за стола. – Она? – лучистые глаза померкли от сострадания, – она?..
– Она!
Все было написано на лице Сморчкова. Анна Максимовна накапала ему в рюмочку валерьяновых капель, разбавила водой, заставила выпить.
– Ну, не расстраивайтесь… Не унывайте! Живите как прежде! Разумно ли так истязать себя?! Вы же свободны! Вы молоды! Вы найдете себе достойного человека, Не убивайтесь так!
Но обстоятельства были сильней его разума. Все, что она говорила, он мысленно повторял:
– Товарищ Сморчков! Не расстраивайтесь! А запрос о перемене фамилии на Богодухова я оформлю сегодня же, так что своей будущей супруге вы сможете дать эту фамилию. Ну, наберитесь сил. Ведь у вас столько, дел! Последний раз на концерте вашего кружка… это я так громко кричала: «Бис, бис и браво!» Вы превосходно прочитали монолог Чацкого! Превосходно! У меня долго еще звучало в унтах ваше восклицание: «Карету мне, карету!» Прямо мороз шел по спине… так взволновало…
Эти искренние слова начали возвращать Александра к жизни, но возвратиться домой в одинокую квартиру он так сразу не решался. Подобие жалкой улыбки показалось на его губах. Пусть с опозданием, но признание его дарования наступало. И слова этой женщины – не подачка из жалости. Но и это не утешало. Помимо своей воля он спросил от отчаяния:
– Простите, не знаю вашего имени и отчества. Вы замужем?
– Да! – Она выпрямилась, поправила чудесные пепельные волосы и янтарный медальон на груди.
– Вы счастливы?
Она молчала, словно взвешивая что-то.
– Вы счастливы с мужем, с ним вы счастливы?
Ей хотелось сказать, что ее муж – Алексей Чижиков – ранен на войне, был одним из защитников Брестской крепости, прошел плен, сейчас работает участковым. Он моложе ее на пять лет, красивей ее, но любит, любит, даже ревнует, хотя у них двое детей… И ее лучистые глаза опять вспыхнули. Однако женское чутье подсказало ей другое:
– Очень!.. Извините меня.
Сморчков склонил голову и только вздохнул:
– Нина…
И надолго замолчал.
Анна Максимовна в замешательстве не знала, что делать.
– Хотите, пойдем к нам в гости… Пойдемте! – просто предложила она.
Он горестно покачал головой. Жить не хотелось. Копить? Обогащаться? В эти мгновения не хотелось и этого. Мстить Кулашвили?
Свое полное поражение Сморчков зафиксировал про себя честно.
VI
Не раз поражала Алексея Глебовича Чижикова независимость Михаила Кулашвили. Да и можно ли было не удивляться его твердости, его способности делать то, что он считал необходимым, хотя окружающим это казалось делом не первостепенной важности. Над ним могли подшучивать, а он оставался серьезным. Он шел своим путем, принося жертвы ради намеченной цели, идя на риск и порой терпя поражение. Но и преграды укрепляли его волю. В быту он оставался мягким, непринужденным и доступным. И чем больше Алексей узнавал своего друга, тем больше втайне восхищался им, незаметно для себя перенимая его манеры, подражая его умению всегда быть веселым, доброжелательным и никогда не терять достоинства. И все-таки, когда сынишка сказал, что сегодня будет занятие юных друзей пограничников и придет Михаил Варламович Кулашвили, Алексей Глебович усомнился:
– Знаешь, Арсений! Вряд ли сегодня состоится занятие! Сегодня Михаил Варламович отмечает такой торжественный день! Сегодня день свадьбы. Спроси у мамы, она только вернулась. Анечка, скажи.
– Мне мама говорила уже, я знаю. Но если Михаил Варламович сказал, он слово сдержит. Еще ни разу он не опоздал даже на минуту. Всегда за пять минут до начала приходит. А как он рассказывает! Прямо видишь все это, словно сам с ним идешь по вагонам, заходишь в паровоз!
– Ты бы лучше пошел постригся, вон космы какие отпустил, все равно занятий сегодня не будет. А если и будут, неудобно в таком виде… Перед Михаилом Варламовичем! Он всегда выглядит аккуратным.
– Ну, он… Сравнил!
Сын подошел к своей постели, над которой висела фотография: Кулашвили среди юных друзей пограничников. Ближе всех к нему – Арсений. Он в пиджаке, с пионерским галстуком, волосы ежиком.
Арсений постоял у фотографии и сказал:
– Папа, дай денег на стрижку. Я, пожалуй, успею, – и умчался.
– Знаешь, Анечка, глядишь, незаметно-незаметно… станет наш Арсений пограничником. Дружбу завел и с Кошбиевым. Помнишь, такой чудесный черкес! Плечи широкие, талия узкая, грудь колоколом. Ну помнишь, конечно…
– Да, а что?
– Арсений пронюхал, что Кошбиев самбист, и решил тоже поступить учиться в школу самбо. Как тебе это нравится?
– Боюсь, шею ему сломают. Да и как с учебой он будет управляться?
– Он мне обещал, что троек в дневник не допустит. Даже пошутил: «Границ моего дневника не переступит ни одна тройка».
– Ты подумай, а от меня скрыл!
– Не хочет тебя расстраивать. А тут еще узнал, как Кошбиев трех хулиганов разделал под орех. После этого Арсений бесповоротно решил учиться самбо!
– А ты, Алешенька, ты разрешил?
– Аня, милая, ну зачем закрывать глаза на жизнь? Разве мало всяких безобразий? Самбо и физически выправит парня, да и уверенности прибавит в себе, пригодится, поверь мне, когда-нибудь. К сожалению, может пригодиться. А уж если он всерьез решит стать пограничником, то – тем более.
– Ну и друзья у тебя, Алеша!
– Я счастлив, что у меня есть такой верный друг, как Михаил. Ну как ты думаешь? Будут занятия у Арсения? Я говорю: придет ли сегодня Михаил?
– Конечно нет! В день свадьбы! Надо быть святошей, службистом, карьеристом, чтобы даже в день свадьбы прийти на занятия! Не смеши меня!
– А только он не святоша, не карьерист и не службист. Кстати, ты знаешь, как пользуются его добротой… Он много выступает с лекциями о бдительности – в школах, на заводах, перед студентами, и нигде ему не платят ни копейки…
– Ну, за кружок-то платят, конечно.
– Нет, ни копейки. Так что, картина тут не совсем такая, какую ты себе представляешь. А как тебе понравилась Нина – жена Миши?
– Хорошая. Мне показалась она сердечной, уступчивой. Но нелегко ей будет…
– А тебе легко со мной?
– Ты же у меня и милиция, и народный умелец, и строитель яхты. Конечно, нелегко. И страшно каждый раз. Но я тебя… – Она застенчиво опустила голову и одними губами сказала: – Люблю.
– А она его? Нет?
Аня молчала. Алексей, отложив чертеж яхты, над которым работал, встал из-за стола. Он встревожился:
– Не любит? Тебе показалось – нет?
– В том-то и дело… истинно любит. Я это чутьем уловила. Взглянула на нее и поняла: днем и ночью будет его ждать.
– Идеализируешь? – спросил Алексей, хотя всей душой желал счастья другу.
– Нет! Ведь на моих глазах столько драм, комедий и трагедий проходит. Волей-неволей научилась разбираться. Еще несколько лет назад, когда Богодухов Александр Александрович женился, я сразу увидела несовместность такого союза. Почему? Не могу сказать, а ручаться могла бы. Да вспомни, я тебе тогда сказала о своем предчувствии.
– Прости, не помню. – Алексей опять склонился над чертежом яхты и над расчетами.
Он взялся за лекало, карандаш и, не поднимая головы, спросил, проводя плавную линию:
– А что это за Богодухов? Где-то я слышал…
– Где-то! – Аня подошла сзади, обняла его. Он ощутил ласковую тяжесть и теплоту. Замер, наслаждаясь кружащей голову близостью.
– О чем это я? – попыталась вспомнить она, связать нитку разговора, прерванного невольным порывом к Алексею. Поцеловала его в щеку краешком губ. – Не помню.
Он бросил лекало и карандаш, повернулся, притянул ее к себе, обнял.
В дверь постучали, и мальчишеский голос спросил:
– Тетя Аля!
Она отпрянула от мужа, точно великая грешница, застигнутая на месте преступления, залилась краской и неверным голосом спросила, подходя к двери и поправляя чудесные волосы:
– Что тебе?
– Арсений пойдет на занятия ЮДП?
– Он в парикмахерскую побежал, а оттуда – на занятия.
– Спасибо!
Аня подошла к зеркалу, увидела свое красное лицо, подкрасила губы и немного успокоилась. Алексей, вздыхая, ластиком стирал неточно проведенную линию.
– Вспомнила! Богодухов – это же Сморчков. Талантливый, обходительный, представительный такой, хотя и совсем неинтересный. Он сегодня официально оформил развод, и я видела, как он был опечален женитьбой Михаила на Нине.
– Тебе могло и показаться.
– Нет уж, извини… – Аня еще стояла у зеркала, держа в руке губную помаду. – Кстати, Нина – молодец, совсем не красится, даже губы не подводит. Не то что я. Но знаешь, верь моим словам: так просто это у Александра Александровича с Ниной не кончится.
– Фантазерка ты, Аня!
– Да, фантазерка, если замужем за строителем мифической яхты, но здесь, к сожалению, все реально. Есть предчувствие!.. Запомни мои слова. А Александру Александровичу надо сменить фамилию на Богодухова. Я обязательно помогу ему. Ты помнишь, как он Чацкого играл, помнишь монолог: «Карету мне, карету!» Не ладится жизнь, видно, у него. А ведь известным бы мог стать чтецом.
Она зашла за ширму, зашуршало ее платье, она сказала:
– Неужели правда, что ты достал билеты на такого скрипача?
– Предстань, думал все так просто. Не тут-то было…
– Я рада!
– Тому, как не легко достать билет?
– Популярности Альберта Маркова! Это же виртуоз! И мне столько дает его исполнение, даже когда слышу но радио.
Аня вышла из-за ширмы в другом платье, что-то она переменила и в прическе. Алексей улыбнулся:
– Два или три раза ходим в месяц на концерты и спектакли, и каждый раз я иду словно с другой женщиной.
– А ты разве сомневался когда-нибудь в этом? Разумеется, я меняюсь, вернее, меня изменяет предстоящее.
– Мне хорошо!
– И я не жалуюсь.
Помолчав, она сказала:
– Хорошо, что ты взял билет и для Арсения. Хотя, боюсь, это оставит его равнодушным: не рано ему?
– Нет, что ты! А то как бы он не начал развиваться односторонне. И если уж мы его берем с собой на все спектакли, то так и надо продолжать. И потом… каждый по-своему отзывается на музыку. Может быть, он воспримет ее куда ярче и глубже, чем ты. О себе не скажу, я слабо чувствую музыку. – Он углубился в чертеж, и опять карандаш заскользил по бумаге.
Над листом чистой бумаги наклонился с карандашом и Арсений в комнате, где проходили обычно занятия юных друзей пограничников. Он начал было вести линию, означающую железную дорогу, но передумал.
– Вот что, ребята, – он указал на маленький букет роз. – Если на сегодняшних занятиях не сможет быть Михаил Варламович, мы сходим и поздравим его дома, вручим наш скромный подарок. А? – Он провел рукой по неостриженной голове: деньги, данные ему на парикмахерскую, он вложил в общий котел на подарок своему наставнику.
– А сколько до начала? – спросил кто-то.
– Еще три минуты осталось!
– Опаздывает!
– Хорош ты! Опаздывает! Мы привыкли его за пять минут видеть. Вот тебе и кажется, будто он опаздывает.
– Двадцать шесть нарушителей задержал лично!
– Двадцать шесть?! А тридцать не хочешь? А контрабанды, писали, на два миллиона!
– Это в старых два миллиона, а в новых двести тысяч!
– Ну и что? Ценность-то вещей не изменилась!
– Я обязательно стану пограничником! Пойду в офицерское училище!
– Мне Кошбиев говорит: надо не отчаиваться в дни неудач. Надо каждый день приближаться к цели, каждый день! И не думать, что ты умнее других. Если твой враг – комар, считай его за слона.
– Но на него-то не комары налетели с ножами. Расскажи-ка, Арсений, не все это знают.
– Самбо! Говорят, кое-какие приемчики ему Михаил Варламович показал.
Дверь отворилась, ив комнату вошел Кулашвили.
– Встать! Товарищ Кулашвили, юные друзья пограничников собрались на очередное занятие, – с волнением доложил Арсений.
Михаил Варламович оглядел своих питомцев. «Надо сейчас же сказать два слова ребятам, все объяснить и уйти. Но как они смотрят на меня! С какой любовью! Неужели я сто́ю этого? Какие все разные, интересные люди! – думал он, не зная, что видит их оригинальность и неповторимость потому, что сам самобытен и ярок. – Как им скажешь, что сегодня у меня особый день и занятий не будет. – И он заколебался. – Может, не сразу сказать, а несколько минут побыть? Неловко, неловко получается… А Нина не обидится?.. Она же поймет… Ну действительно… как это так – повернуться и уйти?!» – Он вытянулся, блеснули награды. Негромко сказал:
– Здравствуйте, ребята!
– Здравия желаем!
– Садитесь!
– Погодите, – сказал Арсений с особой торжественностью. – Товарищ Кулашвили, дорогой Михаил Варламович! Разрешите нам от всей души поздравить вас с сегодняшним событием в вашей жизни. Примите от нас эти цветы… Мы очень-очень ценим и не забудем, что в такой день вы все же пришли к нам.
Михаил растроганно пожал руку Арсению.
– Разведка, вижу, работает.
– Юные друзья пограничников! – парировал Арсений.
– Ваша школа! – пошутил кто-то.
Все рассмеялись.
Михаил любил этих ребят. Рассказывая им о самых разных случаях, он заново переживал и заново оценивал свои дела и дела своих товарищей. Основное же было для него в том, чтобы привить ребятам наблюдательность, сообразительность, верность долгу. Михаил знал, как важно заронить в их душу жажду действия. И главное – никакого сюсюканья. Дети лучше нас, хотя они еще не обогащены опытом, но зато в них гораздо больше свежести восприятия. Арсений и все остальные ребята в кружке видели бескорыстную любовь к ним Михаила Варламовича. Ребята, общаясь с ним, начинали верить в свои силы. Любовь Кулашвили к ним была безусловна, отдача предельна. Вот почему каждая встреча с Михаилом Варламовичем превращалась в событие.
Однажды на таком занятии побывал и друг Михаила – Алексей Чижиков. Михаил преподал ему, Алексею, предметный урок воспитания. И Алексей тогда понял важность таких встреч для ребят. Не все станут пограничниками, может быть, никто не станет пограничником, но каждый из них запомнит эти встречи с мужеством, зоркостью и отвагой. Каждый унесет с собой на всю жизнь веру в победу добра над злом.
Все расселись.
– Михаил Варламович, некоторые ребята болели, но были на том занятии, когда нас фотографировали. Мы пробовали пересказать им все, о чем вы говорили, но как-то неубедительно получается. Можно вас попросить повторить?
– Конечно. С удовольствием. Наверное, я поторопился сам, рассказывая, иначе все было бы ясно. Я порой увлекаюсь. Ну и глотаю фразу за фразой. А потом вам, конечно, мой акцент мешает.
– Ну что вы! – дружно запротестовали все.
И перед мысленным взором ребят поплыли картины пограничных будней.
…Паровоз среди других составов стоял одиноко и безмолвно. Видимо, паровозная бригада ушла и жизнь внутри кабины замерла. Дверь прикрыта плотно, окошко занавешено.
Таясь за вагоном соседнего состава, старшина Кулашвили всматривался в паровоз, в дверь, в окошко, особенно – в окошко. Порою и неподвижность – улика. Секунды, минуты наблюдения… Зрение, воля, слух сосредоточились только на занавешенном окне. Кулашвили вплотную приник к стеклу. Он различал не только черноту закопченной занавески, но складки и морщинки на ней. Звуки большой станции, предметы и фигуры – все будто и не существовало.
Морщинки занавески сместились на несколько сантиметров и снова вернулись на место. Но Кулашвили успел заметить прищуренный глаз и испачканный маслом висок.
Кулашвили неслышно юркнул под вагон и на цыпочках, а потом почти ползком подкрался к ступеням кабины паровоза. Схватился за поручни, поставил ногу на ступеньку, подтянулся. Глаза его оказались на уровне пола и нижней кромки двери. Между ними сквозь узкую щель он увидел лоснящийся бок мотоциклетной камеры и дрожащие от напряжения широкие пальцы человека, выгребавшие из нее косынки.
Кулашвили дернул за ручку двери.
– Откройте! Откройте немедленно! – приказал он.
Не открыли. За дверью засуетились.
– За таможенником! – крикнул Кулашвили Контаутасу. Тот скрывался за соседним составом и только ждал сигнала старшины. Он кинулся за таможенником. Но и таможенник был недалеко. Заблаговременно предупредил его Михаил Варламович о своем рейде. Предупредил же потому, что знал эту паровозную бригаду, знал, что она уверена: в эти часы, в этот день Кулашвили не будет в наряде.
Не успели смолкнуть торопливые шаги Контаутаса, как Кулашвили явственно расслышал: дверь кабины с противоположной стороны приоткрылась и тихо закрылась. Держась за поручни, старшина напряг слух. Наверное, почудилось, будто что-то стукнуло о дерево… Наверное, показалось… А если нет?
Но вот и элегантный, подтянутый, знающий английский, немецкий, французский и польский язык, таможенник Дагка Зангиев. Его небольшие насмешливые глаза понимающе прищурились. Обогнув паровоз, он схватился с противоположной стороны за поручни и очень негромко произнес несколько слов. Впечатление было такое, словно каждое его слово подталкивало злополучную дверь паровозной кабины. И дверь, разумеется, открылась.
Открылась дверь и перед Кулашвили. Они вошли втроем. Кулашвили метнул взгляд на машиниста, на его помощника. Оба они были невозмутимы. Белобрысый машинист сонно дотронулся до своего испачканного маслом виска, точно вспоминая нечто чрезвычайно важное и неотложное.
– Почему не пускали? – входя в кабину и стараясь быстрее уяснить обстановку, спросил Кулашвили.
Помощник машиниста молча вытирал паклей руки, а его мутно-серые, точно каменные, глаза повернулись к сверкавшим нестерпимым блеском глазам Кулашвили. Не дольше мгновения длилась молчаливая дуэль. Помощник машиниста почти физически ощущал, как эти прозорливые глаза просверливают его насквозь, как всевидящи они. И он, как от наваждения, резко откинул голову.
В паровозной кабине лишнего, казалось, ничего не было. Кулашвили шагнул к другой двери и распахнул ее. Это была та дверь, которая за несколько секунд до появления таможенника распахнулась и захлопнулась.
Сейчас, стоя в проеме этой двери, Кулашвили одним взглядом охватил и землю около паровоза, и полувагон, стоящий сбоку, и прямо напротив пустую открытую платформу. Он соскользнул со ступенек лестницы, подскочил к пустой платформе, подтянулся на руках и вернулся в кабину паровоза с двумя свертками.
– Где другие?
– Это не наши! – Помощник машиниста не поднимал глаз, а машинист, почесывая испачканный висок, прищурившись, смотрел в окошко, всем своим видом выражая благородное негодование и не замечая только, что окошко по-прежнему занавешено, что старшина Кулашвили успел засечь и его взгляд, и взгляд помощника, и стоящий поодаль ящик, наполненный маслом.
– А может, они здесь… – не столько спросил, сколько ответил на свой же вопрос Кулашвили. В инструментальном ящике – масло, а исчезнувшая мотоциклетная камера лоснилась. И не нырнула ли она опять в ящик, туго надутая контрабандой? Ведь он видел эту лоснящуюся камеру, когда смотрел в щель.
Кулашвили достал консервную банку. Контаутас стал вычерпывать масло. Он поглядывал то на своего учителя, то на застывших контрабандистов, то на таможенника. Зангиев, хотя и был наслышан об искусстве старшины, все же с некоторым сомнением посматривал на злополучный ящик, с досадой думая, что скоро паровоз нужно подавать под состав, а тут зря теряется драгоценное время. А каково будет, когда ничего не найдут?
Вот показались под слоем масла инструменты.
Таможенник покачал головой.
Помощник машиниста глянул на машиниста. Тот всем своим видом выражал самое благородное негодование.
Выложили наружу все инструменты, и старшина под тонким слоем оставшегося масла живо нащупал паклю.
Вытащили и паклю.
Помощник машиниста машинально поскреб в затылке и тщательно вытер совершенно сухие руки о паклю.
Кулашвили под вытащенной паклей нащупал две крышки. Начал их откручивать, мельком взглядывая на помощника машиниста. Тот едва заметно делал головой такое движение, словно отворачивали ему голову, а он сопротивлялся.
Когда из тайника, вмонтированного в инструментальный ящик, извлекли мотоциклетную камеру, еще хранившую оттиск пальцев, помощник машиниста опять вытер совершенно сухие руки о паклю, а машинист, изнемогая от негодования, смиренно потупился. Двадцать восемь шерстяных платков и валюта – все это извлекли из камеры.
Михаил Варламович на минуту замолк, а ребятам казалось, что они все еще на вокзале. Стены класса перестали существовать, прямоугольник черной доски казался силуэтом паровоза! Михаил Варламович был так скрупулезно подробен не зря – ребятами двигал не досужий интерес. Они поистине преображались, ловя каждое слово и каждый жест Кулашвили, всерьез приобщались к поиску, к борьбе. Ребята в эти часы общения со старшиной чувствовали себя солдатами. Взрослыми людьми.
Арсению же не терпелось услышать рассказ, в котором хоть какое-нибудь участие принимал бы и Кошбиев.
Михаил Варламович оглядел своих слушателей и начал рассказ о другом эпизоде, совсем не предполагая, как он попал в точку. Стоило только Михаилу Варламовичу сказать: «А вот как-то с Кошбиевым», как Арсений чуть не подпрыгнул от радости и, не мигая, уставился на старшину. По мнению Арсения, Кулашвили мог читать мысли на расстоянии, даже не глядя на человека. И вот перед юными друзьями пограничников начала вырисовываться еще одна картина: вместе с Кошбиевым Кулашвили входит в паровоз, прибывший из-за границы. Документы проверены. Они в порядке. Но предъявлены несколько поспешно, чуть суетливо: мол, нате, смотрите и поскорее оставьте нас в покое.
Кошбиев попросил ключ, чтобы посмотреть трубу, и вышел.
Приходится смотреть и в трубу – и в нее могут спрятать контрабанду. Кулашвили стал на колени, открыл люк. Порядок: контрабанды нет. Закрывая люк, из-за плеча как бы мельком скользнул глазами по лицу машиниста – удлиненное, непроницаемое, глаза скрыты густыми, мохнатыми бровями. Но бровь дрогнула. Кулашвили встает, берется за лопату и отмечает, что левая бровь дрогнула снова. Взгляд машиниста – на руках старшины. Руки отпускают лопату – бровь занимает прежнее положение. Руки снова резко взялись за лопату – брови дрогнули. Но могло показаться…
Кулашвили начинает выгребать уголь из тендера.
Машинист с невозмутимым видом выходит из кабины и спрыгивает на землю. Неужели показалось? А руки действуют, точно они знают лучше самого старшины, что надо делать. Может, бросить? Ведь сколько угля перекидать надо! Время, время, как всегда, поджимает. Руки работают все быстрей. Слышны шаги машиниста. Ходит, ходит вдоль паровоза, нервно ходит…
Лопата выгребает и выгребает уголь.
Машинист незаметно для себя, но заметно для Кулашвили ускоряет шаги, точно хочет сорваться и побежать, убежать от страха, но боится показать свой испуг.
Вот угловая часть тендера. Нет! Неужели нет? Ничего? И тут лопата задевает какой-то предмет: сверток! Второй!
– Чья контрабанда?
– Не знаю, – говорит машинист, заслоняя глаза густыми мохнатыми бровями. – Тут три бригады ездят.
Не раз вылавливал старшина и доллары и золотые монеты царской чеканки. Однако «рыболов» скоро так разошелся, что контрабандистам пришлось изменить способ провоза. Они пытались перещеголять Кулашвили в хитрости.
Не многие из них знали, что этот порывистый старшина умеет быть неторопливым. Кулашвили изучает не только паровозы и вагоны, но и людей, которые их обслуживают. Дни и ночи, недели, месяцы, годы неутомимого аналитического труда. И вот этот старшина знает по именам и фамилиям все бригады, знает, кто на что способен, кто чем дышит. И если кто-нибудь занимается нечистыми делами, то старшина знает примерно и каков финансовый размах такого субъекта. Но мало знать, надо еще поймать за руку.
Наблюдательность, виртуозное умение в одно мгновение увидеть то, что другой может не разглядеть совсем. Знать надо не только имена, фамилии, характеры, но и привычки тех, кто может стать твоим «клиентом».








