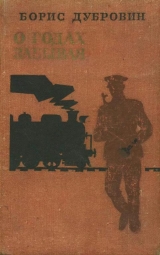
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Наташу оторвала от воспоминаний Юлька. Она показала ей свой рисунок и, снизу вверх заглядывая в глаза, ожидала одобрения. На белом листе бумаги дерзко и беспомощно пестрели цветные штрихи, и все же в общем контуре угадывался облик Атахана.
– Мама, я буду его рисовать, чтобы у меня был Атахан, у Гюльчары, у дяди Феди, у тебя…
– Рисуй, рисуй! – Наташа быстро заточила зеленый карандаш.
– Пограничный цвет! – эрудированно пояснила дочь. Это пограничник, оставляя письмо и овощи Атахану, увидев ее зеленые рисунки, обронил: «Пограничный цвет!»
И опять Юлька взяла карандаш таким же движением и так же чуть набок склонила голову, как Георгий… И опять не стало границ между Наташей и Георгием. «Может, исправится, одумается. Он же отец моего ребенка… Всякое бывает, может, кем-то увлекся…» Но брат ее был прав в оценке Георгия.
Игорь, став офицером, уехал в далекий гарнизон, но продолжал следить за судьбой сестры и знал о происходящем. Увлеченная речами о пустыне, так артистически произносимыми Георгием, Наташа ринулась в Каракумы, едва они расписались. Игорь видел, как нелегко удалось скрыть Огаркову свое неудовольствие, раздражение, как он попробовал прибегнуть к помощи Игоря, сказав: «Убедите ее, ей в институт надо, она решила стать медиком. Я-то диплом инженера имею. Поработаю немного в Туркмении и вернусь к ней в Москву. И потом в Москве комфорт, а Наташа избалована. И что она там сумеет сделать?»
– Вы ее убедили, вы и разубедите! – ответил Игорь, оставаясь с Огарковым на «вы».
Но и у Наташи прорезался характер. И они оказались в Туркмении.
Прошли годы… Она была обманута. Но сейчас Наташа не знала, что будет с ней, если появится Георгий!
Юлька продолжала дорисовывать зеленым карандашом портрет Атахана. Понимала ли она свои рисунки? Нет! Не понимала и Атахана. И все же что-то водило ее наивной рукой, что-то звало ее к хмурому человеку с изуродованным лицом, как будто девочка не могла выбрать из десятков больных другого. Многие одаряли ее сладостями, нежными словами, похвалами, потакали ей, прощали шалости. А все-таки она шла в изолятор, а все-таки она, шестилетняя кроха, временами вела себя мудрее взрослой, поражая Атахана тактом, почти женской жалостью. И безмолвный союз двух душ – детской и взрослой – укреплялся. И Наташа, возвращаясь из института с вечерних лекций, начинала с некоторым удивлением отмечать перемены в Юлькином характере. Ее дочь! Она всегда под руками, и все же руки до нее не доходят. Она с ленцой. Но сегодня третий раз влажной тряпкой протерла пол в изоляторе. Ну что понимает это создание? Ничего! Почему же тогда, показывая матери портрет Атахана, так испытующе смотрит ей в лицо? Словно взрослая – эта соплячка Юлька, а ребенок – она, Наташа… Создается впечатление, будто по воле Юльки Наташа лишний раз заходит в изолятор. Смешно! А с каким грустным упрямством Юлька молча пытается ей что-то внушить своими рисунками! Вот был бы сейчас рядом Игорь… Как бы он объяснил все это?..
И ей так захотелось побыть около Игоря, посмотреть на него, поговорить с ним. Игорь… Игорь…
Судьба Игоря складывалась не так-то просто.
Игорь до педантичности был помешан на аккуратности, точности и чистоте.
Вот и сегодня, заметив на правом крыле своего истребителя пятнышко, Игорь поморщился, точно у самого на плече застряла крупинка грязи. И поэтому при посадке Игорь будто не колесами, а своими ногами ударился о бетонку. Заруливая на стоянку, правым колесом он прошел по выбоине с таким ощущением, словно на глазах у механика Денисюка споткнулся на ровном месте.
Игорь стремился «всегда поступать так, как надо. Не опаздывал ни на минуту. Говорил о необходимости быть непреклонным при исполнении долга и делать все точно и вовремя. Но дома, с женой, менялся. И удивительно: без всякого насилия над собой и своими принципами. Уступал прихотям жены, ее капризам, ее вкусам, понимая неизбежность этого…
Жена засыпала поздно. Он не слышал, как щелкал выключатель настольной лампы, уже спал. Ровно в шесть утра без будильника открывал глаза и тихо выскальзывал из постели, неслышно прикрыв плечо жены одеялом. На цыпочках пробирался в соседнюю комнату, делал зарядку и еще в трусах после душа готовил завтрак. Жена улыбалась спросонья: улавливала запах кофе. Чашку Игорь ставил на столик, около лампы и книги с закладкой. Жена просыпалась с улыбкой. День начинался улыбкой жены! Вряд ли Игорь и себе бы признался, что начал ухаживать за Ириной потому, что боялся неудач с девушками, более привлекавшими красотой. Теперь, когда они казались неразделимы, Игорь вовсе не думал о прошлом. Ее лицо, особенно карие блестящие глаза, всегда неиссякаемой новизны. И то, что не было ребенка, о котором мечтали, еще больше сближало их ожиданием…
Игорь сам не заметил, как стал прислушиваться к разговорам о собаках. Как-то подвернулась книга по собаководству… Но заводить собаку неудобно: Ирина боязлива. Да и хлопотно. И все же, когда Муромцев сообщил, что за сорок километров в поселке можно взять трехмесячного щенка доберман-пинчера, Игорь сказал об этом жене, как о чем-то решенном, и тут же, хотя вечером собирались на концерт, сел в газик и уехал за «неожиданностью».
Оказалось, не Игорь будет выбирать, а мать щенков определит, достоин ли он взять ее сына. Сперва слова хозяйки Игорь принял за шутку, но лицо его стало серьезным, когда мощная сука испытующе посмотрела на него и послышалось ее рычание. «Неужели не понравился?» – со страхом подумал он. Всякое случалось во время полетов, и не раз выручала Игоря молниеносная реакция. Но перед глазами доберман-пинчера, при звуках рычания, рвущегося из оскаленной пасти, он растерялся. И собака, уловив его трепет, удовлетворенная, подошла вплотную и молча обнюхала. И он вздохнул. Вот как беспокоится! Вот она материнская забота! А ведь и правда: родное от родного отрывается.
Собака стихла, завиляла обрубком хвоста и отошла в сторонку.
– Разрешила, – с улыбкой, облегченно вздохнула владелица. И тут под высоким тополем – турангой Игорь увидел два комочка – двух щенков. Кожистый жесткий лист тополя спорхнул с ветки на пуговку носа черного щенка. Тот открыл глаза, увидел неподалеку присевшего на корточки Игоря. Он манил щенка к себе. Малыш ткнулся носом в бок своего коричневого братишки, поднялся, подошел к Игорю и, завиляв хвостом, вернулся к матери. Коричневый подбежал бодрой рысцой, обнюхал и громко залаял.
Игорь с притворной строгостью топнул ногой. Щенок перекувырнулся, отряхнулся и тоже побежал к матери.
– Как его зовут? – Игорю приглянулся коричневый.
– Аякс.
– Я беру Аякса!
– Но он – в деда. Злобный, нетерпеливый. Расталкивает всех, когда тянется к еде. А свою мать кусает, если она мгновенно не дает молока.
– Я беру Аякса! – Уж если он брал, то – трудного «ребенка». Игорь интуитивно всегда искал труднейших путей. Так было в технике пилотирования, покрышкинской стратегии боя, покрышкинской манере полета на повышенных перегрузках. Игорь всегда что-то искал, открывал и, случалось, находил.
Завернутый в тряпку Аякс лежал на коленях у Игоря и дремал.
Из машины Игорь посматривал на проносящиеся силуэты саксаула – дерева пустыни. Он совсем не имеет листовых пластинок (сберегает влагу). Игоря снова привлек саксаул: он чем-то напоминал иву. Давно бы следовало выпустить марки с изображением саксаула, карагача, арчи, думал он, представляя заранее, в каком из своих альбомов он разместил бы марки с ликами пустыни.
Через дорогу широко переваливало курчавое пыльное облако овечьей отары. Машина, шедшая впереди, замедлила ход, и Игорь увидел в ней миловидную женщину, с обожанием смотревшую на Огаркова. Тот был в чесучовом костюме. Плечистый, уверенный в себе, крупные черты профиля рисовались отчетливо.
Вот он – Георгий Огарков…
Смутная тревога охватила Игоря. Почему он бросил Наташу и не помогает ребенку? И известна ли истинная причина их разрыва?
Давно уже освободилась дорога, давно отвернула в сторону машина с Огарковым, а Игорь все никак не мог отделаться от гнева. «Обманув Наташу, обманул и меня. Но почему обманул? А если разлюбил? Или не любил? Говорил ли Огарков со мной откровенно? И есть ли кто-нибудь, с кем он откровенен? А ты, ты сам со многими откровенен? А разве жизнь идет просто? Всё в становлении: и твои чувства, и отношения, и – его, и – Наташи, и – всех. Все меняются… Меняются? Да! Но не изменяют чему-то главному в себе!»
Вот и гарнизон. Вот и дом.
Игорь вышел из газика, надел Аяксу приготовленный заранее ошейник, взял его на поводок и потянул к подъезду.
Аякс все обнюхивал землю, упирался, не желая подчиниться поводку. Игорь подхватил его на руки и, шагая через две ступеньки, поднялся на третий этаж. Открыл дверь, переступил порог, опустил на пол Аякса и освободил его от поводка. Щенок сунулся к двери, но она закрылась перед ним. Зато дверь в комнату из передней Игорь уже отворил, вошел туда:
– Ну иди, иди сюда, глупенький!
Вот одна лапа боязливо опустилась на пол, точно на лед. Аякс вошел, посмотрел вокруг, обнюхал тумбочку с разноцветными альбомами для марок и задрал правую заднюю ногу… И Игорь живо принес из кухни тряпку, подтер лужу.
А щенок облюбовал себе местечко в правом углу, около окна. Игорь расстелил тряпичную подстилку, припасенную Ириной. Щенок улегся, но, вероятно вспоминая мать и брата, заскулил так жалобно, что вошедшая после концерта Ирина кинулась к нему, подняла, прижала к себе, забыв о праздничном платье, поцеловала, зашептала что-то и долго не отпускала.
Ночью, пододвинув подстилку с Аяксом к кровати, Игорь думал об этом порыве Ирины. А сам нет-нет да и поглаживал щенка около носа. Тот скулил, жаловался кому-то, словно звал мать. Рука Игоря сама собой находила теплую мордаху, пальцы отыскивали за ушами Аякса заветные уголки. Прикосновение к ним умиротворяло щенка, и он, вздохнув, затихал. А потом все повторялось снова.
Просыпаясь при «плаче» Аякса, Игорь видел: Ирина не спит, но тут же закрывает глаза, как только замечает, что Игорь проснулся. И в бледном, полупризрачном лунном свете, профильтрованном узорной занавеской, Игорь впервые увидел своеобразие Ирины. «Точно олененок, – подумал он. – Да, да, олененок. Вот он – образ! В характере ее и доверчивость, и пугливость, и беззащитность… Какая красивая!» Игорь внутренне благодарил жену за ее невысказанную встревоженность: ждала, когда он заснет, и тогда она поднимется, приласкает, успокоит щенка.
Неожиданно вспоминались дорога, отара овец, машина, Огарков… «Да, я так думаю о нем, будто мы с ним вступили в поединок… А может, не совсем так: тут сложнее. Если остаются без возмездия подлость и обман, – значит, нет равновесия между добром и злом. А я уверен – есть! Ни одна слеза не остается неотмщенной. Да так ли плох Огарков? Прожигатель жизни? Наверное, способен на многое, если Наташа его полюбила. Или увлекалась им? Нет, полюбила… И любит, видимо… Не разложишь по полочкам: вот хороший, вот плохой человек! Что, я сам-то святой разве? Случалось, обижал, да и обижаю, самую близкую мне душу – Ирину. И только ли ее? А порой мои письма Наташе напоминают командирские окрики. Потом спохватываюсь, когда письмо отослано и в ответ следует красноречивое Наташино молчание. До сих пор я не смог изменить положение Наташи… А мои подчиненные?.. Нет, здесь порядок… А Ирина?»
Ранним утром Игорь и Ирина были на ногах. Ирина приготовила завтрак, сварила кофе, поставила блюдечко с молоком Аяксу. Потом положила кусок вареного мяса.
Игорь чувствовал себя свежо, будто отлично выспался. Он вывел Аякса гулять. Неуклюжий, большелапый… Увидел ребят, гоняющих тряпичный мяч, и резво помчался за ними.
Вспоминались рассказы отца о войне, когда собаки подносили боезапасы под огнем, вывозили раненых, подрывали танки, бросаясь со взрывчаткой под бронированное днище… И вдруг Игорь мысленно увидел смешного лопоухого, увязавшегося за тряпичным мячом щенка уже большим…
– Игорь, тебя к телефону, иди, я погуляю с Аяксом.
Игорь, уходя, слышал, как жена позвала:
– Аякс, Яшка-чебурашка!..
«Ну вот, и стало нас трое», – подумал Игорь. Оглянулся и увидел материнскую улыбку на лице Ирины. Та ласкала своего Яшку-чебурашку…
– Слушаю, старший лейтенант Иванов у телефона!
– Игорь! С воскресным днем! Это Муромцев!
– Женька! – обрадовался Игорь. – Ну спасибо, друг. Спасибо!
– Как пес?
– С характером! Что надо!
– Ты какого выбрал? Коричневого?
– Откуда ты знаешь?
– Предполагаю.
– Да, Аякса! Женя, у меня марки отличные появились, не заскочишь? Сегодня же воскресенье! Как, а? И альбом захвати синий. Пусть Ирина полюбуется.
– Марки? Это прекрасно! Но сегодня не выйдет. С хлопцами навестим бывшего пограничника: он в больнице. Ну, бывай! Ирине кланяйся!
– Еще раз спасибо за Аякса! Я – твой должник! Привет жене, детишкам и твоим рыбешкам! Ну, плыви!
– Попробую! – Старший лейтенант Муромцев положил трубку с улыбкой. Хороший парень Игорь! Познакомились в Москве, в филателистическом магазине. Оба были в гражданском. Потолковали о марках. И расстались. А потом встретились в самолете, летевшем в Ашхабад из Москвы. С кем-то поменялись местами, чтобы сидеть рядом. Оказалось, Игорь не только собирает фауну и флору, но он и «аэрофилателист»; его страсть – марки на авиационные темы. Он тогда даже похвастался, что у него есть серия из десяти крупноформатных марок, посвященная спасению экипажа и пассажиров «Челюскина», и что на десятикопеечной марке этой серии сделана надпечатка, связанная с перелетом С. Леваневского.
Понравились Евгению целеустремленность Игоря, его веселый характер, страстная преданность авиации. А о своем кумире, Покрышкине, он говорил с таким знанием дела, словно был его биографом. Привлекала начитанность Игоря, знание английского языка. Был он остер на язык. И в искренности его Евгений не усомнился ни разу. Так, день ото дня, от встречи к встрече, они становились все необходимее друг другу.
И сейчас, положив трубку, Муромцев как бы ощутил рукопожатие друга. Посмотрел на часы. Взглянул в окно канцелярии. Ага, Говорков!.. Обычно голова высоко поднята, чуть не запрокинута. «Мою голову может уравновесить только маршальская звезда», – шутил он. Сегодня голова мрачно опущена, понурился. И было отчего. На последнем собрании он – комсорг – горячо призывал выполнять все правила и инструкции по охране границы, но той же ночью неожиданно для Муромцева нарушил инструкцию.
Муромцев вышел проверять наряды и послал впереди себя Гуценка. Говорков, увидев Гуценка, невесело приветствовал его:
– Салют, земляк! Такое на душе!
Предостерегающий жест Гуценка, означающий: «Потише… ты!», не очень «дошел» до Говоркова.
– Кошки на душе скребут. Да не дрейфь! Офицерской проверки не будет сегодня! – Говорков закурил и протянул ему пачку папирос: – Закури! Ты знаешь, какое письмо я только что получил?! Э-эх, – он тяжко вздохнул, – ну чего ты, Максим! Закуривай! Вот спички!
Муромцев все слышал и дал «прикурить» Говоркову. Тогда он ничего не сказал Максиму Гуценку. Но на обратном пути, хотя Гуценка уважал, «попотчевал» и его. Максим только откашливался.
– Ну и потом, – говорил Муромцев, – почему вы не пресекли его неверных действий сразу?
– Неловко: земляк!..
– Когда на гитаре его учите играть и кроете – ничего. Тут он – не земляк!..
Муромцев был огорчен неспроста: застава на хорошем счету. Случай этот редчайший! И неожиданный!
И сейчас, увидев в окно Говоркова, его удрученное лицо, он, как бы со стороны оценивая и себя в событиях минувшей ночи, услышал свой строгий голос. «Не переборщил ли? Но проверку нарядов придется участить, а Говоркова, видно, продраили с песочком и без меня. Его к Атахану Байрамову в больницу не возьму. Но что это меня все время беспокоит?.. Я – замполит. Все ли я знаю о каждом из своих подчиненных? Просчет Говоркова – и мой просчет! И, может быть, у меня больше власти, чем авторитета?»
Муромцев вышел из-за стола, когда в дверь постучали, и увидел тоскливые глаза Говоркова:
– Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант?
И тут замполит придумал ход.
– Случилось что-нибудь, а, Саша?
– Виноват я, очень виноват. Хотел после собрания поговорить с вами, а тут так случилось… Я же и курево никогда в наряд не беру. А тут…
– Да что такое? – Муромцев подошел и положил руку на плечо Говоркову. Тот еще ниже наклонил голову и протянул конверт.
– От жены? – узнал почерк замполит. Жена Говоркова ждала ребенка. – Что-нибудь со здоровьем у Аннушки?
Говорков помотал головой и весь покрылся краской, указывая на строчки уже вынутого из конверта письма!
«Отец твой опять пьет горькую, опять ссорится с матерью, ударил ее при мне, а меня грозит из дому выгнать…»
– Что делать, Евгений Владимирович? А? Готовлюсь в наряд вчера, а ноги не идут: все о доме, о доме думаю, Я и до проверки курил, нарушил… Что делать-то?
– А если я обращусь в военкомат?
– Эх, разве можно? Отец – фронтовик, дважды ранен, орден. А как же его так перед всеми?
– Знаешь, Александр! Я добьюсь, чтобы отпустили тебя на побывку…
– Товарищ… товарищ… товарищ старший лейтенант, – благодарно прошептал Александр, – товарищ…
Сейчас Говорков забыл о своей славе следопыта, о трех задержанных им нарушителях, о двенадцати благодарностях за службу и о почетной грамоте, подписанной начальником отряда. Сейчас он не помнил и о той кропотливой комсомольской работе с молодыми солдатами, о тематических вечерах, диспутах и викторинах, проведенных благодаря ему. Сейчас он осознавал лишь одно: пограничник Говорков нарушил устав, а его хотят отпустить на побывку. Но тем и отличался Муромцев, что знал не только, как одет, обут и накормлен солдат. Он все время изучал характер, склонности, семейные и товарищеские отношения каждого из подчиненных.
– Собирайся в больницу, – неожиданно для Говоркова и для самого себя сказал он.
– Как? Простили? Знаю, что – нет, знаю, что сукин я сын! И хоть единственный раз за полтора года случилось это, а простить нельзя! Но вот, честно говорю, все отдам, чтобы исправить!
– Гуценку напомни, чтобы гитару не забыл.
– Есть, товарищ старший лейтенант! – Просветленно, любяще блеснули глаза у Говоркова. И четко зацокали, удаляясь, его подкованные сапоги.
Твердые чеканные шаги солдатских сапог оторвали Атахана от печальных раздумий. В маленькой палате-изоляторе он в этот воскресный день ощутил себя оторванным от всех. Никто не заходил к нему. Одиночество было томительным. Без многого можно обойтись. Но как обойтись без людей?
Шаги звучали все громче, но, когда дверь в палату Атахана открылась, перед ним возникла Наташа. Чувствовалось, что она чем-то довольна и вовсе не разделяет настроения Атахана.
– К вам гости. – И обернулась: – Юлька, и ты сюда же?
– Я табуреточку. – Юлька деловито втащила табуретку вслед за Гюльчарой, вошедшей с двумя стульями.
Гюльчара взяла Юльку за руку и увела. В комнату вошел молодой плечистый старший лейтенант в форме пограничника. И то ли своими плечами раздвинул палату, то ли улыбкой, но Атахан даже на локте попробовал приподняться, вглядываясь в открытое лицо неожиданного гостя. Тот, опустив левую руку с каким-то прямоугольным предметом, обернутым газетой, правую поднес к околышку фуражки.
– Приехали навестить!.. Старший лейтенант Муромцев Евгений Владимирович. – Он протянул руку Атахану, а за спиной его выросли еще трое.
– Старший сержант Максим Гуценок! – представился один из них, держа в левой руке гитару в брезентовом чехле.
– Сержант Говорков! Александр…
– Рядовой Лев Беляков!
Больше ничего не было сказано, а больной уже стал дышать свободней. Солнцем, простором и бодростью веяло от новых знакомых. Атахан подсознательно, боясь надеяться, ждал их.
– Граница, – смущенно промолвил Атахан, словно извиняясь за свое недомогание.
– Ну-ка, Беляков, где наши скромные подарки?
И на тумбочке появились цветы и фрукты.
– Спасибо!..
– Вы не попробовали бы приподняться и посмотреть в окно, – предложил Муромцев, когда Атахан коротко рассказал о себе.
Атахан приподнялся, посмотрел в окно и замер: неподалеку пограничник держал на коротком поводке восточно-европейскую овчарку. Она сидела, высунув малиновый язык. Атахан жадно вглядывался в клинообразную голову с темными, косо поставленными глазами, стоячими остроконечными ушами, в мускулистую шею. Кажется, уже давно не видел он такой глубокой груди, широкой спины с покатостью крупа к хвосту, такого подтянутого живота и саблевидного хвоста. А эта короткая черная, с подпалинами, шерсть! Точно выглянул во двор родной заставы, и снова его обдало ознобом границы и теплом дружбы!
– Ну, угодили… – только и прошептал Атахан.
Он подался поближе к окну. Наплывало пограничное прошлое… Стало так хорошо, будто не в больнице он, а с Муромцевым, Гуценком, Говорковым и Беляковым служит и дружит давным-давно на одной заставе… Но ведь прожитые дни и годы не канули в бездонную пропасть. Иначе не оказались бы эти гости у его постели!
Атахан повернул голову к Муромцеву, а тот раскрыл свой сверток: альбом с марками… Чужды и далеки были Атахану заморские растения, невиданные птицы, обезьяны, слоны и крокодилы. Но комната стала еще шире, а Муромцев и его товарищи – еще ближе.
Некоторые страницы альбома Муромцев переворачивал быстрее, и Атахан заметил, с какой гордостью тот вглядывается в изображения. Порой старший лейтенант указывал на штемпель.
– А почему вы увлеклись марками? – не отрывая глаз от яркой панорамы животных, спросил Атахан.
– Да потому… что пограничники связаны с природой. Захотелось еще лучше ее узнать. И не жалею! Я гашеные марки, только гашеные собираю. Они в таких краях побывали, столько глаз на них смотрело…
– Какой большой альбом!
– У старшего лейтенанта еще есть. У нас тоже завелись любители, – доброжелательно и не без удовлетворения заметил Беляков. – Вот я, например. Правда, я собираю спортивные марки.
– Еще бы, – вставил Гуценок, смешливо блестя глазами, – чемпиону округа по самбо – да заниматься чем-нибудь иным!..
Все улыбнулись. Атахан и раньше обратил внимание на широкую шею Белякова, на выпуклые, натягивающие гимнастерку мускулы.
– Марки марками, а когда Беляков в Змеином ущелье один троих повстречал, он марку поддержал, – заметил Говорков.
– Даже чересчур, – ответил Гуценок. – Так им руки скрутил – не дай бог! Хорошо, реакция быстрая у нашего самбиста, иначе бы, – и Гуценок ногтем большого пальца чиркнул себя по кадыку, – бритвой бы полоснули – и прощай спортивные марки!
Атахан понимающе кивнул. Потом спросил:
– А что, сейчас в Змеином ущелье кобры есть?
– Они там прописаны давно, да и жилплощадь подходящая, – откликнулся Гуценок. – А что? – и запнулся, покраснел.
– Да, угадал, браток, – медленно и твердо сказал Атахан. – Прикидываю. Как вылечусь, навещу вас и, если разрешит старший лейтенант, отловлю нескольких…
– Неужели не бросите это дело? – поежился Беляков.
– Нет!.. А хороша коллекция, – перевел больной глаза на перевернутую страницу альбома.
– Что у меня! – завистливо воскликнул Муромцев и провел рукой по коротко остриженным волосам. – Вот у моего приятеля, у летчика-истребителя Иванова (при этой фамилии Атахан подался вперед и посмотрел на дверь, подумав о Наташе), у него действительно… коллекция! Он и фауну, и флору, и еще авиационные марки собирает. Редкие экземпляры! – замполит восхищенно махнул рукой: – Это да! – Он закрыл альбом.
А Максим Гуценок уже вынул из чехла гитару.
– Жива старушка? – растрогался Атахан, узнав старую заставскую гитару. – А я так и не научился. Медведь на ухо наступил.
– Зато Говорков на ней дает! Максим вышколил, – подмигнул Беляков. – Сыграй, Максим! Все улыбнулись.
– Что-нибудь минимально грустное и максимально пограничное! – уточнил Беляков.
Все притихли. Атахан вздохнул. Музыка имела какую-то власть над ним. Муромцев при звуках песни, как ему казалось, чувствовал какое-то неясное волнение. Песня открывала ему новое измерение собственной души и мира. Казалось, невозможно объяснить, чем песня волнует души человеческие…
Далеко от дома родного
Во мгле пограничных ночей
Мне видится снова и снова
Тропа вдоль деревни моей.
На сопки суровой границы
Я в сердце сыновьем унес
И желтое пламя пшеницы,
И белое пламя берез.
Максим пел негромко. Две последние строки подхватили Беляков и Говорков… Муромцев задумался.
Когда мы уходим в наряды,
Обвитые вьюгой ночной,
Деревня мне кажется рядом,
Любимая рядом со мной.
И здесь, на студеной границе,
Меня согревают в мороз
И желтое пламя пшеницы,
И белое пламя берез.
Все очень тихо повторили последние слова. Атахан вспомнил свою службу, а гости – сегодняшний день границы: когда так нервно бьется пульс, когда слышишь шорох снежинок, шелест листа, задевающего за лист, когда, чудится, стук собственного сердца может тебя выдать. А ты должен видеть все, оставаясь невидимым. И за плечами такая страна, и словно только твоей грудью прикрыта граница и только от тебя одного зависит спокойствие державы.
В наряде над снежной лавиной,
Где вьюга поземку метет.
Мне слышится голос любимой,
Которая верит и ждет.
И словно над самой границей
Клубится, взлетает до звезд
И желтое пламя пшеницы,
И белое пламя берез.
Еще посидели и потолковали так, будто Атахан и не болен, будто он и не покидал заставу. Теплом наполнялось сердце. На прощание долго смотрел, как усаживались в машину, как вводили в газик овчарку. Потом, словно зная, что Атахан наблюдает за ними, Муромцев вышел из машины и помахал рукой. Атахан кивнул. А с порога больницы Юлька махала своим рисунком, как белым платком.








