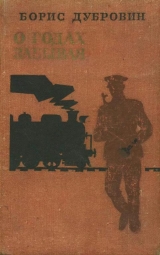
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
– Я ж говорил, что надо! Мишка-то небось без пушки!
– Да пока ты выскочил бы, тут Чиж бы тебя и склевал.
– Склевал бы? Он не торопится. Вон, видишь, у фонаря. Видишь, опять сапог поправляет. Жмет небось!
– Небось, авось! Он тебя еще прижмет, попомни мое слово.
– Я ж говорю: он идет не шатко не валко. Мы бы тут мигом спроворили.
– Салага ты… и есть салага! Он же бывший пограничник. Знаешь, как Чиж стреляет? Не знаешь! Ну и не дай бог ни тебе, ни мне узнать…
– Пусть и салага я, а знаю: прозевали. Мишка завтра накроет товар, накроются и наши тугрики. И не одна косая.
– Что ж ты, сука, поешь! То тебя Миша из реки спас и, может, не стоит его пришивать, то жалуешься, что прошлепали его. Да положи, парень, кирпич, теперь-то уж поздно.
– Все равно он от нас не уйдет! Я вспомнил, что он меня из реки вытащил, и заколебался, а сейчас как подумал, что погорят наши денежки, так аж сердце заболело. В следующий раз не упущу!
А Чижиков уже был в двух шагах от пьяного. Кулашвили не понимал, зачем в такую пору появился на Пушкинской Алексей.
– Где он живет, Миша?
Михаил пожал плечами.
– Ну вот что, Михаил, я беру его на себя, а тебя жена ждет. Смена твоя давно кончилась!
А пьяный лепетал:
– Нет, Липа, Липочка, Олимпиада Федоровна, не кончился матерьяльчик. Сорок отрезов вам хватит надолго! Чек прошу! Заходите! Пожалуйста! Как государственный служащий… гарантирую абсолютное молчание! Благодарю! Эта ручка мне пригодится. В следующий раз выпишу вам товарный чек, нет, не, могу, только карандашом, но сколько нужно! – Пьяный достал из внутреннего кармана великолепную паркеровскую ручку, поцеловал ее и сунул на прежнее место.
– Миша, я провожу его в отделение, пусть проспится, а тебя прошу помнить, о чем я предупреждал.
VIII
На другой день Михаил Кулашвили с Контаутасом осматривали поезд, отправлявшийся за границу. В четвертом вагоне, как всегда, с видом хозяйки стояла загорелая проводница Липа.
– С возвращением из Крыма! – приветствовал ее Михаил.
– Спасибо. А вы, может, знаете, в каком месте отдыхала?
– Важно, что хорошо отдохнула!
– Кормежка не понравилась, да и на пляже негде лечь!
– Всегда недовольна! – заметил Михаил, идя по вагону и осматривая стены, полки, диваны.
Она шла рядом, насмешливая, вызывающая, благоухала неведомыми духами, иронически поглядывала на Контаутаса, на Михаила, на пассажиров. Бесцеремонно отодвигала двери. Она была не хозяйка, а владычица!
Дочь ученого, она на шее отца дожила до двадцати восьми лет, через пень-колоду кончила библиотечный институт, но потом спуталась с Беловым, и он перетащил ее в пограничный город. Здесь ей показалось очень простым делом зарабатывать деньги, да и влекла заграница. Она стала проводницей. Липа смотрела на всех свысока, особенно на пассажиров без высшего образования: ведь она-то с высшим. И у нее отец – ученый. Правда, в бытность свою в семье, она помыкала и отцом. Единственная дочь, набалованная родителями, она себя считала центром вселенной, все должно было вращаться вокруг нее. Еще девчонкой она привыкла щеголять в таких туфлях, какие себе не всегда решалась позволить даже ее мать. О платьях и говорить нечего. Лучший портной шил ей дорогие наряды.
Лука Белов покорил ее лисьими глазами, лисьей улыбкой, волчьей сноровкой и уверенностью в своем исключительном праве на счастье. «Ради тебя, не задумываясь, пойду на преступление!» – говорил он. Она смотрела на его желтые лисьи глаза и не сомневалась: прикажи она ему, и он кому хочешь перегрызет глотку. Липа была уверена в этом… Она всюду чувствовала себя хозяйкой. И сейчас она шла, развернув мощную грудь.
– Не желаете ли осмотреть туалет? – поинтересовалась она.
– Желаем! – Михаил отметил, с какой бесшабашностью, с какой лихостью распахнула она дверь в туалет. Это было на самой грани естественной лихости бой-бабы Липы.
– Чистота! Хоть чай пить! – сказала Липа, оглядывая туалет.
– Чисто сработано! – неожиданно для себя глянул ей в глаза Михаил, еще сам не поняв, почему это вырвалось у него. Но в ее грязно-зеленых, с крапинками, глазах мелькнуло подозрение. Что это? Блеск ее глаз неуловимо ослаб и тут же выровнялся. Чувственные, полные, зовущие губы вдруг замерли, а потом искусственно заулыбались. Михаил почувствовал, как при словах «чисто сработано» она как бы рванулась к окошку, чтобы заслонить его. А было ли такое движение, или это ему показалось? Но плечи ее уже обмякли, не были развернуты так победоносно. И она тут же, едва замолк его голос, бросила: «Как в аптеке!»
Но если бы этого ничего не было, почему бы тогда бессознательно, бесконтрольно, по наитию Михаил сразу шагнул к окошку, где метровой планкой прикрыто двойное дно? Почему левой ногой, прижав стенку, он ощутил что-то мягкое? Шурупы забиты мылом. Но это естественно, пассажиры забавляются, да и всякое бывает. Однако и прорезы во всех шурупах забиты мылом, как бы затерты им. Просто так? Отверткой и ваткой Михаил очищает шурупы, отвертывает их и извлекает двадцать отрезов.
– А где еще двадцать? – спрашивает Михаил Липу.
Но Липа и не смотрит на них, у нее что-то не ладится с окном, она не слышит вопроса.
– Вот двадцать отрезов! – отрывисто говорит Михаил. – Слышишь, Олимпиада Федоровна?
– А по мне – хоть их сто будет. Мне-то какая печаль! Я пассажиров вожу, за них отвечаю!
– Я не о пассажирах спрашиваю, а об отрезах. Где еще двадцать штук?
– Да вы, Михаил Варламович, шути́те с кем-нибудь другим, а я вам не друг, не подруга, не жена и не любовница. У меня дел по горло. Тут вон и окно барахлит, плотно не закрывается! А вы с вашими отрезами…
Все это было высказано безукоризненно обидчиво. И в самом деле, не стыдно ли такому опытному пограничнику, как Михаил Кулашвили, задавать такие, простите, дурацкие вопросы! Да и никогда он себе этого не позволял, а тут вырвалось. И все-таки в памяти жила минувшая ночь, встреча с пьяным, его бред, бред… Но бред окончился разговором о сорока отрезах, о Липе. Пьяный назвал сорок, а Михаил нашел двадцать отрезов. Половину!
Стали проверять купе, начали поднимать диваны…
Контаутас поглядывал на часы. Оставались по расчету минуты на осмотр этого вагона. И тут, минуя остальные купе, Михаил словно по наитию прошел в противоположный конец вагона, поднял диван, и фонарь задержал желтизну луча на сизых головках гвоздей, вбитых в обшивку. Головки гвоздей были несколько иными – на миллиметр или полтора в диаметре у́же, чем стандартные заводские.
Вырвали гвозди, отсоединили обшивку, достали один за другим двадцать отрезов.
– Вот теперь… как в аптеке! – сказал Михаил на прощание Липе.
– А по мне… хоть – как в аптеке, хоть – как в больнице. У меня голова не болит! Это ваша забота искать!
Они ушли. Она вошла в туалет, заперлась и разревелась. Сорок отрезов! Страшно подумать! Вышла, посмотрела сквозь слезы в окно. И вздрогнула: Михаил Кулашвили, но в пиджаке, стоял около вагона спиной к ней. Через секунду она сообразила – это Эдик Крюкин. Как она спутала! Из-за густых вьющихся волос. И фигура похожа!
Она стояла у окна туалета, глядя на Эдика. Ветер трепал его волнистые волосы. Он ерзал на одном месте, ждал кого-то. Сунул руку в карман, вытащил рогатку, от нечего делать оттянул резинку, отпустил, снова сунул рогатку в карман. В прямоугольнике света, падавшего из вагонного окна, увидел спичечный коробок, поднял, мельком взглянул и отбросил.
Липа вытирала слезы, они снова катились и катились. «До чего я дошла! Плакать иду в туалет! Увидели бы меня мама или папа с их возвышенными идеалами! Ужаснулись бы! А мне – хоть бы что: привыкла. Но как пусто на душе!.. Ну зачем он опять рогатку вынимает? Вот и с ним я спуталась… А ведь какие были мечты! Какие книги читала! Сколько их дома и в нашем институте было… Горы! Неужели это были горы лжи и иллюзий? Но мама же с отцом жили и живут душа в душу, они – одно целое. Может быть, я не увидела чего-то в их отношениях?.. Ну, а эта, из загса, со своим участковым! Любит его! И как! Прямо завидно! А я… с этим Лукой, с Эдиком… Хорошо хоть Эдик не пьет, не курит, но грязен как… И когда я не поверила книгам? Когда свернула на эту дорожку? Когда? А теперь и детей не будет… И какой смысл в этих отрезах? Влипла я, влипла… А как детей хочется! Вырос бы такой, как у этой, из загса. Как я любила бы его!.. И все из-за этих барышей. Сперва не хотела детей, теперь не могу их иметь…»
Она не заметила, как слезы обильно потекли по щекам, не очень обратила внимание и на высокого детину в широкополой шляпе. Тот подошел к Эдику, и Эдик указал ему в ту сторону, куда ушел Михаил Кулашвили. Подняв воротник пальто, детина подпрыгивающей походкой устремился в темноту. А Эдик подался в другую сторону.
Эдик – ловкач! Под стать Луке. Он в жизни признает только баб и карты. Не пьет ни рюмочки! Все силы, все деньги – на карты, на женщин. Но целоваться с ним противно – слюнявый какой-то. Это он проиграл в карты Михаила. Ему поручили после возвращения из рейса убрать Кулашвили. Но дело-то это опасное. Такого, как Кулашвили, не то что голыми руками, такого и с оружием не возьмешь. Проиграть легко, выиграть трудновато!
Мысли о предстоящей расплате и отмщении несколько успокоили боль. Но когда Липа опять подумала о сорока отрезах, о том, сколько это стоит, она поняла, что Лука ей этого не простит. А рука у него тяжелая!
Но ведь она же все, все рассчитала. Мишка на двойное дно давно уже не обращал внимания. Да и с диваном понять невозможно – как он допер? И главное – выслуживается! Ведь все было бы отлично: не он, не Мишка, должен был сегодня дежурить, не его время быть в наряде. А он взял и ввалился. Бывает такое редко. И вот – не повезло. Сорок отрезов… «Мне Лука голову снимет за них. Снимет? А сам недавно влопался! Аж глаза стали красные от злости! И эту ночь впустую стерег на Пушкинской. Этот Мишка разорил нас! Дотла! Гад пограничный!»
Она увидела, как из-под вагона противоположного состава выскользнул Эдик. Обрадовалась: «Наверное, ко мне». Но Эдику было не до нее. Тайно от всех своих он в заграничном рейсе связался с солидным господином. Тот, хотя и жил в Западной Германии, по-русски говорил без акцента. Неизвестно, почему остановил он свой выбор на суетливом Эдике Крюкине. Он пообещал купить у Эдика три фотоаппарата «Киев». И купил с большой выгодой для Крюкина. Дешево продал Эдику нейлоновые кофточки. Опять барыш. И снова попросил три фотоаппарата и советские десятирублевки. Легко обводил его Эдик. И все получалось как нельзя выгодней для Крюкина. Потом господин попросил передать одному человеку сверточек. Эдик заколебался. Но деньги сами лезли в руки. И передал. Потом передал какие-то книги, какие-то брошюры, какие-то пачки листовок. В них не заглядывал. Потом по просьбе своего западногерманского «коллеги» он часть листовок передал, а часть ночью разбросал по городу, в котором жил. По городу и по дороге в депо и отстойник.
И лишь когда народный дружинник – заикающийся Севка Воздвиженский – принес подобранную листовку на вокзал и, оттопыривая толстые губы, растягивая слова, начал читать, лишь тогда до Эдика дошло, за что ему платили, кто платил и чем он сам может поплатиться. Правда, однажды он при встрече со своим заказчиком отказался перевозить антисоветскую литературу. Но тот дал ему послушать магнитофонную запись их разговора, показал серию снимков. На снимках был Эдик с теми, с кем он торговал. Запись и снимки ужаснули Эдика, и он решил при возвращении домой прийти к капитану Домину и все рассказать. Приехав, он взял сверток и направился в кабинет к Домину, но по дороге замедлил шаги, остановился, повернул в город и с тех пор безропотно передавал по назначению все, чем снабжал его заказчик.
Ему казалось: вот-вот накроют. Оттого дорожил он каждой встречей с Липой, с любой женщиной. Особенной остротой наполнилось для него ощущение каждого рассвета на свободе. Каждый рассвет мог стать последним. Отчаяние сменялось яростной верой в свою неуловимость. Он бросил бы все операции со Сморчковым, ему с лихвой хватало прибылей от западного заказчика. Но что-то удерживало его и около Сморчкова. Да и знал, что так просто не отколоться от него. И где-то глубоко-глубоко теплилась вера в свое возвышение, когда он, Крюкин, возглавит «дело». Только Мишка Кулашвили не помешал бы. Его если не убрать совсем с дороги, то надо хоть сделать нейтральным. Вот и сегодня по поручению Сморчкова кое-кого откомандировал Эдик для «дипломатических» переговоров со старшиной.
Поздним вечером Михаил, усталый, возвращался по той же Пушкинской улице. Услышал за собой быстрые шаги, обернулся. Высокий человек в нахлобученной на глаза широкополой шляпе, с поднятым воротником догонял его и делал знак остановиться. Михаил остановился и ждал.
– Михаил Варламович! Я незнаком вам, но я о вас наслышан. Меня послали поговорить с вами. Документы мои в порядке, так что, если и заберут по вашей милости, я скажу, будто все выдумали. А выслушать советую. – Он перевел дыхание, во тьме не видя лица Михаила, но понимая, как внимательно его слушают. – Михаил Варламович! Ваша жизнь в опасности! И вы знаете почему! Но я не хочу вас пугать, вы не из пугливых. Мы предлагаем вам оставить службу, подать рапорт о демобилизации. Вы послужили немало, на два миллиона дали стране прибыли. Пора и на гражданку.
– Веревка хороша, когда длинна, а речь – когда коротка, – язвительно оборвал его Михаил.
Но незнакомец продолжал:
– Что вам здесь однокомнатная квартирка в этом городе? К тому же, вы женились. Мы переведем на ваше имя достаточную сумму. Хотите вернуться в свою деревню, можно там, можно в любом месте построить вам дом. У вас будет своя квартира, своя дача и своя легковая машина. Если вы согласны, скажите. Ваше слово – слово железное. Вам и мы верим. Если согласитесь, то условия оговорим хоть сейчас. Для начала мы переведем на ваше имя десять тысяч в любую сберкассу, чтобы не вызвать подозрения и не бросить на вас тень. Вы подадите рапорт о демобилизации. Кстати, через две недели истекает время вашей сверхсрочной службы. Так что, усилий особых не потребуется. Помните, меня уполномочили люди серьезные, люди самостоятельные. Мы хотим жить богато и живем не бедно, и вам поможем, лишь бы вы нам не мешали. Итак, по подаче рапорта – еще десять тысяч рублей. При подписании рапорта начальством – еще десять тысяч. При отъезде – еще столько же. Если вам это покажется мало, скажите. Все поправимо!
– Все поправимо, кроме зла, – вставил Михаил и умолк.
– Вы молчите, Михаил Варламович… Если же вы не хотите бросать службу, то просим… не все замечать при осмотре. За это мы в указанное вами место единовременно откладываем пять тысяч, а потом будем, соответственно с нашими операциями, двадцать процентов от каждой выручки класть на ваш счет, разумеется, не в этом городе.
– Вот что, – сказал Михаил. – Я грузин! Грузины всякие бывают, белорусы, русские всякие бывают: честные и не очень честные. Так запомните и передайте! Мне платит государство. И к этим рукам, – он протянул вперед неразличимые во тьме руки, – к этим рукам за всю жизнь ни одна грязная копейка не пристала и, клянусь, пе пристанет!
– Жаль! Очень жаль!
– Чего жаль?
– Не чего, а кого! Вас жаль, вы просто не любите жизнь, не цените ее, не любите своих близких. Подумайте, вокруг никого нет. Как видите, ночь. Подумайте! Вы, может быть, сомневаетесь, не обманем ли мы вас. Но все доскональные условия можно выработать так, чтобы они вас устраивали, хотя я уполномочен обо всем договориться немедленно. Учтите, если вы почувствуете, что мы не выполняем хоть один пункт договора, вы немедленно можете отказаться от своего рапорта о демобилизации, и вас, разумеется, с удовольствием снова примут на службу. Но уверяю вас – дело это верное, обман и промах исключены. В противном случае, не примите это за угрозу, я не ручаюсь за вашу жизнь… и не только за вашу!
Увидев резкий свет автомобильных фар, незнакомец шагнул в сторону и исчез.
А около Михаила остановился газик.
– Милости прошу к нашему шалашу! – весело предложил Леонид Леонидович Домин. – Узнаете этого товарища? – и подсветил фонариком лицо Чижикова. Тот на заднем сиденье улыбался. – Михаил, садись. Заедем ко мне. Мы за тобой кинулись в погоню, не зря же бензин жгли! Ну!
Михаил сел около Алексея. Газик тронулся.
– Миша, извини за любопытство: в свете фар вас было двое: ты и…
– И прямо персонаж из детектива. Один типчик сначала уговаривал меня демобилизоваться или не замечать темные дела контрабанды, большие деньги сулил. А потом даже угрожать стал, – сказал Михаил, с удовольствием отдыхая в машине. – Для них деньги – словно семечки.
– Да ты о семечках еще расскажешь подробно.
Газик летел мимо домов, поворачивал, набирал скорость.
– Ну вот, приехали. Прошу…
Они поднялись на третий этаж. Отворив дверь, Леонид Леонидович вынул ключ, положил его в карман и пригласил:
– Входите!
Коридор двухкомнатной квартиры Доминых был весь украшен отлично выполненными цветными снимками. Гордо возвышалась Белая вежа – крепостная башня, в виде правильного цилиндра, увенчанного четырнадцатью зубцами. Увидев, как ею заинтересовались гости, Леонид с улыбкой сказал:
– Буду гидом. Хотя давно, давным-давно пора съездить на экскурсию. Ведь мы же охраняем и ее! И пущу! В пуще хоть раз-то были? Знаю, знаю: три с половиной раза.
– Зачем же стыдить нас? Расскажите, если знаете, – попросил Алексей Глебович, поругав себя за то, что и в самом деле ни разу не был в Белой веже.
И Домин рассказал им о Беловежской пуще.
Рассказывая, он всматривался в Михаила Кулашвили. Сегодня обнаружил под вагоном магнитный тайник, который естественно вписывался в конфигурацию днища. А в тайнике – микропленка с важными сведениями и снимками. В соседнем вагоне, в собачьем ящике, скорчившись, затаилась женщина. И все это открыл Кулашвили. Около таможенника, в досмотровом зале, первым указал на фонарь иностранца, в котором было ловко замаскировано оружие.
– Михаил, – не выдержал Домин. – Как тебе удалось за стеклом в туалете вагона обнаружить три слитка золота и листовки?
Михаил и Алексей рассматривали снимки сосен, елей, грабов Беловежской пущи. Медью светились сосны, веяло вечностью бытия. И Михаил нехотя оторвал от них взгляд.
– Зеркало было слишком тщательно вытерто, особенно по краям! А обычно оно по краям туманно. – И он снова как бы вошел в Беловежскую пущу.
Присели около журнального столика на полумягкие, с удобными спинками, кресла.
– Леонид Леонидович, у вас прямо – филиал Беловежской пущи, – заметил Чижиков, увидев оленьи рога на книжном шкафу и перья птиц на книжных полках. Перед синими томами «Истории» Соловьева блекло-зеленым цветом выделялись длинные стебли душистой травы зверобоя.
– Какой запах! – втянул в себя аромат Чижиков. – Так, Миша, о каких семечках речь?
– Да милая такая бабуся, божий одуванчик, решила порадовать знакомых, вот и повезла мешочек с подсолнухами… За границу…
– Ну и что же?
– Уж очень бережно перекладывала мешок с места на место. Словно он или разбиться может, или зазвенеть ненароком, – ответил Михаил.
– И не разбились подсолнухи? – с улыбкой спросил Чижиков.
– Нет. Но не видел никогда я, чтобы с такой нежностью к подсолнухам относились. Наверное, думаю, очень дорогому человеку везет, если так дорожит этим мешочком. Прямо на колени бабуся поставила, обняла, как малое дитя. Так только хлеб держал тот господин, у которого в булке золото оказалось… Помните?
Домин кивнул. Он потом «выпотрошил» этого респектабельного господина и кое-что существенное узнал от него…
– Ну-ну? – нетерпеливо спросил Чижиков.
– Ну, я у нее мешочек из рук хотел взять, она как глянула на меня…
– Кому подсолнухи? – спрашиваю.
– Да одним знакомым, – небрежно отвечает, а держит – как сокровище. Короче, семьдесят восемь золотых колец везла бабусенька… в мешочке…
Поговорили еще о делах.
Потом Домин включил магнитофон, и зазвучал джаз. Домин встал, быстренько поставил на журнальный столик бутылку сухого вина, рюмки, фрукты, сыр, шоколадные конфеты.
– А на нижней полке что в коробках, Леонид Леонидович? – спросил Чижиков, в такт музыке постукивая пальцами по столику.
– А это – лучшие джазы. Моя слабость.
Домин испугался: могут спросить о жене. Он сейчас острее понял, как ее не хватало, и потому особенно оценил тактичность гостей. Никто из них и словом не обмолвился о Ирине…
– Да, в этой комнате вокруг – природа, – сказал Михаил, задумчиво вглядываясь в фотографии аиста, чисто-белой кувшинки, малой кубышки и тростника. Не обошел он вниманием и стройного шилохвостя: коричнево-бурая голова, на затылке перья медно-бронзовые, спинка серая, брюшко подернуто седой рябью. Он снят в момент отрыва от седой ряби воды.
– Вся природа для души, для воспитания души, – тихо сказал Леонид Леонидович. – Чем ближе мы к природе, тем сильней и естественней… Ну, – он наполнил рюмки, – за встречу!
В прихожей раздался звонок. Домин открыл дверь.
– Давай к столу! – обрадовался он приходу Валентина Углова. – За словарь спасибо, а за опоздание выговор!
– Твою просьбу выполнял, – поправив волосы и садясь за стол, мягко сказал Углов.
– Эх, тридцать лет тебе, а седой, – с сожалением и сочувствием сказал Домин.
– Поседеешь, – за Валентина ответил Чижиков. – Он десятый язык, испанский, осваивает.
– Да бросьте об этом. Минеральная есть? – Взял поданную ему Доминым бутылку «нарзана», на три четверти заполнил фужер, капнув сухого вина.
– Фрич, как венгры пьют, разбавляя, – улыбнулся Домин. При Ирине месяцами не притрагивался к рюмке, не разрешал себе и без нее. Но в такие редкие встречи разбавлять не хотел.
– Ну, будьте! – Валентин тонкими пальцами взял фужер. – За всех вас и за здоровье! – Он отпил полглотка и поставил фужер поодаль от себя.
Даже убежденный трезвенник Михаил удивился:
– Почему так мало?
– От стакана пива, а не то что от рюмки вина происходит микрокровоизлияние в мозгу. Так что, воздерживаюсь…
– Так ты, Валентин, выписал названия статей из этих последних изъятых журналов?
– Да, потом руки мыл.
– Мне тоже приходится, – Домин обратился к Чижикову, – порою между страницами закладывают листовки. Вот и листаем. Прочитай названия. Мне это для политзанятий пригодится. Уничтожать эти журналы мало, надо их же пропаганду обращать против них. Ну прочти, где твоя записная книжка?
– Буду я записную книжку пачкать! – Углов достал из кармана лист и подал Домину, явно показывая, что читать не намерен.
Домин пожал плечами, развернул лист.
– «Мир с богом!» – название брошюры. Это у того отобрано, у кого Михаил в обшивке автомашины нашел четыре тысячи крестиков! Дьяволы! Одной рукой крестятся, другой спекулируют на вере. Три шкуры с верующих дерут, в пять раз дороже продают эти крестики!
– Машину-то конфисковали… как положено, – успокоил его Михаил Варламович.
Домин встряхнул головой, словно отгоняя кошмарные видения.
– Я думаю, что все это чтиво сводится к трем течениям: разврат, преступления и деньги. Они не живут, а притворяются, что живут. Валентин, помнишь, как ты у инженера, с рыжими усиками, спросил: нужен ли ему журнал с вульгарщиной? Помнишь, он замялся? И в следующий раз к нам приехал без таких журналов! Даже вопрос подействовал! А чего врать-то? Когда я впервые такие фотографии увидел, ночью спать не мог от омерзения, от этой пошлости. У таких людей в большом почете его величество Свинство. А ну их! – и он включил магнитофон.
Все внимательно вслушивались в песню, и каждый думал о своем.
Днем и ночью, зимою и летом
Я надеюсь и верю, и жду,
Что уйду обязательно в небо
И хоть раз еще в море уйду.
Знаю, скажешь: «Не те уже годы.
Понапрасну теперь не труби:
Улетели твои самолеты,
И уплыли твои корабли…»
Но душа еще старой не стала,
И мечте не положен предел.
И хоть видел на свете немало,
Сколько я повидать не успел…
И то в море гляжу, то в высоты,
Что-то там исчезает вдали:
Не мои ли летят самолеты,
Не мои ли плывут корабли?..
В мечтах Алексея взрезала крутую волну его яхта, кренясь белым парусом, напоминая кромку пены на гребне волны.
А перед Доминым простерлась Туркмения, ее пустыня, Копет-Даг, Каракумский канал и заставы, заставы, заставы…
А Михаил вдруг почувствовал, какая тоска, должно быть, сжимает сердце Домину, когда он один в комнате, а больная жена где-то так далеко… А моя Нина? Диабет! Сама себе уколы делает. И она мне дороже, дороже с каждым днем. Не знаю, что со мной будет, если с ней случится то же, что и с Ириной. Как мы еще мало вместе, кажется, только вчера встретились!.. Нина, Нина…








