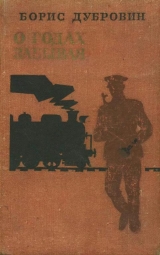
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
XIII
Пока шел суд, дома у Сморчкова снова клубился папиросный дым, снова обсуждались неотложные проблемы. Возвращение Кулашвили из отпуска опять грозило ударить по карманам всех только что изгнанных из здания суда, и самого Сморчкова.
– Алексей Александрович! То есть, простите, Александр Алексеевич, тьфу ты, напасть, Александр Александрович, совсем меня Мишка с этим судом сбил с панталыку, – говорил Эдик. – Объясните, почему вы тогда мне помешали, когда я ожидал жену Мишкину. Я нарочно раньше не опрашивал, ждал, когда все соберемся.
– Молчи ты, салага! – оборвал его Лука. – Пока Мишки не было, забыл, что ли, сколько дел у нас было! Правда, погорели несколько раз. Ученичок Мишкин прижучил – Контаутас. Да и Кошбиев на больной мозоль наступил. Не до собраний было. Так что, умолкни и не мешай говорить о деле. Надо что-то придумать: как же перевозить? Он же, дьявол, сквозь металл и дерево видит. Как зыркнет своими глазищами, вроде рентгеновскими лучами просвечивает меня. Александр Александрович, не найдется ли выпить? Душа горит.
– Не держу спиртного. Вы это знаете.
– Знаю. Но так, а вдруг?..
– Нет, – не унимался Эдик, – все же объясните: почему не дали мне пришить Мишкину бабу? Почему?
Александр Александрович с неприязнью повел глазами. Ему было опять и неприятно, и обидно, что это ничтожество, этот Эдик, перепутал его имя и отчество, будто в насмешку. Кроме карт и баб, ничего не знает. Он одержим жаждой насилия. Даже хвастался: «Всегда кусаю баб в постели, иначе не могу. И обязательно я ее изматерить должен и морду ей набить!»
– Во-первых, я никому отчета в своих поступках не давал и давать не собираюсь, – и Сморчков со скучающим видом достал папиросу, размял ее медленно, закурил. – Во-вторых, чтобы ты, Эдик, кое-что понял, поясню. Ты не удивился в ту ночь, что около тебя оказался участковый? Чижиков – бывший пограничник, бывший фронтовик, он такое повидал, что тебе и во сне не снилось. И если уж он ночью будто ни с того ни с сего появился около тебя, тебе это ни о чем не говорит? Молчишь? Он шел, чуть не на пятки тебе наступал, а ты и ухом не повел. Это о чем говорит? Ты – разиня! Он тебя чуть-чуть не взял голыми руками. Молчишь? Молчишь! Потому что вякать легко, а оправдываться трудно. А кто тебя спас в ту ночь? Кто крикнул «Нина!», давая тебе сигнал? Кто предупредил тебя в последний момент? Кто? Кто?!
– Вы.
– А знаешь ли ты, что из-за твоей неосторожности жена Мишки Кулашвили перестала ходить на занятия кружка и теперь всюду ее кто-нибудь сопровождает? Молчишь? Ты думаешь, если убьешь ее, то сам уцелеешь? Думаешь, если сила есть, ума не надо?
– Почему? – с трудом оправляясь от метких ударов Сморчкова, попробовал возразить Эдик. Будучи ничтожеством и сознавая это, он силился всех уверить в своей значительности. Он мечтал утвердить себя как сильного человека. Заставить уважать себя. Не словами, а делом. Он в карты проиграл жизнь Кулашвили нарочно, чтобы самому расправиться с ним, чтобы по воле его, Эдика, путь контрабандистам стал свободней. Сын пьяницы, он, в раннем детстве потеряв мать, от мачехи и от вечно пьяного отца не видел тепла и любви. С детства им помыкали. Лишенный всяких привязанностей, он вырос в ненависти к родным, и тем более – в ненависти к окружающим. Но, хотя он ненавидел и Бусыло, и Белова, и Зернова, и самого Сморчкова и не раз обманывал их, он жаждал завоевать уважение тех, кого презирал. Это был его круг. Вне его начиналось мертвое пространство отчуждения. Вот отчего он решился возразить самому Сморчкову.
– Не вышло с женой Мишки, но Мишку я пришью. И увидите все, как это будет. Если я сказал, сделаю. Мое слово твердое. Я вижу, вы считаете, будто я не справлюсь с Мишкой, клоните к тому, чтобы другие им занялись, но я справлюсь! А уж если попадусь – никого не продам. Да только я не попадусь.
Кулашвили казался Эдику той ставкой, которой он расплатится за все, чтобы в ближайшем будущем, убрав с дороги Сморчкова, встать во главе «дела». Жажда власти ослепляла его.
– Если Эдик сказал, так и сделает, – вмешалась Липа.
– Цыц ты!.. – осадил ее Лука.
Она гордо передернула плечами, даже не удостоив его взглядом.
– Хватит тянуть! Пора! – вскинулся Эдик.
– Не спеши, коза, все волки твои будут! – насмешливо осадил его Лука. – Немудрено голову срубить, мудрено приставить!
– Нет, и срубить мудрено! Тут все разговорчики, а до дела как доходит, так: «Эдик – милости просим!» Конечно, я самый молодой, да и самый скорый, – не без гордости закончил он и молодецки глянул на Липу.
– Скоро делают, так слепо выходит. Скоро блох ловят, – воспользовался заминкой Лука и не преминул снова ужалить Эдика.
– Что вы мне эти байки рассказываете! Что я, мальчик, что ли? – взвился Эдик. – Я себя знаю. А твою песню, Лука, слушать, так двух жизней не хватит. Боишься ты Мишки, вот и крутишь! А у меня как вскипело, так и поспело! Не то что у тебя: сидит, надувается, три дня в лапти обувается.
– Молчи! – завелся и рассвирепел Лука. Он привстал и тяжко шагнул к Эдику. Схватил его за грудь. Приподнял над стулом, тряхнул так, аж круги пошли перед глазами у Эдика, и он прикусил язык.
Против таких убедительных аргументов Эдик возразить ничего не смог. Лишь взгляд его, сверкающий непримиримой ненавистью, столкнулся с точно таким же взглядом Луки. И Лука не выдержал, отвел глаза.
Обстановка усложнилась.
Правда, когда обсуждали нападение на Ирину Николаевну Домину, так же разгорелись страсти, так же взвивался Эдик и так же «усаживал» его вскипевший Лука. Это коробило Александра Александровича. Да и время поджимало.
– Значит, так, – обратился ко всем Сморчков. – Время – за нас. Снова хлынули из-за границы иностранные студенты, волокут антисоветскую литературу. Силы брошены на борьбу с ними. А мы должны воспользоваться этим и остроумней прятать наш товар, – он сделал паузу и возвысил голос, заметив нервозность Эдика и Липы.
– И снова предупреждаю! Упаси бог, мараться о любую религиозную, порнографическую и тем более антисоветскую стряпню. Упаси бог! Мы – честные предприниматели, – Сморчков предостерегающе посмотрел на Эдика и Липу. – Кстати, Эдик!..
– При чем тут Эдик? Чего вы, Алексей Алексеевич, простите, Александр Александрович, чего вы на меня так смотрите?!
– Чтобы слабину не дал! Одно дело – провоз товаров, другое – измена Родине!.. Сколько лет могут дать за одно и сколько впаять за другое?! То-то… А Теперь о деле. Все подумайте о том, как надежнее спрятать для провоза нужный нам груз. Что касается жены Кулашвили, то трогать ее не будем. Браться надо, видно, впрямую за самого Мишку. Так, что ли?
– Конечно так! – вскочил Эдик. – Я раз сказал, так и будет. Он – мой, он – за мной!
– Уж больно ты быстрый! – сказал Лука Белов.
– Ничего не быстрый! – отрезал Эдик. – Вы так просомневаетесь, пока Мишка нас догола не разденет, как баб!
– Довольно зубоскалить, – поморщился Лев Зернов, потрогал бородку, и темно-серые глаза его обратились к Бусыло: – Ты как думаешь?
– Прав Александр Александрович.
– А теперь давайте расходиться, – сказал Сморчков. – Эдик, ты первый. Ты же самый быстрый и зоркий.
Эдик усмехнулся. Был доволен, заработав похвалу, хотя Сморчков явно подковырнул его, назвав зорким.
– Вот что, Эдик… Если по дороге заметишь Чижикова, вернись, предупреди, брось камешек в окно.
– Не беспокойтесь, я с другой стороны улицы из рогатки!
– Да ты что, салага несчастная, никак со своей детской рогаткой не расстанешься. Или не соображаешь, что окно разобьешь, да и люди заметят. Такой мужик – и из рогатки стреляет. Смехота! – Лука в последние дни при каждом удобном случае обрывал, осаживал Эдика. И сейчас он «врезал промеж глаз», выставив его дураком. – Подонок! – прошипел он на прощание.
Эдик только зубами скрипнул.
– Эдик, ты идешь направо! Понял? – спросил Сморчков.
Все прислушались к его шагам, к стуку затворяемой двери.
– И за что вы так на Эдика? – вступилась Липа.
– Тебя не спросили! – дыхнул перегаром в ее сторону Лука. – Тоже мне, защитница! Этот хлюст лишь выпендривается! Ему бы только себя показать!
– Вот что, Липа. Иди, но смотри внимательно: нет ли поблизости Чижикова. Я серьезно опасаюсь его и всех предупреждаю. Неспроста он был на суде. Он мог пойти за вами, когда вы покинули суд.
– Покинули! – осклабился Бусыло. Его бульдожьи ноздри дернулись, бородка колыхнулась. – Покинули! Мишка нас, как паршивых, шелудивых псов, вышвырнул!
– Ладно, довольно об этом. Липа, всего доброго. Осторожнее. Если что – предупредите.
Липа поднялась, с каким-то особым значением посмотрела на Сморчкова, точно зовя и обещая себя. Она и вправду тянулась к нему. Для нее в Сморчкове было обаяние самого умного, самого образованного из всей этой братии. Ей нравилось, как он управляет Лукой, Зерновым, Бусыло, Эдиком, сам оставаясь вне зоны их воздействия. Ей хотелось подчинить его себе, увлечь. А Эдик – всего лишь эпизод. И сейчас она сумела так пройти по комнате, что даже Лука замотал головой, увидев покачивание ее бедер.
Она ушла, а дразнящий запах ее духов еще смешивался с запахом дыма.
– Ну вот, кстати, Лука, не откажи в любезности, – обратился к нему после паузы Сморчков, – глянь, хорошо ли дверь за собой Олимпиада Федоровна притворила.
Лука тяжело поднялся, чуть наклонясь вперед широким лбом, протопал до дверей, прошел в коридор. Дверь была не на замке. Он вышел на порог, спустился по ступеням крыльца, выглянул за ворота. Обернулся, увидел Липу. Помахивая сумочкой, гордо и независимо шла она по улице, но вдруг повернула назад. Помахала рукой. Кому это? Неужели заметила меня? Решила, будто подглядываю. За такой козой, за такой мартовской кошкой глаз да глаз нужен. Но все же противно, если подумает, будто слежу!
Он вернулся в комнату.
А Липа шла навстречу Эдику.
Он поджидал ее на всякий случай. И не ошибся.
– Прошвырнемся ко мне в хату? – предложил Эдик. – Мачеха на дежурстве – в ночной смене. Музычку послушаем, твист сбацаем, и вообще…
– Да ведь Лука меня хватится.
– Ты разве к нему прикована? К подруге пошла! Придумаешь какую-нибудь бодягу, сбрешешь, от тебя не убудет.
– Только ты иди по этой стороне улицы, а я по той.
– Какая осторожная!
– Будешь осторожной! Если Лука узнает, он и мне шею свернет, и тебе. Будь уверен.
– Испугала! – тряхнул он волнистыми волосами и провел по ним рукой так, как Кулашвили. Он этот жест действительно перенял у Михаила, зачем-то пытался даже подражать его походке. Он купил себе такую же белую безрукавку, какую после смены носил Михаил.
– Ну кому сказано?! – строго взглянула она на Эдика.
– А я чего?.. – И он перешел на другую сторону улицы. «Фигуриста, словно кинозвезда!» – отметил он про себя и облизнулся.
В комнате Сморчкова все оставались на своих местах.
– Так вот, друзья, – более доверительным тоном заговорил Сморчков. – Эдика и Липу выпроводил не зря. И не сердись, Лука, на меня за Олимпиаду Федоровну. Женщина она хорошая. А дело щепетильное. Эдик все может завалить. Убрать Мишку надо нам самим, без него. Если бы я его не предостерег тогда с Ниной Кулашвили, он бы завалился и нас бы продал. У него на хвосте висел участковый, а он проморгал. Но хватит о нем. Теперь о деле. Или кто-нибудь против?
– Да, салага, он и есть салага! Только бабы да карты на уме. Ни одну юбку пропустить не может! А рогатка чего стоит! Я недавно видел, как он из рогатки в воробьев стрелял! Ненависти в нем много, а ума бог не додал. Действовать без него будем. Прав, Александр Александрович, – уважительно закончил Лука. – Продолжайте.
Зернов и Бусыло согласно кивнули.
– Я полагаю, надо избрать то же место на Пушкинской улице, где мы собирались раньше, чтобы прикончить Мишку. Стройка немного выросла, но действовать надо так же, с пролета третьего этажа. Нужно подстраховывать с левой стороны, где деревянные ворота. Хотя тот, кто говорил с Кулашвили, предлагая ему оставить нас в покое и уехать отсюда, тот человек отмечает, что Кулашвили возвращается ночью домой исключительно по правой стороне. Только по правой. Тогда случайность – встреча с пьяным – вывела его на середину улицы. Да и этот вездесущий Чижиков с оружием оказался рядом. Но по теории вероятности это один раз из тысячи может случиться. Я предлагаю со стороны стройки поставить Бусыло с Зерновым, как тогда. А у ворот деревянных встанем я и Лука.
Лука самолюбиво засопел:
– Что ж я, один не справлюсь? Он по левой и не ходит, а мне не доверяют, вроде Эдика.
– Я не хотел обидеть, но где двое – там вернее.
– Ну ладно, поглядим.
– Александр Александрович, а когда его ночная смена?
XIV
Пока шел этот «совет», Эдик без особых предосторожностей ввел Липу на второй этаж, открыл дверь в свою комнату.
В комнате, чисто прибранной, обстановка была убогая. Стол обеденный на тяжелых ногах, диван, двуспальная железная кровать с никелированными набалдашниками, шкаф, комод, буфет. На стене единственная фотография: обрюзглый человек с такими же волнистыми волосами, как у Эдика.
– Мой отец, – небрежно бросил Эдик. – Мало ему было, что водки выхлестал целые цистерны, так он по две пачки папирос жарил в день. И изжарился. Сперва ноги отказали. Потом инфаркт. Потом поджелудочная. Был кочегаром, вылетел в трубу сорока двух лет. Ну ладно, чего о нем…
– А что это за спичечные этикетки.
– Да это я для смеху собираю! У меня их вагон и маленькая тележка. Ну, иди ко мне. Нет, погоди-ка, музычку-то обещал! – Он поставил проигрыватель с долгоиграющей пластинкой на подоконник и включил довольно громко.
– Ты что, глухой? Зачем так орет?
– А чтобы знали, я – дома! – и прибавил громкость.
– Чудак! Сейчас придут!
– Ни разу еще ко мне не совался никто. Ко мне сунешься! А ну раздевайся, стерва! – и он ударил ее по щеке. – А ну, сука! – и он ударил еще сильнее. – Живее!
У ворот дома судачили соседки, осуждая Эдика. Жильцы, выглядывая из окон, ругались, слушая, как со второго этажа обрушивается джазовая музыка.
– Хоть бы укатывал на своем поезде скорее!
– Житья нет от его музыки!
– Мало ему баб! Так еще и глушит всех, будто у него у одного проигрыватель есть!
– А потому что мы сказать ему боимся.
– Возьми и скажи, если ты такая смелая!
– Изматерит, а потом еще рогаткой окошко высадит. Докажи, что это он. С ним свяжешься – не развяжешься!
– А вот идет лейтенант-милиционер.
– Ну и что? Это ж не наш. Нашему не говорим, а чужого будем дергать.
– А чужой нас по фамилии не знает, и Эдик не догадается, кто сказал. Может, шел и сам услышал.
– Товарищ майор!
– Я лейтенант. Здравствуйте, вернее, добрый вечер. Слушаю.
– Товарищ офицер милиции!
– Говорите погромче, плохо слышно. Кто это так на полную катушку включил? – спросил Чижиков.
– Да это один молодчик со второго этажа.
– Вечно он мучает нас!
– Выставлять музыкальные инструменты в окна не положено ни в какое время. Это он нарушает…
– Какая квартира?
– Тринадцатая.
Услышав звонок, Эдик голый выскочил из постели и кинулся к двери.
– Кто там, падла? Кому жить надоело? – Он распахнул дверь левой рукой, правую занеся для удара. Но рука опустилась.
– А ну-ка, живо выключить проигрыватель! – приказал Чижиков.
Обомлев от неожиданности и страха, на ватных ногах Эдик прошел к проигрывателю.
Одной рукой закрывая укушенное плечо, Липа поспешно стала одеваться.
– И чтобы это было в последний раз! – не моргнув глазом, приказал Чижиков.
– Слушаюсь, товарищ Чи… слушаюсь, товарищ лейтенант!
– Если еще раз будут жалобы жильцов, пеняйте на себя. Понятно? – строго вопросил лейтенант. Эдик кивнул.
Дверь закрылась.
Эдик снял проигрыватель с подоконника, сел у стола, машинально перебирая спичечные этикетки. «Неужели погорел?»
Липа натягивала чулки.
Он не обращал на нее внимания.
Кое-как одевшись, непричесанная, она пулей вылетела за дверь.
«Неужели выследил? Для виду придрался к проигрывателю. И ни о чем не спросил. Да! Дурак что ли – спрашивать?! Как же быть? Что делать?»
Каждый раз, терпя неудачу, Эдик переполнялся ненавистью ко всем. Тогда он ехал за город, стрелял в кошек, собак, птиц. И когда камень, летя из рогатки, попадал в бедных животных и птиц, ликовал. После этого он как бы приходил в себя и в неплохом настроении возвращался к своим делам. Но сейчас ненависть не находила выхода. Липа исчезла. Было уже темновато. Посмотрел на часы. Да, поздно. Но для ненависти нет времени, нет сроков. Ненависть всегда находит себе дорогу. Эдик оделся наскоро, проверил, в кармане ли рогатка. Взял обернутый газетой металлический прут и вышел на улицу.
Ненависть привела его на Пушкинскую.
Он споткнулся. Камешек выскочил из-под ботинка. Поднял камешек, достал рогатку и подумал, куда бы выстрелить. Да, в фонарь! Хлоп! Без промаха! И так же без промаха разбил еще два фонаря! Перешел на ту сторону, где недавно сидел в засаде, ожидая Мишку Кулашвили.
Прохожих уже не было.
А что, разобью и здесь! В темноте легче будет справиться и легче будет смыться! И с каждым разбитым фонарем тьма все гуще заливала, заполняла улицу. «Пойду на вокзал, разведаю. А вдруг Мишка сегодня в ночной?! Пойду за ним и здесь, в темноте, не промахнусь. Тогда по-другому запоет Сморчков и все его сморчки! Тогда увидят, кто такой Эдик! Трусы жалкие! Да, скорей!»
В темноте мимо него пролетело платье, простучали туфельки.
Он остановился в недоумении и так стоял, пока в свете дальнего фонаря увидел стройную женскую фигуру. Женщина бежала без оглядки. Что-то знакомое показалось в этой фигуре. Но кто это? Сколько их прошло через его руки. Бежит и бежит. Ему-то какое дело! Не к нему и не от него! А от него, от Эдика, не убежишь! Вот он сейчас пойдет на вокзал и – держись, Мишка!
Женщина продолжала бежать. Ей было очень страшно. Никогда Нина не выходила в такую ночь одна. Но сегодня вечером к ней заглянул Чижиков. Он, как всегда, был приветлив и спокоен.
– Миша после суда сразу на службу пошел. Меня попросил предупредить вас, Нина Андреевна, чтобы вы не волновались. Кстати, я уже предостерегал Мишу, говорил ему, чтобы он возвращался домой не по Пушкинской улице. Напомнил я ему и после суда об этом. И вы, пожалуйста, тоже скажите.
– А почему? Ему что-нибудь угрожает? Впрочем, о чем я, глупая, спрашиваю! Конечно, каждый день, каждый час… Для него – граница всюду, где он есть. Значит, и всюду опасность! Спасибо вам, Алексей Глебович! Может, перекусите?
– Спасибо! Жена ждет. Да и потом – яхточка!
– Ну хоть чайку выпейте. Миша для вас, кстати, достал журнал о яхтах. Сейчас, минуточку…
Она пошла к этажерке, где книги на грузинском языке соседствовали с книгами русскими и белорусскими. Отдельно стояли учебники Нины, справочники. Среди книг Чижиков заметил новую книгу Гамсахурдия. Чижиков знал, это один из любимых писателей Кулашвили. «Да, у меня страсть ко всякому изобретательству, а у Миши одна страсть – граница. Она его радость, его горе, его забота, его песня! Граница – его жизнь! Кажется, в этой квартире Миша и не живет, он весь и всегда на службе! Хорошо ли это? Не знаю! Но если он себе иной жизни не мыслит, хорошо, значит, для него это счастье».
– Спасибо за журнал! А моя Аня обещала достать вам выкройку для осеннего платья. Я на днях занесу. Или вы к нам загляните с Мишей.
– С Мишей? С Мишей можно заглянуть только в тайники контрабандистов! Но я люблю его, хотя он пропадает на вокзале. Так чайку, а?
– Нет, иду. О Пушкинской улице скажите ему, когда вернется.
Уходя, он почему-то обернулся с порога. Нина мгновенно опустила глаза. В них блеснула какая-то застенчивая нежность.
– Знаете, Нина, давайте пойдем все вместе в эту субботу в театр.
– Миша не сможет, у него опять будет что-нибудь сверхсрочное. Он опять будет в своем театре – на вокзале.
– Ну зачем так грустно?
– Что ж, конечно грустно. Даже в тот день, когда расписались, он перед самой свадьбой ушел на занятия кружка юных друзей пограничников. У него же нет ни воскресений, ни суббот. У него вся жизнь – рабочий день.
– Он в этом видит счастье, он счастлив, он живет ради этого, Нина. Ведь так?
Алексей вернулся к столу. Посмотрел, как она указательным пальцем водит по краю чашки.
Нина вздохнула еще грустней:
– Он в этом видит счастье, он. Свое счастье. Но ведь мы вдвоем. Всего один раз встретил меня вечером, когда я шла из кружка. Один раз! Я из-за этого и кружок оставила. Одной идти страшно, и просто неловко, если меня – замужнюю женщину – будет провожать молодой человек. Чего только тогда не наговорят. И Мише больно будет это слушать. Да и вот вы, Алеша, – она покраснела, услышав, с какой лаской ее голос произнес это имя, – Алексей, вот вы говорите о счастье. Так мы же вдвоем! Вдвоем! Он же словно в общежитие прибегает, перекусит, соснет и – назад. На вокзал! Худой – плакать хочется. Жалко его. А он меня послушает, улыбнется и опять за свое. А в театр мы – ни разу, на концерт – ни разу. Как-то случайно в кино оказались, так он за пятнадцать минут до окончания сеанса вспомнил о вокзале, тихонечко выскользнул из зала. А дни, месяцы идут… И так, видно, навсегда. Как я завидую Ане! Как ей хорошо с вами! Вы же успеваете и на службе, и яхту строите, и сколько раз бывали и в парке, и в театре, и не пропускаете концертов. Миша ведь иссушает себя. Вот книгу Гамсахурдия я ему купила, а он до двенадцатой страницы дочитал, больше времени не было.
Нина с нескрываемой нежностью посмотрела на Алексея, ей захотелось вдруг припасть головой к его груди и выплакаться.
– Нина, а вы хоть раз говорили Михаилу об этом?
– «Хоть раз!» Сколько раз! Вас в пример ставила с Аней! Он соглашается и опять ничего с собой поделать не может. И так я все время одна. Знаете, как это больно! – Нина помедлила, вздохнула.
– Вы слишком мрачно настроены, Нина. И вы меня идеализируете. Вот мы как-то с Михаилом были у Домина. Это – человек! Если бы вы знали, как он любит природу, как понимает ее! Сколько примет народных ему известно, как он по голосам определяет птиц! Я никогда и не думал, какой он книжник! А музыка? Тоже его увлечение! И он все успевает, хотя дел у него по службе немало…
– Это его жена тогда упала, кто-то ее толкнул? И потом давление крови, гипертония, и вообще плохо ей…
– Да, она уехала. Вы знаете? Он нам на прощанье сказал, будто надеется на ее возвращение, будто бы ей получше. Но, может быть, это он себя так утешает. Я с врачом после этого говорил, он сказал о ней: случай тяжелый. Не все ясно.
– Понимаю, сочувствую. Но мне, кто мне посочувствует? Дело не в моем диабете, не в больном сердце. Я молчу об этом, хотя уколы каждый день делать самой себе не очень большое удовольствие. Но что-то надо менять Мише. А у меня у одной нет сил воздействовать на него. – Она отвернулась и взглянула на изображение прыгающего оленя. – Точно он от меня убегает…
Алексей Глебович давно уже догадывался о неладах в душе Нины, давно и не раз говорил он Михаилу о его ошибках, но никогда он не предполагал меры тоски замужней и словно бы одинокой женщины. Вот отчего он смешался, присел за стол.
Нина, не спрашивая, налила ему чаю, придвинула сахар, конфеты, он машинально помешивал в чашке, хотя не опустил туда ни куска сахару. Алексей поднял глаза, и снова Нина отвела взгляд, спрятав нежность.
– Нет, нет, Нина. Для него его работа – счастье! Миша слишком цельный человек, чтобы он лукавил с самим собой и с вами, характер у каждого неповторимый. Посмотрите, он же весь излучает энергию, улыбку, веру, когда он на службе! Это ли не счастье?! Мне очень далеко до него! Это выдающийся человек!
– Он фанатик!
– Выдающиеся люди – всегда фанатики одной идеи! Этим и сильны!
– Но ведь не вся жизнь – в его службе! Вот вы раскрыты навстречу людям, и всех к вам тянет, и меня… – она прикусила язык, чтобы не проговориться, что и ее, Нину, тянет к Алексею Глебовичу, да нет, к Алексею, к Алеше. – И мне так иногда хочется выйти из дома, когда слышу, как детвора щебечет вокруг вас! Выйти, поговорить, пожаловаться на Мишу.
– Но, Нина, разве можно требовать от человека, чтобы он переменил характер. Каждого нужно принимать таким, каков он есть, или не принимать вовсе. Надо быть снисходительным даже к таким людям, а к Мише особенно…
– Да, да… Вы, наверно, правы…
– А вы знаете, Нина, как он любит вас! Конечно знаете, о чем я и кому говорю! Но меня и его любовь к вам поражает. Он мне как-то сказал: «Нина для меня, как воздух. Ей кажется, будто я ее не замечаю. Но без нее я бы задохнулся!»
– Вот видите, я поговорила с вами, и сразу на душе веселее стало.
– Не во мне дело. Если бы вы видели, как сами на него смотрите, поняли бы, как велико и прочно ваше чувство к нему. А без жертвенности нет любви. Вернее, без жертвенности нет счастья. Отдавая, получаешь куда больше. И, главное, перестаешь быть одиноким.
– Вы бы сказали хоть одно из этих слов Михаилу. Он так вас уважает, так прислушивается к вам.
– Хорошо! – Алексей встал из-за стола. Не раз, не два говорил он эти слова Михаилу. Но надо уметь ждать. Слово подобно зерну. Падает, медленно-медленно дает первые ростки. – Хорошо. При случае. А вы, не ожидая никакого случая, берите Михаила и в первую же свободную минуту приходите к нам в гости. Пирожных и разносолов не обещаем, а чем богаты, тем и рады будем поделиться. Мы с Анечкой ждем вас. И Арсений будет счастлив!
После ухода Алексея Нина никак не могла прийти в себя. Из рук выпала чашка и разбилась. Первая чашка, разбитая ею в семейной жизни. «Плохая примета, – сказала она себе, – может, быть, с Мишей что-нибудь неладное?! Я тут чай распиваю. Я чем-то недовольна, а вдруг он в опасности?! Да, он всегда в опасности! И я знала наперед, какая жизнь нас ждет, знала и пошла на это, – и почему-то сразу вспомнила слова Чижикова о Пушкинской улице. – Предупредить. Когда вернется? А может быть, надо предупредить до того как вернется, ведь дорога-то домой лежит через Пушкинскую. Чижиков не такой человек, чтобы впустую говорить. И ведь он специально, видно, пришел, чтобы сказать о Пушкинской? Чего же я жду?»
Она накинула на голову платок и выбежала на улицу. Ей казалось – за ней гонятся. Оглянуться боялась. «А как я найду его на вокзале? Надо будет к Домину – капитану! Или, может, Контаутаса увижу или Кошбиева? Ой, кто-то за мной идет, бежит! Что это впереди погас фонарь? Я уже на Пушкинской. Вот еще один погас. Как страшно! Еще один! Ой, еще один! Все равно не буду перебегать на ту сторону. Вон там какой-то человек с газетой в руке. Не он ли тогда мне навстречу шел, когда меня догнал Богодухов и цветы подарил? Похоже – он. Как на Мишу похож! Спутать можно! Ой, как сердце колотится!»
Она пробежала, пронеслась мимо Эдика, и, когда наконец оказалась на вокзале, когда увидела Михаила, не могла и слова сказать, и вдруг расплакалась.
– Что с тобой, Нина, милая?
– Ничего!
– Что с тобой?!
– Как я рада!
– Рада? Отчего же ты плачешь?
– Мне страшно!
– Почему?
– Мне за тебя страшно!
– Но зачем ты прибежала! Ведь поздно уже!
– Миша, Чижиков просил передать, чтобы ты по Пушкинской не ходил. Понял?
– Понял. Он меня после суда предупреждал. Я, правда, забыл.
– Вот видишь!
– Нет, он звонил сюда. Мне капитан Домин передавал, предлагал охрану.
– Ты согласился!
– Зачем? Пойду по другой улице. А оружие при мне.
– Мне страшно, я на Пушкинской встретила того… Такого… он похож на тебя прической и походкой. И там гасли фонари на Пушкинской!..
– Успокойся!
Не успели Михаил и Нина уйти с вокзала, как на платформе появился Эдик. Он в белой рубашке с короткими рукавами шел вдоль вокзала, стараясь держаться, как Кулашвили. И кое-кто принимал его за Михаила. Издали увидел его Бусыло и кивнул Зернову:
– Мишка! Собака, и не в свою смену явился. Ну что ж, значит, тогда сегодня. Он, видать, домой собирается.
– Лука, слышишь? – обратился Зернов к Луке Белову.
Тот выпил после «заседания» у Сморчкова и поэтому легко согласился:
– Что ж! Давай! А Сморчкову – ни слова. Один управлюсь, если Мишка на мою сторону перейдет.
– Он в белой рубашке, в гражданской одежде, значит, без оружия, – ободрил всех Бусыло.
И они заторопились к месту засады.
По дороге Зернов негромко и как будто сочувственно обронил:
– Смотри за Липой, Лука. Что-то она глазками стреляет по Эдику.
– Я тоже слышал кое-что, да мало ли чего болтают, – нехотя отозвался и Бусыло.
– Чего, чего мелешь, сволочь! – и Лука ухватил Бронислава за бороду. – Я тебе эту мочалку с корнями вырву, мыться нечем будет. Ты мне не клепай! А то живо кляп вобью на веки вечные!
– Отпусти, отпусти, кабан! Отпусти! – отбивался Бусыло.
– Отпусти его, Лука! – заступился за своего помощника Зернов, видя, что тот, и правда, может потерять свое главное украшение. И тогда останутся одни презрительно вздернутые округлые ноздри, безвольный подбородок и обнажится все ничтожество этого жалкого, безвольного лица с водянистыми глазами.
– Довольно, Лука! Идем!
– И с места не сойду, пока не скажете!
– Мы же так Мишку провороним!
– А плевать мне на Мишку. Пока о Липе не узнаю правду, ни с места.
Они стояли неподалеку от вокзала. Хмель усиливал упрямство Луки, его широкий лоб лоснился. Лисьи глазки в темноте казались зелеными.
Когда Зернов, закуривая, чиркнул зажигалкой, он увидел, как и лицо Белова позеленело от злобы. Он взъярился не на шутку. И отступать было некуда.
– Ну я за что купил, за то продам, – начал Зернов.
– И я тоже, – поддержал Бусыло. – Болтают, будто крутит она с Эдиком.
– С этим подонком? Быть не может! – И Лука успокоился.
– А больше знать ничего не знаю! – продолжал Бусыло.
– То-то! На будущее держи язык за зубами! Пошли! – и Лука первый двинулся по улице в направлении к Пушкинской.
– Что такое? Фонарей стало меньше!
– И на моей стороне нет! – отметил Лука, подразумевая под «своей» деревянный забор, откуда он предполагал вести наблюдение.
– Перегорели, что ли? – спросил Бусыло.
– Наверно, – согласился Лука. – Стой, слышишь, под ногами скрипнуло. Посвети зажигалкой, Левка!
Вспыхнула зажигалка. В ее неровном свете замерцали тонкие, хрупкие кусочки разбитой лампочки.
– Нам лучше, – подумав, сказал Зернов и понизил голос: – мы-то увидим, а нас – нет. Да и безопасней. Ну, по местам!
Бусыло и Зернов заняли место на пролете между вторым и третьим этажом, намереваясь обрушить кирпичи на голову Михаилу.
Лука встал за забор, сквозь пролом видя улицу и далекие горящие фонари над пустынным тротуаром. «Да, а чем же? – спохватился он. – Хорош я работничек! Мизинцем-то Мишку не свалишь. Чем же?» И тут он нащупал прямо у пролома увесистый кол, вывороченный Эдиком из ограды еще в прошлый раз.
И Лука повеселел.








