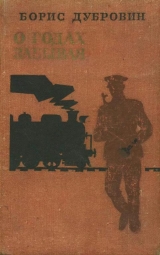
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
IV
Словно пронзенный иглой слитых лучей, ослепленный светом фар, летел смертельно перепуганный джейран, будто и не задевая земли, вытягивался, надеясь вырваться из гудящей линии света, мчался перед газиком, метался из стороны в сторону.
– Правей, правей обгоняй! – подался вперед Кулиев и тронул шофера за рукав. Но тот насупил брови, а скорости не прибавил.
– Гони, тебе говорят, гони! Не успеем человека спасти! Вот характер!
– Сами шею свернем, некому будет спасать!
Отливая серебром, круп джейрана сверкал перед машиной. Не стало видно взлетающих, как бы пытающихся оттолкнуться от лучей света узких округлых копыт. Свет погас. Взвизгнули тормоза, осекся мотор. Все подались вперед и молчали.
Кулиев открыл рот, торопясь отдать приказание строптивому водителю, но мотор заработал, вспыхнули фары, выхватывая глянцевую спину асфальта, и газик ринулся сквозь пустыню.
– Неужели это Атахан? – спросил Кулиев доктора, а сам подумал: «Нет же, нет, Атахан должен быть в отпуску, в Крыму».
Доктор молчал, как будто и не слышал вопроса. «Достать бы сыворотку…»
– Неужели Атахан? – опять спросил Кулиев.
– Ах, товарищ секретарь райкома, кто же еще, кто? – недоброжелательно, сквозь зубы, пробормотал шофер. – Я все знаю!..
Кулиев пропустил его слова мимо ушей и снова обратился к доктору, понимая, что никто сейчас ничего не знает, но не в силах был сдержать себя:
– Выживет?.. Тахир Ахмедович, выживет он?
Доктор пожал плечами, стараясь не смотреть в глаза Кулиеву. Тахир Ахмедович знал, что Кулиев давно следит за судьбой Атахана, опекает его. Кулиев сам когда-то служил на границе, как и Атахан. После демобилизации был парторгом на промыслах, где работал Атахан.
– Почему молчите, Тахир Ахмедович!
– Страшное это дело, не скрою от вас. Тем более… все произошло ночью. Мы с вами не знаем, когда это случилось. А тут время решает все. Много зависит от физического и психического состояния человека в момент укуса. Яд распространяется быстро. Поэтому очень важно, в какой стадии это попыталась пресечь, приостановить Наташа. Худшее – укус кобры, хотя они весьма редки в этих местах, можно погибнуть через два или три часа после укуса, если не будет оказана немедленная медицинская помощь. Да ведь вы, Кара Кулиевич, на границе служили. Столько повидали, сами знаете…
– Нет, у нас ни одного пограничника не кусала гюрза или эфа. И кобра миловала. Но вот как с Атаханом?..
– Да тут еще многое и от организма зависит. Было бы хорошо, если Иванова сообразила сделать искусственное дыхание. В любом случае, в первую очередь мне как врачу, надо знать, от какой змеи человек пострадал. А я не знаю, и Наташа не знает, думаю, что ночью не знает этого никто.
– А я знаю! Все знаю! Ему только кобры нужны! За них дороже платят! – ввернул шофер Салих с неприязнью. – Заработать хотел побольше, вот и заработал!
– Что ты ползешь как черепаха! – обрушился на него Кулиев.
Газик вздрогнул, и стрелка скорости подскочила.
В больнице их ждали: дверь была открыта. На пороге старая Гюльчара, суетясь и вздыхая, говорила врачу:
– Вот сюда, сюда, – и ввела их к больному.
В больнице люди, приподняв голову с подушек, прислушивались, стараясь и по неясным звукам, и по тишине, вдруг нависшей, определить хоть что-нибудь.
Из приемной, ссутулясь, вышел Кулиев, осторожно ведя за руку Юлю. Дверь он прикрыл плотно. Девочка боязливо жалась к нему.
Перекошенное, темно-сизое, чужое лицо Атахана, его судороги напомнили Кулиеву о былом. Отчетливо всплыло в памяти, как они с местным следопытом шли по следу диверсанта около Кара-Кала… Ранней весной яд переполнял змей, которыми кишели те места… И все сначала ничего не поняли, когда крепкий, быстроногий, живой как ртуть следопыт качнулся вдруг в сторону с кабаньей тропы, застонал, сел тяжко и откинул полу халата. Пот струями лил из-под высокой шапки – тельпека. Следопыт выхватил из ножен кривой нож и вырезал у себя кусок икры правой ноги. Все кинулись к нему. «Змея. Гюрза. Место, где кусал, резать надо…» И выжил… Но ведь это мгновенно, не теряя ни минуты. А тут?
Опять хрип или стон донесся до них. Девочка схватила Кулиева за рукав полувоенного френча.
– Он умрет? Умрет?
– Нет, нет. Там и мама твоя, и доктор, и Гюльчара, – стараясь быть бодрее, уверял Кулиев… «А может, пронесет, – думал он. – Атахан везучий. Однажды, когда опасность погибнуть была так велика, – он устоял. Это произошло во время землетрясения. Атахан Байрамов стоял на посту у знамени погранотряда. Ночью, предчувствуя катастрофу, закричали птицы, ишаки. Из домов кинулись кошки, собаки. Рвались с коновязи лошади, люди покидали дома и казармы. А Атахан у знамени стоял. Не ушел с поста. Тряхнуло! Как игрушечный, треснул потолок, и расступилась стена, кровля рухнула. Крики, стоны, паника!.. А Атахан у знамени стоял. Тряхнуло еще и еще! Люди гибли. Потолок обвалился, кособокая каменная глыба согнула штабной сейф, который находился в двух шагах от знамени. А Атахан у знамени стоял… Но сейчас?..»
– А вчера дедушка умер, – всхлипнула Юлька.
Дверь приемной распахнулась. В развевающемся халате, никого не видя, выбежала Наташа, метнулась к шкафу, выхватила инструменты – и обратно.
Стараясь не оборачиваться и не слышать ничего, но жадно ловя каждый звук, Кулиев увел Юльку в комнату Наташи. Вернулся в свою палату и Федор Николаевич.
– Ну как? – встретили его все одним вопросом.
– Ведь с нашего промысла… Такой парень!.. Со мной однажды последним глотком воды в пустыне поделился, а сам чуть концы не отдал. Такой парень!.. Ах, Атахан, Атахан!..
– Ну, жив он? Не выживет? – подступили к нему больные.
– Надо жгутом перевязать руку! Перевязали? – спросила бледная девушка, зябко кутаясь в халат.
– Я сказал Наталье Ильиничне. Она ответила, что бесполезно: это не задерживает рассасывание яда. Я предложил было дать ему водки, вернее, спирта! Но и это, говорит Наталья Ильинична, расширит сосуды, ускорит кровообращение и всасывание яда!
– Паутину, паутину или землицы комочек холодной приложить, – вмешался дед, – или раскаленной железякой на это место.
– Эх, дед! – с горечью сказал Федор Николаевич. – Тебя бы туда в консультанты. Ты хоть знаешь, о чем речь-то?
– Паутинки или землицы… Надысь… внучок руку порезал, так я живо!
– Змея укусила человека, змея, понимаешь, дедушка? – объяснила бледная девушка. – Змея!
– Своя, конечно, своя кровь дорога. Хоть и внучок, а все своя.
Дед упорно прикладывал ладонь к уху, вникая в разговор. Все говорили полушепотом, а дед согласно кивал головой, думая о внуке.
– Наталья Ильинична говорит, что, наверное, придется переливание крови делать, – сказал Федор Николаевич. Услышав знакомые, торопливо шаркающие шаги, он выглянул в коридор и увидел Гюльчару?
– Ну что?
Она отмахнулась, схватившись за голову.
В комнате Наташи на руках Кулиева, обняв куклу, заснула Юлька. Она всхлипывала во сне. Кулиев боялся пошевельнуться, чтобы не потревожить ее сон. Чего-чего, а баюкать он умел. И когда в ауле рос – в семье было шестеро младших, – и когда своя семья появилась – сын и двое дочерей. Сын-то в армии, танкист, не захотел, упрямец, пойти по отцовской пограничной тропе. Вот и утюжит на тяжелом танке Каракумы. И, главное, доволен…
Он вдруг ясно вспомнил один случай, который произошел с Атаханом в ту холодную зиму, когда он и Атахан в горах преследовали нарушителя. Мороз, ветер, сбивающий с ног, покрытая инеем овчарка, смуглое лицо Атахана, его огромные черные глаза… Они бегут с собакой за нарушителем, карабкаются в гору. Нарушитель увеличивает разрыв, и Атахан сбрасывает тулуп. Новая горная тропа, поворот… Нарушитель стреляет. Пуля пробивает воротник шинели Атахана. Он все еще не спускает собаку с поводка, хотя овчарка так и рвется. Вот он сбросил шинель, Атахан бежит без валенок, обмотки вмерзают в снег, а на нем глубокие кровавые следы его босых ног… Наконец он спускает собаку с поводка. Диверсант стреляет, и собака откатывается в сторону. Босой, с одним автоматом, Атахан все-таки настигает нарушителя, заставляет бросить оружие, связывает задержанного и ведет на заставу…
Кулиеву верится: как тот диверсант, так и смерть промахнется на этот раз.
С невозмутимым видом в комнату медленно вошел доктор.
– Ну, Тахир Ахмедович? – прошептал Кулиев.
– Если бы не Иванова, все давно было бы кончено… И Гюльчара…
Оба разом обернулись, когда Гюльчара крикнула из-за двери:
– Доктор!
И Тахир Ахмедович бросился к больному.
Кулиев неуклюже высвободил затекшую руку, посмотрел на часы, в окно. Рассветало…
Когда вошли доктор и Наташа, черные круги под их глазами отчетливо проступали в лучах восхода.
Наташа приняла из рук Кулиева дочь. Кулиев выжидающе поднялся, глядя на доктора.
– Для гарантии необходимо срочно получить из Ташкента новую поливалентную сыворотку. Она помогает от укуса любой ядовитой змеи.
Кулиев на цыпочках двинулся из комнаты и в дверях обернулся:
– Спасибо, сердечное спасибо! А с Ташкентом сейчас же свяжусь…
Он притворил за собой дверь, и тут-то Наташа пошатнулась от усталости и упала бы, но доктор поддержал ее:
– Устала?
– Ну что вы!.. – как можно естественней попыталась возразить она и присела: в глазах поплыли крути.
Тахир Ахмедович подождал, когда она придет в себя и ей станет лучше. Потом он внимательно посмотрел на нее и сказал:
– Да, Наташа, это, пожалуй, единственное решение. Все сделано вами верно и быстро. Я говорю о наркозе. Надеюсь, он замедлит и действие яда. Вы поступили смело и правильно, не став меня дожидаться. Иначе от нейтротропного яда Атахана бы не уберечь.
Тахир Ахмедович не скрывал гордости за Наташу. Когда в свое время Кулиев попросил его взять девушку в больницу медсестрой, она была еще совсем «зеленой». Неприспособленность Наташи к жизни пугала врача. Но в схватке со смертью этой ночью Иванова самостоятельно сделала многое, чтобы победить. Теперь никто бы не отважился, как пять лет назад, назвать Наташу цыпочкой на каблучках. За пять лет это первый случай укуса, первый блин, но не комом. Да, обо всем ли она позаботилась?
– Тахир Ахмедович, – не двигаясь с места, уронив руки, обратилась к нему Наташа. – Тонизирующие препараты я ввела, укрыла его теплым одеялом, обложила грелками… Гюльчара на кухне… Следит, чтобы были наготове горячий чай, кофе… О молоке и бульоне я тоже сказала…
Тахир Ахмедович улыбнулся, наклонив голову. Выделение яда принимают на себя почки, поэтому больному нужно пить как можно больше жидкости, вообще необходимы мочегонные препараты. Но Наташа позаботилась и об этом. Если Кулиеву удастся достать поливалентную сыворотку в Ташкенте, то можно будет надеяться…
Вдвоем с Наташей они снова направились к больному.
– Я подежурю, будьте спокойны, Тахир Ахмедович, – проверяя теплоту грелок и плотнее укрывая Атахана, сказала Наташа. До утра не отходила она от постели больного, приказав Гюльчаре строго-настрого отдыхать: «Гюльчара, ты и так носилась, как девчонка, да еще с твоим ревматизмом».
– Сама бы отдохнула! – вздохнула Гюльчара.
…Ранним утром приехали с нефтепромыслов начальник участка и комсорг. Они не верили, что беда случилась с Атаханом: он должен был находиться в санатории, в Крыму, а он чуть не отдал богу душу в этой больнице. Накоротке узнали кое-что от Федора Николаевича. Он пытался рассказать, как всем ночью здесь было невмоготу… С особым значением добавлял: «Если бы не Наталья Ильинична Иванова, пиши пропало… Мне ногу спасла, а ему, почитай, жизнь… Да, красивый был Атахан…»
– Почему вы, Федор Николаевич, в прошедшем времени о его внешности вспоминаете? – спросил его комсорг, держась всегда, а тем более со знатным бурильщиком Федором Николаевичем, подчеркнуто уважительно.
– А потому… от укуса-то всего перекосило.
– Как, и лицо?
– Именно!.. – Федор Николаевич помрачнел.
Начальник участка, Керим Ишмурадов, не слишком огорчился:
– Во-первых, такого бурильщика любая красотка полюбит, а, во-вторых, может наладится. Медицина, знаешь, всякие сыворотки… – тут его познания были значительно скромнее, нежели в области нефтепромыслов, поэтому он сделал многозначительную мину, и они распрощались.
А вечером из своего райкомовского кабинета, глядя на закатное, быстро меркнувшее небо, Кулиев в четвертый раз звонил в правление колхоза, расположенного недалеко от больницы.
– Доктор, Тахир Ахмедович, дорогой, извини, что часто беспокою, но из Ташкента наверняка обещали прислать сыворотку. Может, еще напомнить?
– Зачем?
– Как зачем? – ахнул в трубку Кулиев. – Неужели поздно? Ударило в сердце. Неужели прозевали Атахана?!
– Незачем: сыворотку ввели. Из Ташкента Карпенко на самолете привез. Спасибо вам! Больному лучше…
Больному было еще не очень хорошо. В маленькой комнатушке, спешно оборудованной под изолятор, около Атахана сидел худощавый человек с впалыми щеками аскета. Бледно-зеленые глаза улыбались, а чуткие, как у музыканта, руки с тонкими вдохновенными пальцами лежали на коленях. И в этих руках гарпитолога Карпенко побывали сотни кобр, гюрз, эф. Истинных мастеров всегда отличает естественная будничность поведения. Так и этот художник, а его за глаза называли художником, деловито говорил:
– Тебе повезло. Это последняя ампула новой сыворотки. Прямо беда. За последние два месяца к нам в институт не доставили ни одной кобры. Понял? То-то, брат.
Атахан, еще в бытность свою пограничником, находясь по делам в Ташкенте, заглянул к Карпенко. Его поразило, как Карпенко обращался со змеями. Как неторопливо приближался гарпитолог к гюрзе, как ловко прижимал пинцетом ее голову к земле! Большим и указательным пальцами левой руки он брал гюрзу за шею и раскрывал пинцетом пасть. Лаборант, пожилой, белобрысый, с веснушками даже на руках, вставлял в пасть змеи часовое стекло. Змея тут же прикусывала стекло. Карпенко пальцами правой руки нажал, нажал еще, чуть заметно помассировал железы, вырабатывающие яд. На стекле выступили капли яда. Яд оставили высыхать, и Атахан видел потом, после высушивания, его канареечный желтый цвет. Яд кобры сушили под колпаком.
Эта «дойка» гюрзы запомнилась надолго. Запомнилось и другое: гарпитолог гюрзу поднес к мензурке, затянутой тонким резиновым лоскутом. Левая рука гарпитолога слилась со змеей. Пальцы эластично охватывали ее шею, указательный палец лежал на голове… Через проколы в резиновом лоскуте капельки яда срывались на дно мензурки, после того как большим и указательным пальцами левой руки он надавливал, массировал железы, страшные железы!.. При этом Атахан слышал мелодию. Сперва он подумал: ему чудится, потом решил, что это откуда-то долетает прихотливый восточный мотив. Его поразило то, что напевал Карпенко, то ли успокаивая гюрзу, То ли внушая ей повиновение. Можно было поручиться: гюрза подчинялась. Раз в две недели «доил» своих «подшефных» Карпенко, следя за ними ежедневно, изучал характер и повадки. Он даже дал им клички, одну звал Хитрюгой, другую Ведьмой, третью Мачехой. Одной эфе выпала на долю кличка Теща, а упитанный щитомордник был Скупердяем. В вольере, как дома, чувствовали себя Вий и Солоха – метровые кобры, отловленные Атаханом.
Атахан, глядя на гарпитолога, вбирал от него, как от аккумулятора, токи веры, стойкой бодрости и силы.
– Ты помнишь «концерт самодеятельности?» – спросил Карпенко и с удовлетворением отметил иронию в глазах Атахана. – Как они у меня танцевали в твою честь! Солоха-то, Солоха с Вием!.. А? Помнишь, как и Теща не удержалась? Ведьма и то до чего грациозна!..
В этот день в вольере Карпенко поставил магнитофон. Запись мелодии сделал он на рынке в Кабуле, наблюдая за стариком афганцем, играющим на длинной дудочке для кобры с вырванными зубами. Атахан вспомнил, как в вольере возникла тягучая, мечтательная струйка мелодии, потекла, собирая вокруг себя змей. И змеи поднимались, покачивались сомнамбулически, плывя точно в такт мелодии, впивали ее пряные звуки…
Атахан помнил, как своеобразно с вариациями у себя дома Карпенко на пианино воспроизводил ту же мелодию. Он сыграл тогда Атахану несколько произведений Шопена, две украинские песни… Глядя на его поющие пальцы и на тонкий породистый нос с горбинкой, Атахан никак не мог себе представить Григория Григорьевича с миноискателем, не мог поверить, что на счету бывшего сапера Карпенко немалое количество обезвреженных мин и снарядов.
– Знаешь, брат, сколько людей погублено змеями? – спросил у Атахана Григорий Григорьевич. – Не ты первый, и не ты последний. Глядишь – и я на очереди. По неполным данным Всемирной организации здравоохранения, от укусов ядовитых змей ежегодно страдают около полумиллиона человек. До сорока тысяч погибает. Но ведь мы с тобой, как тысячи и тысячи других, не сдаемся: пусть по сотым долям миллиграмма, но добываем яд. Ну ладно, довольно об этом. Хотя я тебе уже сказал: за последние два месяца – ни одной новой кобры! Ни одной!..
Рот Атахана, перекошенный после укуса змеи, не слушался. Не слушался и язык. С немалым трудом Атахан слепил четыре слова. Карпенко скорее догадался, чем разобрал их. Атахан с продолжительными паузами выдавил:
– Они… у тебя… будут…
– А сколько ты отловил? – поинтересовался Карпенко и пальцами забарабанил по коленям. – Сколько?
Губы Атахану не повиновались. На несколько сантиметров оторвал он от постели руку со скрюченными пальцами и, прижав большой, показал, потом повторил то же движение.
– Восемь? – уточнил Карпенко. И пальцы его начали выбивать веселый мотив. Посветлели глаза. – Восемь?
В знак подтверждения Атахан прикрыл веки.
– Спасибо, брат. Выручил. Деньги перевести, как всегда, на имя Людмилы Константиновны?
Атахан попытался улыбнуться:
– Я тебя понял. Давай поправляйся быстрее, по-пограничному. Да, слушай, мой приятель помешан на коллекционировании ножей. Он крупный ученый, академик, за ценой не постоит. Я ему как-то брякнул о твоем ноже, набросал рисунок. С тех пор житья мне не дает, умоляет, чтобы я уговорил тебя продать… Что? Нет? Ну, раз нет – значит, нет. Я твой характер знаю. А нож действительно уникальный…
Глаза Атахана самолюбиво блеснули. Карпенко нагнулся к нему, неловко чмокнул в заросшую щеку и вышел.
V
Глаза Атахана равнодушно оглядывают стену изолятора, повешенные Гюльчарой узорные, испещренные затейливыми цветами занавески на чистом квадратном окне. Мал изолятор, но окно просторно. Потолок белый, свисает лампочка с бумажным абажуром, неровно обрезанным. Личный подарок Юльки. Он слегка напоминает панаму, которую не так давно носил на заставе Атахан… Изолятор… Тихо… Иногда слышится: «Ш-ш-ш», – это, конечно, Гюльчара оберегает его…
После ухода Карпенко Атахану стало не по себе: крепился при нем, старался быть на уровне. Сейчас темнеет в глазах. Или уже вечер? Или впадал в забытье? Тихо, не жарко. Жаль, руки не слушаются. Особенно левая. Дожил! И от своих мыслей он покраснел: кормят с ложечки Наташа, Гюльчара. Наташе Юлька помогает… Кто это? А, горлинка… Села на подоконник, прошуршала крылом по стеклу… Примета… Какая? Ребята на заставе говорили – к известию…
Он провалился куда-то, а очнулся от незнакомой теплоты. С трудом разомкнул веки. На него смотрели Юлькины внимательные и требовательные глаза, а ручонки держали его за небритые щеки. От этого такая сладкая теплота. «Уколется она о мою щетину». Но говорить, куда там говорить!.. Двух слов сказать не мог. Постарался сосредоточиться, выбираясь из полузабытья.
– Это я, – втолковывала она тоном взрослого, обращающегося к младенцу, – понимаешь, это – я! – Она помедлила и увидела, что черные глаза проясняются. Юлька улыбнулась, довольная. Лучики морщинок собирались вокруг глаз Атахана. А так всегда бывает, когда люди улыбаются.
– Я принесла письмо. Мама велела тебе его показать.
В глазах Атахана неуверенно пробивался свет. И Юлька продолжала с педагогической вежливостью:
– Я тебе покажу конверт, – и левой рукой касаясь его щеки, правой шмыгнула в овальный карман своего «медицинского» халата, сшитого Гюльчарой. Матовый прямоугольник письма всплыл перед глазами Атахана. Рука Юльки начала подрагивать, а он все всматривался в буквы адреса, поняв: адресовано ему. Но от кого – сообразить не мог.
– Зачем ты глаза закрываешь? – Левая рука Юльки погладила его по колючей щеке. – Прочитал?
Она увидела, как веки его слабо шевельнулись, разжались, и девочка угадала, о чем он хотел попросить, пошевелив разбухшими, искривленными губами.
– Понимаю, я открою. – Она вскрыла конверт, вынула вчетверо сложенный лист плотной хрустящей бумаги, развернула, поднесла прямо к глазам Атахана.
По мере того как удивление нарастало, Атахан обретал способность прочитывать слова ?
«Дорогой Атахан! Это письмо начинаю в таком смущении, что мечтаю поскорее закончить. Вы не знаете меня, а мне о вас известно многое. Конечно, помните, как вы спасли моего брата Мурада. Спасли, рискуя собой, и едва не поплатились жизнью. Давно отгремела горная перестрелка, о которой рассказывал мне Мурад, но я, хоть и не была рядом, слышу те выстрелы всегда. Особенно громко зазвучали они в моих ушах, когда в наш аул пришло известие о вашей беде, Атахан. Я знаю о вас много такого, о чем сейчас не время писать… Да и смущение мешает быть слишком подробной… Поверьте, впервые (а меня, могу сказать, по праву считают гордой и неприступной) пишу первая мужчине, еще незнакомому со мной.
Меня может оправдать причина, хотя и укоряет стыд. Но за собой ничего плохого не чувствую, а несчастье ваше помогает не чувствовать и стыд. Атахан, брат для меня дороже жизни. Вы спасли его, и моя жизнь – ваша. Так я себе сказала несколько лет назад, в тот самый день и час, когда узнала о тех секундах, которые решили судьбу брата и едва не стоили вам жизни. С детства я мечтала встретить человека, похожего душой на брата Мурада. И, если разрешите, я приеду ухаживать за вами. Признаюсь, я приезжала, но вы были в беспамятстве, и Гюльчара меня не допустила, а Натальи Ильиничны не было. Гюльчара строго-настрого отказала в моей просьбе быть хоть санитаркой, хоть кем-нибудь в вашей больнице. Но мне один больной, его зовут дядей Федей, показал ваше окно. Я позволила себе заглянуть… Вы лежали спиной к окну. Я не восторженная девчонка и не впадаю в детство. Со всей серьезностью хочу быть рядом с вами, помочь, ответить благодарностью на сделанное вами для нашей семьи.
Я вкладываю в этот конверт другой, с обратным адресом, запечатанный.
Знаю, вам не то что слово написать, но и сказать его трудно. Поэтому, если разрешите мне быть около вас, пусть этот конверт опустят в почтовый ящик. Если же нет, ваше молчание будет ответом… Мурад – начальник той заставы, где вы служили с ним. Я была у него в гостях, он водил меня к тому ущелью, я видела на скале щербинки от тех пуль. Я жду, жду, Атахан.
Благодарная вам Лейла…»
Немалых усилий стоило прочитать на двух сторонах листа письмо.
Юлька сидела рядом на стуле и рассматривала ровные строки.
– Какой почерк красивый! А я букву «м» и «а» тоже могу писать, но, говорят, как курица лапой.
Атахан не слушал ее. Мысленно он поднимался с Мурадом на пост «Сибирь»; внизу пламенело лето. Они спешились. На крутых подъемах, держась за стремена, а то и за хвосты лошадей, взбирались сквозь осень навстречу зиме, вступали в заснеженные скалы, направлялись к пикету, где их поджидал любимец пограничников – ишачок Яшка. Лобастый, умный. На него около источника грузили два бидона с водой. Яшка без понукания, шаловливо помахивая длинными ушами, подходил к пикету, упирался лбом, постукивал правым копытцем в землю: «Прибыл, мол, разгружайте». Тогда-то, зачерпнув воды, пахнущей скалами, молодостью и таящей в себе что-то вечное, отпил глоток из алюминиевой кружки красавец Мурад и сказал:
– Эх, и сестра у меня растет! Золото!.. Я урод по сравнению с ней. Такому бы парню, как ты, Атахан, познакомиться с ней…
Но им пришлось знакомиться с новыми опасностями, со старыми скалами и головокружительными тропами… «Да, – снова вернулся мыслями к письму Лейлы, – Значит, из благодарности готова на все. Хорош и Мурад. Зачем разболтал о той схватке? Зачем? Так поступил я потому, что иначе не мог. Не для благодарности. А тут… вроде плата…»
«Я урод по сравнению с ней», – прямо над ухом повторил голос Мурада, и чеканное, точно с гравюры древнего мастера, вспомнилось лицо красавца Мурада, который хотел познакомить его со своей сестрой – красавицей Лейлой…
– Почему ты такой? – удивилась Юлька, держа письмо. – У тебя лицо красное стало, как морковка. Позвать маму? Нет?.. Смотри, в письме конверт. – И показала «вдвое сложенный запечатанный конверт с написанным адресом. – Что? – не поняла его жест Юлька. – Что? Отправить? Оставить? Открыть?.. Что? Разорвать?! – догадалась она, увидев, как он скрюченными пальцами обеих рук пытается что-то невидимое разделить или разорвать. – Разорвать?! Совсем? И это письмо? Это оставить. Поняла! – Девочка сложила вчетверо листок письма, поместила его в конверт, сунула под скатерть тумбочки. А запечатанный конверт порвала и с удивлением подняла, подобные крыльям крошечной ласточки, стремительные узкие брови. – А в конверте-то ничего и нет. Ты хитрый! – И высыпала клочки конверта в желтую с поломанными прутьями плетеную корзинку в углу комнаты.
Опять забытье. Как во сне, лицо, руки Наташи, уколы… Понимал – уколы. Боли не ощущал. Какое-то яркое видение: заря? всплеск огня? Бархатное красное платье? разрезанный гранат, влажно алый?.. цветы? Ну да, его любимые гладиолусы! Целый букет!.. В стеклянной вазе. И письмо… Слава аллаху, он может, кажется, распечатать конверт и прочитать.
«Гора с горой не сходятся, а пограничник с пограничником, как видишь, или, вернее, как ты не видел, сходятся. Короче, браток, это я тебя подобрал на дороге. Сперва увидел в свете фар пограничную фуражку. Ну, понятно, сразу – на тормоза. Гляжу, а ты уж одной ногой на том свете… Выпутывайся! Я был на одной заставе, где ты служил. Так хлопцы тебе привет посылают и просят передать: цветы, посаженные тобой, здорово прижились. Теперь без цветов никто себе заставу и не представляет. Чтобы ты поверил и скорее выздоравливал, передали со мной этот букет твоих любимых гладиолусов.
И еще ты, говорят, поддерживаешь с хлопцами связь. Но я тебе кое-что расскажу – свой пограничный телетайп. На днях на КПП досматриваю у шлагбаума автомашину. А шофер – из «сопредельной державы»… в промасленной фуфайке, в замызганной, пятнистой кепке – плоской восьмиклинке. Ну, я по-ихнему кумекаю малость, но вида не подаю. Он мне по-русски через пень-колоду внушает: мол, порядки наши знает, уважает, руки к сердцу прикладывает. А руки, между прочим, беспокойные. Ну, ладно. Открыл я кабину, оглядел сиденье – дырявое. Пощупал, крючком внутри проверил. Порядок. Без фокусов. Ничего недозволенного через границу не везет. Тут я за ручку кабины быстрей привычного – хвать, а он вздрогнул и – за кепку свою восьмиклинку. Поправил! Я нагнулся и под машину заглянул. И он нагнулся, и опять нервно восьмиклинку поправил. Попросил его снять кепку. Он в лице переменился, но снял. А оттуда симпатичная пачечка новехоньких советских денег – прыг и выпала!
Пишу, чтобы развлечь. Хотя, когда хлопцам на заставе рассказал об этом, они ухмыльнулись. Я-то не зная, сколько ты «артистов» вывел у КПП на чистую воду. Но думаю: все же интересно. Ну, бывай! Тут я тебе кое-чего с нашего пограничного огорода подкинул. Поправляйся. Привет от всех хлопцев!
Владимир Емков, младший сержант».
Дверь приотворилась, и с прижатой к груди тарелкой появилась сияющая Юлька. Она несла овощи.
– Это тебе прислали. Я все сама вымыла, мне мама доверяет и Гюльчара доверяет. Даже еще раз моет, после меня. Говорит, чтобы ей не обидно было: один раз я, а потом и она. – Девочка поставила на тумбочку тарелку с багряными помидорами, изумрудными огурцами и бордовой редиской.
«Смотри, еще при мне искали место под огород, – подумалось Атахану. – Спасибо…»
Юлька вышла и направилась в свою комнату.
Наташа подняла голову от учебника хирургии, по шагам узнав дочь. Юлька деловито подошла к полотенцу с вышитым фазаном и начала вытирать влажные ручонки таким же движением, как и он, ее отец, которого она не видела ни разу. И снова, снова с неотвязной ясностью Наташа почувствовала, что Георгий дорог ей, она скучает, тоскует о нем. Помнит его взгляд. Помнит его губы, очень горячие. Она провела по губам рукой, будто он прикоснулся, прижался к ним… Да, он увлек ее… Да, вышла за него. Да, он наделал долгов, а она выплачивает их не первый год. Да, бросил ее, когда она была в положении. Да! Да!! Да!!! Но что делать? Где он – неизвестно, но все время словно бы где-то рядом. Надо его презирать, а презрения – нет. Губы его слаще меда. Руки его… Прикосновение сильного тренированного тела… Юльке передал черты свои, повадки… Да, ее предупреждал Игорь, она четко услышала голос брата: «Натка, Натка, это – ворона в павлиньих перьях. Ему нужна не ты, а наша трехкомнатная квартира. Он рассчитывает безошибочно: отец – отчаянный, несмотря на седины, смельчак, свернет себе шею в полете, я, твой братец Игорь Иванов, стану военным летчиком и уеду из Москвы. Он же, прикидываясь романтиком, влюбленным в странствия и одержимый жаждой покорения пустыни, он никуда не поедет. Самый желанный его маршрут – в загс, потом в министерство – кем угодно пока, лишь бы зацепиться за Москву. А главное – наша трехкомнатная квартира. Эх, Натка, я же видел, как он смотрел на тебя на улице, когда я вас впервые встретил у дома, как по-деловому, взглядом оценщика, он окидывал тебя! И с каким вожделением он пожирал глазами наш просторный коридор. Как влюбленно воскликнул: «Настоящая передняя! Еще фактически целая комната»!» Его действительно красивые глаза блестели. Он увидел посадочное Т, выложенное ему тобой… Не перебивай, не перебивай (дослушай, дура!). Ты ходила и таяла, а я наблюдал за ним. Он просто без ума влюбился в нашу квартиру. И страсть росла пропорционально размерам открывающейся жилплощади. Мне кажется, в тот первый приход он все и решил. А когда спрашивал о здоровье мамы, – вот честное комсомольское! – так покивал головой, будто одобрял ее сердечную недостаточность. Он тогда, помнишь, проговорился, на миг проболтался: мол, пожили, пора и честь знать. И тут же проверил носком своего лакированного полуботинка паркет: не придется ли перестилать? Мне думается, Натка, он тебе и в любви-то признался после того, как увидел и оценил квартиру!»
– Нет, нет! Ты лжешь! Ты злой! Ты хочешь, чтобы я встречалась с твоим Митей. «Он – человек с большой буквы, он славный парень, он – блестящий летчик, вот кто тебе нужен», – передразнила она тогда Игоря, который все правильно предугадал. Неужели всем военным летчикам дано такое чувство интуиции, предвидения, зоркости? Как больно вспоминать, как стыдно вспоминать: да, именно в тот день в их квартире они остались одни. Ее поразили переполненные неожиданной восторженностью глаза Георгия, устремленные на нее. Да, да, потом, потом она все переоценила, а тогда так впивала сияние этих глаз, так впитывала слова первого признания, клятвы в верности…








