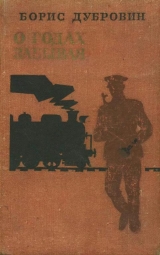
Текст книги "О годах забывая"
Автор книги: Борис Дубровин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
XXI
Наташа с Людмилой Константиновной поздним вечером въезжали в поселок. Машина шла по неширокой улице, мимо домов, освещенных электрическими огнями. В одном окне показалась смуглая женщина с черноголовой девочкой на руках. Косички развевались: мать, шутя, кружилась с дочерью. На углу здания надпись: «Улица Пограничников, дом 2». Виднелись столбы с фонарями. Некоторые столбы вкопали недавно, и провода к ним не были подведены.
Снова – дома. Двухэтажное аккуратное здание с добротным крыльцом – медпункт. Рядами потянулись складские помещения. Рабочий на предпоследней перекладине лесенки-стремянки с пучком гвоздей во рту прикреплял над входом вывеску – «Продмаг».
Лихорадило от предчувствия встречи с больным ребенком и с Атаханом. Первый выезд – врачом. И, может быть, встретится с Атаханом. Может, и нет. Поселок не так мал. Порой люди живут в одном доме и годами не встречаются. Как знать: вечером приехала и ночью уедет!.. Но что с ней? Ожидание, тревога, страх, почти ужас охватили ее. «Эх, если бы рядом был Игорь!..» Проехали бараки, Людмила Константиновна опустила стекло, выглянула…
– Людмила Константиновна! – от этого голоса все всколыхнулось в Наташе. – Людмила Константиновна! – От медпункта с каким-то пузырьком в руке бежал Атахан.
– А он поправился! – вслух заметила Людмила Константиновна.
Наташа не могла пошевельнуться. А голос Атахана уже был рядом.
– Людмила Константиновна!
Машина стояла под фонарем, и, наверное, поэтому Атахан так встревожился, увидев кровоподтек на лице воспитательницы.
– Где вы так ушиблись? Немедленно в медпункт. Я провожу вас.
– Да нет, не больно, – трогая свой лоб, ответила Людмила Константиновна и, на удержавшись, потянулась из машины, поцеловала Атахана в небритую щеку.
«Что это она его целует? Какой красивый! Как изменился! Вот он какой!» – с неожиданной радостью и ревностью подумала Наташа, наблюдая, с какой нежностью помогает Атахан выйти из машины Людмиле Константиновне, почти вынося ее и осторожно опуская на землю.
– Павлик спит? Или ты ему по доброте душевной гулять так поздно разрешаешь?.. Что с тобой, Атахан? Отвечай! – Людмила Константиновна оперлась на его руку и подозрительно посмотрела на бутылочку с микстурой. Бутылочка поблескивала под фонарем.
– Выживет ли? Не знаю! – пошевелил он губами, и у Людмилы Константиновны болезненно сжалось сердце.
– Так это к нему врача вызывали?
Атахан не успел ответить.
Из машины выдвинулась рука с чемоданчиком, выскочила Наташа. Она поспешно поздоровалась и, не взглянув на Атахана, суше, чем хотела бы, спросила:
– Где он?
Наташа взяла на ходу из рук Атахана бутылочку с микстурой, внимательно прочла надпись на этикетке и с Людмилой Константиновной заспешила вслед за Атаханом.
Тут же, за бараком, была юрта. Дверь в юрту раскрылась и Наташа скорее поняла, чем разглядела: Павлик! В его руке был зажат рисунок Юльки. В свете керосиновой лампы рисунок казался выполненным черным карандашом, а Павлик – мертвым.
Миг – и Наташа у его раскладушки. Миг – и она ищет пульс. Ее колотит всю. Есть пульс? Или кажется? Какое робкое, замирающее биение! Мелькнула сумасшедшая мысль: держать за руку, не отпускать, тогда он не умрет! Но, присев на низкую узенькую скамейку, она уже открывала чемоданчик. Вот и шприц. Вот камфара. Она набрала камфару в шприц.
– Здесь доктор? – встревоженно заглянула в юрту жена главного механика. – Здесь доктор? Ее там очень, очень спрашивают.
Наташу поразила худоба ребенка. На мгновение почудилось, что это Юлька. Холодеющая ручонка…
Укол внутримышечный… Пульс? Пульс?! Пульс?!
Такой тишины Наташа не помнила в своей жизни. Ну же! Ее пальцы, лежа на запястье ручонки Павлика, молили, заклинали, вызывали пульс. «Если сочту до десяти, а пульса не будет, значит – все. Раз, два, Павлик, живи! Три, Павлик, прошу, умоляю! Четыре! Павлик, ты мне так нужен! Пульс! Пульс?» Теперь боялась поверить, боялась шелохнуться, чтобы не спугнуть его.
Рядом, закрыв глаза рукой, стоял Атахан.
Пульс! Пульс!! Пульс!!!
– Доктор! Там вас очень спрашивают!
Людмила Константиновна прильнула к Павлику:
– Это я… Людмила Константиновна!
Но мальчик лежал без движения.
Еще укол.
Ребенок задышал судорожно, но задышал! Что-то пролепетал в бреду.
– Доктор! Доктор! Вас очень спрашивают! – задыхаясь от спешки, с тревогой окликнула Наташу женщина.
Наташе показалось, что Павлик оживает, приходит в себя. Тут ее еще тревожней и настойчивей окликнули снова. Захватив с собой чемоданчик с инструментами, она вышла из юрты. Жена главного механика – полная, дородная, с гордой, высоко посаженной белокурой головой, с двумя кольцами на безымянном пальце левой руки, взяла Наташу за локоть и повела по улице:
– Тут вас опять спрашивали.
Она с недоверием покачивала головой, говорила, что, мол, этих людей она знать не знает и ведать не ведает.
Наташа еще душой была с Павликом. Поэтому, не слушая ее, ускорила шаги и вошла в темный тихий домик.
Ее взяли за левую руку чьи-то безвольные потные пальцы:
– Идем!
Жена главного механика постояла у парадного, прислушиваясь к удаляющимся шагам и поправляя кольца, опять покачала головой.
XXII
Настораживаясь и ничего не различая в чернильном мраке, Наташа прошла десять ступеней, пролет и еще десять ступеней. Потная рука тянула ее за собой.
Дверь отворилась. На Наташу пахнуло свежим раствором побелки, зажелтел свет керосиновой лампы в глубине пустой комнаты.
Возле окна на козлах, сбитых в виде стола и покрытых газетой, виднелись бутылки с коньяком, мясные и рыбные консервы, ломоть хлеба и банка баклажанной икры. Одна бутылка была пуста, другая почти допита, две другие – открыты, но не начаты. На дне стаканов коричневым цветом чая мерцал коньяк. В углу – ведро с побелкой, пульверизатор, замызганная табуретка, толстая прямоугольная скамья.
– Где больной? – оробев, спросила Наташа, увидев выступившего из мрака «поводыря». Злополучный Курбан поправил галстук.
– Здесь больной! Здесь тяжело больной!
И Наташа чуть не кинулась навстречу пьяному, но долгожданному, неповторимому голосу. Она ступила вперед.
Из-за двери в чесучовом костюме вышел Георгий – плечистый, сильный, красивый. Руки согнуты в локтях, точно он раскинет их для объятия или прижмет к своей груди, прося прощения. Но Георгий ли это? Да, конечно, он стал еще крупнее, массивней.
Он сделал к ней шаг, она – к нему…
– Музыка, туш! – Пьяный Курбан ударил одной консервной банкой о другую. Куски мяса шлепнулись на пол, капли соуса обрызгали чесучовый пиджак, чемоданчик Наташи.
– Кто этот человек? – отступила Наташа, указывая на Курбана.
– Где человек? Какой человек? – отступил и Георгий. – Не обращай внимания!
– Не обращай внимания! – поддержал и Курбан. – Что? Это я – не человек? Что? Не обращай внимания! – и снова, поправив галстук, чуть не сорвал его с шеи. Потом снял его и повесил на дверную ручку.
Пошатываясь, Георгий прошел к столу, вывернул фитиль, лампа зачадила. Налил остатки из бутылки. Не хватало. Долил из другой.
– И этот тяжелобольной – я! – Он смотрел в ее лицо, на первые морщинки у рта, в ее глаза. Мгновение назад Наташа рванулась к нему, но сейчас отстранилась. – Я могу вылечиться при единственном и непременном условии – если мы будем вместе… Хватит! И ребенок у нас – во какой! На большой! И хватит! Довольно разлуки! – Он видел, как, оставаясь неподвижной, она отдаляется, ускользает, исчезает, хотя можно шагнуть, тронуть ее за руку.
Зрение и интуиция не обманывали. Находясь в разлуке, она была ближе к нему. А сейчас – она ощущала, видела это – сейчас между ними возникла пропасть, которая ширилась… А внутренний голос шептал ей: «Ну пусть он пьян, но он просит прощения, он готов вернуться. Что тебе еще? Не об этом ли мечтала?»
– Я встретился сегодня с Игорем, он привет тебе передавал! – Георгий поднял стакан, другой взял Курбан и, пошатываясь, протянул ей.
Она не шевельнулась. «Врет, врет! Никогда Игорь не передавал приветов ни ему, ни мне. Увидеть мог случайно, но привет? Нет, Игоря я знаю. Он прощать не умеет… А надо ли? Возможно ли прощать предательство? Но предательство ли было, если он разлюбил? А может, я так думаю, потому что охладеваю к нему? Совсем недавно я старалась, могла, готова была простить ему все. А теперь?»
Георгий шагнул к ней, взял за руку. Но для нее эта рука была чужой. Огарков почувствовал это. И пальцы его разжались. А сердце стиснуло: почувствовал, что любит Наташу. Любит! Он любит эту женщину так, как никогда никого не любил и не будет любить! И он будет сражаться за нее!
Он снял пиджак и повесил на спинку стула.
– Меня ждет больной! – Она порывалась уйти.
– Тебя жду и дождусь я!
Губы ее полураскрылись так, как бывало, когда она ждала его губ.
– Курбан, закрой дверь, всунь палку.
Курбан исполнил приказание, криво вставив палку в ручку двери.
– Теперь ты моя! Курбан, выпьем за здоровье моей любимой женщины, моей жены! Выпьем! – Они почти прижали ее к стене протянутыми стаканами, из которых выплескивался коньяк.
– Выпьем!
Голос звучал как из небытия. Вот сейчас она очнется, обнимет его, и они будут вместе?.. Навсегда?!
..Павлик метался в бреду. А Наташи все не было. Атахан вышел, не понимая, куда она могла пойти…
На пороге юрты его схватила за рукав жена главного механика. Свет из юрты упал на ее недоуменное, растерянное лицо:
– Доктор в том доме! В том, где побелку начали. – Она опустила глаза и отступила в темноту.
Ускоряя шаги, Атахан пошел, побежал: чуял недоброе. На бегу прикидывал: где? в каком подъезде? на каком этаже? что с ней? кто с ней? с кем она?
Двухэтажный домик спал. Только в верхнем крайнем окне виден был огонек. Атахан взлетел по ступеням.
Удар в дверь, еще! Не открывают. Удар, рывок. Палка, хрустнув, выскользнула. Дверь распахнулась. В свете керосиновой лампы на пороге возник Атахан. Его глаза, наливаясь свирепым черным блеском, увидели в свете керосиновой чадящей лампы коньячные бутылки, консервные банки, огрызки хлеба. В правом углу, припертая к стене, сжав кулаки, стояла Наташа. Чемодан был у ног. По обе стороны ее стояли Георгий и его подшефный с двумя стаканами коньяка.
Наташа успела увидеть, как с порога Атахан бросился к ней, и силы оставили ее, все заметалось перед глазами, она пошатнулась. Оттолкнув этих двух, Атахан подхватил ее. Наташа очнулась. Атахан с несмелой бережностью гладил ее по голове, когда воинственный Курбан наскочил на него.
– А ну, убирайся отсюда, пока цел, – истерично крикнул он Атахану. – Или я тебя… дикарь… в милицию… – и швырнул в него стакан с коньяком, едва не задев Наташу… Атахан неторопливо усадил Наташу на табуретку и повернулся к пьяному Курбану. Курбан изготовился швырнуть второй стакан в голову Атахана, но скользящий удар Атахана по лоснящимся губам вызвал смешной звук «Брень»! Стакан выпал, коньяк оплеснул мокасины Курбана. Онемев от резкого удара, он открыл вспухшие губы, но опять последовал сильный удар. В пустой комнате гулко раздавалось: трень-брень, трень-брень!
– А! Атахан! – отчаянно предостерегла Наташа и бросилась на Георгия: тот замахнулся над головой Атахана тяжелой прямоугольной скамьей. Рискуя собой, Наташа в последний миг изо всех сил толкнула Георгия в бок, и он рубанул скамьей мимо головы Атахана, задев его куртку. Скамья разбилась, оставив трехугольную вмятину в полу. А разъяренный Георгий зарычал:
– Сука! Так это ты с ним!..
– С ним! – вызывающе прижалась к Атахану Наташа.
– Ах ты… – но рука Атахана стальной хваткой сцепила Георгию горло.
Еще путаясь в догадках, Атахан метнул взгляд на Наташу. В глазах его была и любовь, и надежда, и сомнение:
– Это он?
Руки Наташи мертво повисли вдоль туловища, лицо подернулось матовым цветом, бледные веки опустились.
– Павлику нужна помощь, Наташа. Если спросят обо мне, я скоро приду, – сказал Атахан.
Курбана в комнате не было, лишь на дверной ручке раскачивался оставленный им галстук. А когда Наташа нетвердыми шагами направилась к двери, по лестнице загрохотали шаги, будто кто-то кубарем скатился вниз.
Наташа ушла, на миг лишь оглянулась с порога.
Атахан опустил Георгия, посмотрел на его выпученные глаза, разжал пальцы. Георгий судорожно глотнул воздух. Потом поднял голову. Клок волос съехал на лоб. Атахан присел около него на корточки:
– Сейчас мы уйдем отсюда. Если вы будете себя прилично вести, все будет в порядке…
Георгий кивнул, соглашаясь, поправил волосы.
Атахан помог ему подняться, глазами указал на пиджак, висящий на спинке стула, и на портфель. Георгий понял: надел пиджак, взял портфель. Крышка портфеля откинулась, обнажив круг колбасы, мочалку и торчащий из ядовито-желтой газеты хвост селедки. Атахан опустил туда банку с баклажанной икрой. Георгий поспешно защелкнул оба замка.
Атахан уменьшил пламя в лампе, дунул на двуглавый огонек… На ощупь выбираясь из комнаты, Атахан левой рукой задел за галстук Курбана, висящий на дверной ручке.
В темноте шли по поселку. Шагая на четверть шага позади Георгия, Атахан кратко приказывал:
– Прямо! Левее! Налево!
С черного хода, миновав медпункт, они проникли к подземному складу. Над землей, в скупом свете высокого фонаря, виднелась цементная гладкая крыша.
У ступенек, ведущих вниз к двери, Георгий рванулся назад, но грудь с грудью столкнулся с Атаханом. А увидев выражение его глаз, покорно повернулся и начал спускаться.
Атахан отомкнул массивный замок и открыл дверь, пропустив вперед Георгия. Войдя во внутрь, Атахан захлопнул дверь. Вспыхнула спичка. Атахан снял со стены фонарь «летучая мышь» и зажег его. Тесное пустое помещение слабо осветилось. Посередине, на крючках, ввинченных в потолок, висели два бязевых мешочка, плотно затянутые шнуром у горловины, как кисеты. Меньший мешочек дернулся, издав шипение, будто из проколотой автомобильной шины вырвался сжатый воздух. Стенки мешочка заметно раздулись. Георгий с опаской подозрительно глянул на мешочек. Атахан повелительным жестом пригласил войти во вторую, открытую перед ним дверь.
Вторая комната оказалась вместительнее. Вдоль правой стены хранились тюки ватников и брезентовых тужурок, брюк и плащей. В три ряда стояли бидоны и бутыли, оплетенные прутьями.
Атахан вошел вслед за Георгием.
– Вы пробудете здесь до утра. Утром я вас выпущу, вы немедленно покинете нашу Туркмению навсегда!
Георгий порывался ответить, но Атахан продолжал:
– Не пытайтесь шуметь или, чего доброго, бежать.
– Можно закурить?
– Пожалуйста!
Атахан вышел в соседнюю комнату и вернулся с бязевым мешочком, металлическим прутом, загнутым на конце, и с двухметровой деревянной палкой, увенчанной рогаткой.
– Взойдите на тюк! – посоветовал Атахан. И когда Георгий с зажженной папиросой взобрался на самый высокий тюк, Атахан коротким движением распустил шнур и бросил мешочек на пол… Из него, угрожающе извиваясь, выползла очковая кобра и круто взвилась в боевую позицию, раздула капюшон, закачалась, готовясь к смертельной атаке. Раздвоенный язычок ощупывал воздух.
Георгий, вжимаясь в стену, подергивался от страха, расширенные ужасом глаза выкатились из орбит, словно его опять схватили за горло. Рука, машинально держа папиросу, дрожала.
Атахан неторопливо снайперским рывком деревянной палки с рогаткой прижал кобру к полу, как червяка. Поддев змею металлическим прутом, Атахан поднял ее на крючке.
Георгий вскрикнул, видя, что Атахан собирается бросить змею на него. Огонек папиросы жег пальцы, однако Георгий боли не замечал, загипнотизированный предсмертным ужасом.
Кобра извивалась, порываясь соскользнуть с крючка или пытаясь на самом крючке найти опору, чтобы взвиться для атаки. Незаметными колебаниями Атахан удерживал змею в нужном положении перед помертвевшим от страха Георгием.
– Яда этой кобры хватит на пятьдесят человек, – борясь с собой, не уверенный, что сумеет победить свою жажду возмездия, быстро сказал Атахан. Рука повернула палку так, чтобы кинуть кобру к предплечью Огаркова. Огарков взвыл от ужаса.
– А вас будут сторожить три таких. Спокойной ночи. – Атахан, подхватив мешочек и фонарь, неся на крючке взбешенную змею, вышел и притворил за собой дверь.
XXIII
Атахан вышел из склада, с отвращением вытирая о куртку руку, которая только что сжимала горло Огаркова. Губы Атахана были сурово сжаты: «Вот кого она любила! И любит, конечно. Зачем бы иначе ей так долго быть там? Зачем идти туда? Кинулась ко мне, выбила скамью у него, ну не выбила – оттолкнула его, так это – порыв…» Из круга жидкого света, образованного фонарем, Атахан вступил в темноту, не слыша, как поскрипывают камешки и песок под сапогами.
«Она стала для меня еще дороже, – думал Атахан, еще не успокоившись от пережитого. – Что ж, пусть не мая, пусть не со мной, но любить-то ее мне никто не помешает! Может, она мне хоть Павлика спасет?» Он вздрогнул, увидев нечто кругообразное.
Из темноты с огромным букетом роз выступил Карпенко.
– Атахан, дорогой! Ты чем-то взволнован? А я к тебе!
Атахан мрачно кивнул, коротко пожал руку Карпенко, собрался разуверить: мол, ему, Атахану, хорошо. Но ему было плохо. Он дал знак рукой, и Карпенко следом за Атаханом на цыпочках, неслышно проник в юрту – в запах эфира, камфары, в ночь страдания и неизвестности. «Вот отчего он так мрачен. Ну и промахнулся бы я, если бы сразу, как меня просил мой друг, напомнил о ноже», – вздохнул Карпенко.
Наташа, сделав укол, повернулась на слабый запах роз, не поняв, откуда он. Оглянулась, увидела букет в руках Карпенко и в невольном смущении, как бы не заметив Атахана, жестом попросила вынести цветы: больному нужен чистый воздух. Карпенко вышел из юрты.
Павлик горел. Сердце точно висело на ниточке, дергалось, трепетало. Чудилось, ниточка вот-вот оборвется…
В скорбной тишине юрты тикали часы, точно отсчитывая последние секунды Павлика. Он тихо застонал в бреду.
Может быть, так виделось в свете лампы, но волосы Людмилы Константиновны стали еще белее, а когда она наклонилась над пышущим жаром Павликом, прядка ее волос напомнила Атахану прядку хлопка.
Наташа на спиртовке кипятила в воде шприц, поминутно взглядывая на Павлика, на его руки. Черные губы ребенка шевелились. Под сомкнутыми веками метались запавшие глаза.
– Немного приоткройте дверь, воздух нужен, – попросила Наташа.
В дверях появилась жена главного механика. Женщина, не переступив порог, застыла в темноте у приоткрытой двери. Неизвестность, отчаяние, ожидание, ожидание…
А темнота ночи сгущалась. Уменьшалась надежда, росло отчаяние. И ночь становилась непроглядной…
XXIV
В темноте склада Огарков долго стоял на тюке ватников, не решаясь сдвинуться с места. «А вдруг он одну змею оставил здесь?» Потом все же опустил портфель, на ощупь определив, что стоит на брезентовых куртках. Нервы были напряжены, и когда пальцем задел крючок куртки, Огарков, вскрикнув, вскочил, как укушенный змеей. Первый приступ страха парализовал волю, а этот отрезвил, обострил восприятия.
Прислушался: шорох.
Мурашки пошли по спине, волосы на голове начали подниматься, он явственно ощутил, как они поднимались, вставали дыбом.
Шорох все ближе.
Он завопил беззвучно: в отчаянии потерял голос. Дрожащими руками чиркнул спичкой. Из темноты выступили бидоны, бутыли в плетеных корзинах, тюки ватников, плащей. Он приподнял руку со спичкой. На всякий случай щелкнул замками портфеля (они точно выстрелили!) и достал банку с баклажанной икрой: «Хоть банкой ударю, если начнет подползать». Огарков одной рукой схватил банку, другой пригладил волосы. Силы возвращались. Он вздохнул, осваиваясь в кромешном мраке. Чиркнул спичкой, поудобней положил портфель, сел на тюки, свесил ноги на бетонный пол…
«Но почему же ты, – обратился Огарков к себе, – почему же ты, такой натренированный и сильный, не смог справиться с этим Атаханом? Почему?» И ответил сам себе с беспощадной прямотой: «Когда Наташа вскрикнула «Атахан» и заслонила его собой, оттолкнув мою руку в сторону, я понял, почувствовал, что ударяю по себе. Та вмятина не на полу – на мне. Ничем ее не заровнять!.. Так вскрикнуть, так броситься, так заслонить собой способна женщина не влюбленная (о, если бы влюбленная, увлеченная, это все не страшно), а любящая. Любящая! Любящая его! Не меня!»
В абсолютной темноте он вскочил и закричал в истерике:
– Ползи! Кусай! Скорей! Я здесь! Скорей кусай! – И швырнул во мрак банку, портфель, схватил тюк, бросил, вцепился в следующий. Но тот был связан с другими. Огарков вцепился зубами в веревочный узел, развязывая. Неистовство начало иссякать. «Да, я уже не боюсь обратиться в ничто, ведь я и теперь – пустое место, меня нет. Глаза Наташи так вспыхнули, что все испепелили во мне. Нет во мне воли, не хочу жить».
Почудился шорох, но он уже не испытывал страха. «Что мне теперь в жизни? Все лица вокруг – как маски для меня, что мне до их судьбы? Я жил только для себя, а теперь меня нет, кончился».
И он опять вспомнил, как она кинулась к Атахану на помощь. Как она смотрела на него! «Она на меня в день объяснения в любви так не смотрела. А может, и нет ничего между ними?.. Нет, все ясно: она – его! Его!»
И застонал от муки, впился зубами в мякоть руки. Пытался заплакать. Без слез зарыдал, содрогаясь всем телом. И если бы кто-нибудь мог увидеть его, бившегося в рыданиях под сводами склада, тот понял бы, как убийственна расплата за подлость.








