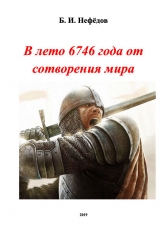
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 38 страниц)
Зашел в соседние ряды. За «горнець» привозного масла просили 0,2 гривны кун. Это – горшок такой, а в нем масла порядка 5 килограммов. Попробовал – не понравилось. Горчит. Прав Сергей, чувствовалось, что масло по-настоящему в это время делать еще не научились. Мед продавали по 10 кун за пуд. Брать можно. Соль – по 4,5 ногаты за пуд, при этом продавец божился, что через неделю она будет не меньше 5 гривен кун за 10 пудов (160 килограммов). Вдвое дороже. Смотрю, некоторые верят, торговля солью шла бойко. А вот за воз дров (килограмм 400–500) просили 2 ногаты. Придется дрова самим привозить, для моей орды, да для производства хлеба, что я задумал, дороговато получается.
Надо было бы в лошадином ряду еще потоптаться, но я понимал, что времени у меня уже не осталось. И действительно, когда подошел к Сергею, он уже прощался со своим контрагентом. После этого он чем-то очень довольный, заявил, что он в моем распоряжении и повел меня по моей просьбе в ряды, где продавали зерно. Я решил пройтись здесь, да цены посмотреть. Этот товар меня интересовал особо, ведь мукомольное производство мною было задумано, да и армию мою будущую кормить надо, а основой ее питания будет хлеб. За один новгородский короб ржи (около 420 литров) просили 15 ногат, а за кадь (она в два раза больше) – 30 ногат, а это 1,5 гривны кун. Для сравнения, за короб пшеницы отдать нужно было 25 ногат. В килограммах и тоннах потом посчитаем. Но уже сейчас понятно, что не дешево. Еще успел прицениться к сену и овсу (лошадок-то кормить надо будет). Овес в среднем стоил втрое дешевле ржи. Как я понял, это обычная пропорция и в принципе соблюдалась в ту пору в самые разные года. Цены же на сено были в пределах двух ногат за воз (как дрова). Если считать, что в стогу где-то в среднем по 10 возов, то стог стоил 20 ногат, т. е. 1 гривну кун. Иначе говоря, за новгородку можно было получить 4 стога. Не так, чтобы дешево, но и не заоблачно дорого (как птицы или кошки).
Сергей в сторонке уже в нетерпении постукивал ногами:
– Слушай, давай заскочим в немецкие ряды, я там еще одно свое дельце обговорю, а ты там рядом лошадок посмотришь.
Я не возражал. Оказалось, это рядом. Конечно, в «немецких» рядах торговали не только немцы, но и англичане, свеи (шведы по-нашему), «гости» с Востока и вообще иностранные купцы. На прилавках лежали и фламандские ткани, и сукна, и вино, и медь, и янтарь, и изделия из металла, и керамика. А чуть в стороне торговался как раз тот товар, который меня особенно интересовал – лошади. В этот день здесь предлагались в довольно большом количестве так называемых «клепперы» – некрупные рабочие лошадки, было и несколько боевых коней. Честно признаюсь, рядом продавали лошадей и новгородцы, но лошади у них были намного хуже. И те и другие в оплату просили пушнину, моржовый клык, мамонтовую кость, лен, воск, древесину, но до торга дело не дошло. Я пока только приглядывался, поскольку купля-продажа лошадей требовала отдельного самостоятельного визита, да и предварительной подготовки (решения вопроса с размещением, кормом и обслуживанием лошадей).
Наконец, Сергей со своими делами закончил.
– Так, тебя что на торге еще интересует?
– Где тут кузнечный ряд?
– Во-первых, кузнецом в Новгороде называется любой мастера по металлу, так что есть «кузнец по железу», «кузнец по меди», «кузнец по серебру». Я так понимаю, что тебя кузнецы по железу интересуют. Но тут, опять же, есть кузнецы-универсалы, оружейники, щитники, шлемники, бронники, стрельники, замочники, гвоздочники, секирники-топорники, ножовщики, серповники, булавочники, уздники, кузнецы, изготовляющие весы… В общем, тут не один ряд. Тебе кого надобно?
– Не выделывайся. Понятно кого. Давай к тем, кто мечи кует, потом к тем, кто кольчуги делает, потом к тем, кто кует копья, сулицы, ну и в конце – к тем, кто делает стрелы.
– Так мы до утра всех не обойдем.
– А ты поторопись. Давай, с мечей начнем.
– Мечи есть и привозные…
– Нет, мне к тем, кто сам кует, да не к каждому, а к тем, что порукастее, помастеровитее что ли.
– Тогда это вот сюда. Вон две лавки рядом. Две самые уважаемые семьи, кузнецы-оружейники со старыми традициями. Только у них между собой сейчас ну если и не война, то что-то типа того. Короче, проблемы серьезные возникли. Вот ведь жизнь, а еще месяц назад друзья были – водой не разольешь.
– Конкуренция?
– Да нет, заказчиков у тех и других хватает. Дети подросли. Сынок одного влюбился в дочку соседа, а та в него. Сватов послали. Девка, не скрывая, двумя руками за, перед отцом на коленях стояла, умоляла отдать ее, а отец взял, да сватам и отказал.
– Боярина подавай?
– Да нет. Тут ведь как? У Ремши (отца жениха) еще два сына, но те постарше. А сыну кузнеца, чтобы стать кузнецом, т. е. иметь свой постоянный (и довольно высокий) заработок, одного умения мало. Нужна еще наковальня, т. е. несколько пудов первоклассного железа, да к ней пару мешков с щипцами, клещами всякими, зубилами, молотками и прочим кузнечным инструментом. Представляешь, сколько все это здесь стоит? Старшему сыну отец свою кузню передает, а среднему, если и наберет гривен, так только наполовину. А вторую половину где брать? К другим наниматься? При его-то золотых руках полжизни только на инструмент работать? А что о третьем говорить? А жених-то как раз третий сынок и есть. Вот и не хочет Свирей (то есть, отец невесты-то) дочь на неизвестную судьбу отдавать. Он-то сам в такой же ситуации. У него самого еще два сына. Одному его кузня в наследство, а второму? А второй вон недавно цветок железный сковал. Все дивятся, а толку-то. У младшего нет никакой надежды. А ведь тоже прирожденный коваль. Такие вот проблемы.
– А ты откуда все это знаешь?
– Они – люди в городе известные, уважаемые. Сплетни о таких быстро расходятся. Да и сам город-то… многомиллионную Москву и то в нашем мире большой деревней называют, а тут всего-то 30–35 тысяч, и то, наверное, не будет. Чего ж не узнать.
– Ну, пошли, посмотрим на этих монтекки и капулетти. Если действительно мастера, и если действительно дело только в этом, то я их Ромео с Джульеттою мигом под венец подведу. Как я понимаю, ко всеобщему счастью. И мне экономия!
Но, если честно, для меня было и то важно, что впереди такие тяжелые времена наступают, когда хорошие кузнецы на Руси еще ой как нужны будут, ими не разбрасываться надо, а помогать. Если можешь, конечно. Вот и у меня появилась возможность этому делу, пусть немного, но поспособствовать.
Но смотреть оказалось, собственно, не на кого. И в той и другой лавке были в продаже так называемые каролингские мечи (более ранние) и появившиеся несколько позднее романские мечи с характерным дисковидным навершием. И те и другие исключительно для рубки и потому мне никак не подходили. Впрочем, я их покупать и не собирался. За прилавками и там и там стояли явно не главы семейств, что, в общем-то, было не удивительно. Дома кузнецов, как и кузни, по сложившейся традиции находились на окраине, работали ремесленники в ту пору только под заказ и потому главы семейств, с учетом возраста, часто сами на торг не выезжали.
Сергея и там и там знали, поздоровались с ним радушно. Пользуясь этим я и пригласил главу и того и другого семейства на следующий день (в субботу) после обедни (т. е. после 3 часов дня) «к нам» в гости под предлогом обсуждения возможного большого заказа.
Зашли еще к кольчужникам (точнее, как оказалось, к бронникам, да и кольчуга называлась «кольчатой броней»). Этих пригласил на то же время, но на воскресенье. Торопился я не случайно. Дальше начинался очередной пост. Хотя он был не такой строгий и по воскресеньям (а также по праздникам, которые на пост выпадают) разрешалось не только есть рыбу, кашу с маслом, но и выпить вина (в меру, конечно, но кто ее помнит эту меру), но пост есть пост и начинать свое пребывание с нарушения сложившихся правил, честно говоря, не хотелось. А не угостить приглашенных гостей – это как-то не по-людски.
Потом уже начало темнеть и лавки стали одна за другой закрываться. Засобирались и мы домой. До остальных кузнецов не добрались. Единственно, что успел, так это поинтересоваться по дороге стоимостью местной одежды. Оказалось, что стоит она, как я и читал, очень дорого. За простую сермягу на крестьянина просят от 15 до 20 кун. Чуть не половину коровы. Однако!
До дома добрались без приключений, хотя Сергей, видно было, переживал, нервничал и оглядывался. Но когда я достал из-под шубы «Ксюху» и повесил ее ремень на свое плечо, разулыбался, расслабился. А чего? Кто тут знает, что я такое на ремне несу? Так что не боись, Серый. Ну, кто тут против нас? Кто самый смелый? А? Ну, подходи, ёкарный бабай!
«А не посчитать ли нам уважаемые кроты?»
Дома я сел за подсчеты и сразу вспомнил известный мультфильм «Дюймовочка», в котором мистер Крот подсчитывал, во сколько ему обойдется содержание этой самой Дюймовочки, если он на ней женится. При условии, конечно, что она ежедневно будет съедать только половину зернышка. Считал и приговаривал:
– Половина зёрнышка в день… В день – это немного. Женюсь! А в год? В году 365 дней. По половине зёрнышка в день – 182 с половиной зерна в год. В год получается не так-то уж и мало… Нет, не женюсь!
Но у Крота хоть выбор был, а у меня его нет. Людей и лошадей кормить надо и надо знать, во сколько это мне обойдется. Своей вотчины у меня нет. Почти все надо будет покупать. Надо же в этом вопросе как-то, хотя бы предварительно, сориентироваться.
Итак:
Все зерно в Новгороде относилось исключительно к сыпучим продуктам и продавалось не на вес (как в наше время), а по объему. Дано: за один новгородский короб ржи (около 420 литров) просят 15 ногат. Поскольку плотность ржи мне известна (720 кг/м³), получается, что в 100 литрах ржи будет порядка 72 килограммов. Значит, один новгородский короб этого зерна весит около 300 килограммов. Иными словами, тонна ржи будет стоить от 2,5 до 3 гривен кун. Но это в Новгороде. В Новом Торге она обойдется мне значительно дешевле. Думаю, что на одну новгородку – порядка 2 тонн. Приемлемо. Правда, ее еще привезти надо.
Пшеница тяжелее ржи. В 100 литрах будет порядка 77 килограммов. Значит, один новгородский короб той же пшеницы будет весить порядка 323 килограмма, а просят за него 25 ногат. Иными словами, в Новгороде на одну новгородку можно будет купить только одну тонну пшеницы. В два раза меньше ржи. Дороговатое удовольствие.
Что касается овса. Многое конечно, зависит от его урожайности в каждый конкретный год, но будем ориентироваться на то, что он в среднем стоит втрое дешевле ржи. В этом году его урожай средний, а, значит, если везти из Торжка, то на одну новгородку я смогу купить овса 6 тонн.
Сено из Торжка не повезешь. Его надо покупать здесь по две ногаты за воз. С солью тоже надо сейчас решать, поскольку весной и сено, и соль будут, может быть и не в пять раз, но дороже.
Прикинул и то, во сколько обойдется мне питание лошадей?
В сутки (по нормам моего времени) одной лошади весом 450–500 кг требуется (в среднем): овса – 5 кг; сена -10-13 кг; отрубей – 1–1.5 кг; немного свеклы и капусты и, наконец, поваренной соли порядка 30 гр. Правда, отруби можно не считать, поскольку я надеюсь получить их бесплатно в качестве отходов будущего мукомольного производства. Без свеклы и капусты тоже обойдутся. Разберемся с остальными кормовыми составляющими. Вначале – с овсом. На одну лошадь на год его требуется чуть меньше 2 тонн. Но на 150 лошадей конницы уже 300 тонн. Да на 40 лошадей обозных (а уже понятно, что их, скорее всего, понадобится в несколько раз больше) – еще 80 тонн. На круг получается 400 тонн овса надо купить в год. То есть только на овес надо потратить около 67 новгородок. Однако! Думаю, что нормативы кормления лошадей моего времени здесь будут неприемлемы и долю овса надо будет значительно урезать, частично компенсировав его сеном. Вот Сергей смеется и утверждает, что здесь рабочим лошадям вообще овес не дают, а боевым, если и дают, то значительно меньше. Иначе лошади быстро «съедят» любую кубышку своего хозяина.
Посчитаем сено. Воз сена весит порядка 25–30 пудов, т. е. 400–480 килограммов, и стоит 2 ногаты. Пусть в день одной лошади нужно 12 килограммов сена. Значит, в месяц ей потребуется уже 360 килограммов сена. До весны и свежей травки 6 месяцев. Получается, что на каждую лошадь потребуется две с лишним тонны сена, это – 5 возов, стоимостью половину гривны кун. Если бы лошадь была одна, то это вроде бы не много. Но мне нужно будет кормить не одна лошадь, а порядка, как я понимаю, 200 штук (а может быть даже и больше). Конечно, не все они будут покупаться одномоментно, но к следующей зиме они уже все должны быть в наличии. Важно и то, что на следующую зиму мы сами сено для них заготовим. Но все равно уже сейчас только на сено надо будет истратить больше 60 серебряных новгородок! Вспомните, сколько стоил один вол на торге. А ведь я не считал еще стоимости самих лошадей, их экипировки, саней и телег и еще множество позиций, что потребуют от меня, как их собственника, значительных затрат. Однако! Так можно и в Кису превратиться.
Теперь о соли. Я перед отлетом уточнял. Взрослым лошадям необходимо давать ее в сутки по 30–35 граммов в день, т. е. одну столовую ложку с верхом. Вроде бы немного. Но это почти 1 килограмм в месяц и 12 килограммов в год. А вокруг средневековье и соль сможет доходить до 5 гривен кун за 160 килограммов. В ведь ее нужно давать и зимой, и летом, практически полтора года. Это же тонны соли только для лошадей. Караул! Получается, что за полтора года мои лошадки съедят почти столько же, сколько они стоят! Я просто физически ощущал, как утекают мои баснословные богатства. Ёкарный бабай!
Глава 4. Игнач
Если к тебе прилепили кличку, прими ее и сделай своим собственным именем.
Джордж Р. Р. Мартин
Я предпочитаю прозвища именам: по крайней мере, прозвища дают более-менее осмысленно, а имена – как бог на душу положит.
Макс Фрай, «Лабиринты Ехо: Тихий город»
– Как его зовут?
– Кого, пса? У него нет имени. Мы с женой никак не договоримся, как его назвать. Мы зовем его «Эй», или «Пёс», или просто свистим. Это безразлично, он всё равно не идёт, как его ни зови.
Коломбо (телесериал) (1968–2003)
Ювелир
Поскольку кузнецы были приглашены на послеобеденное время, я решил время не терять и навестить в субботу с утра местного ювелира по одному очень важному для меня делу.
Многие ювелиры жили и работали вблизи перекрестка Великой и Холопьей улиц. Тот, кто был мне нужен – Гостята – жил там же. Его дом я нашел быстро, но холопы, видимо, куда-то отлучились и я, потоптавшись немного, сам прошел внутрь дома. Хотя я приехал не так уж рано для субботнего дня, но семья была еще не в церкви, а сидела за столом. Хотел сказать: «Бог в помощь!», но слова повисли на языке. И я, совершенно неожиданно для себя, сказал:
– Шалом!
За столом возникла пауза, как в Ревизоре. Потом хозяин поднялся из-за стола и в ответ на мое «мир вам» произнес:
– Бокер тов, – т. е. добрый день.
Кажется, моя шутка была неудачной. Радушие и интерес явно сменились напряженностью, и я поспешил ситуацию как-то развести, заговорив пусть на своем, но все-таки на славянском языке:
– Прошу меня извинить, если я помешал вашей трапезе. Меня зовут Михаил. У меня к тебе, Гостята, дело, но я зашел видимо не вовремя и могу подождать.
За столом явно облегченно вздохнули, а Гостята (или как его там зовут на самом деле) сразу предложил мне разделить с ними еду и питье:
– Прошу за стол, Михаил, правда, мы уже перешли к сладкому, но Рахиль и Лея сейчас все для тебя принесут.
Хотел я спросить, что-нибудь типа: «Еда, надеюсь, кошерная?», но ума хватило дальше в этом духе не продолжать.
На столе действительно стоял цимес – десертное блюдо еврейской кухни, и было понятно, что этот поздний завтрак (или ранний обед?) уже практически закончен. Поэтому я снова извинился и пояснил, что не стоит из-за меня начинать все с начала, тем более что я сам из-за стола. Кроме того, если хозяева на меня не обидятся, то я хотел бы побыстрее оговорить дело, по которому пришел, поскольку суббота у меня – рабочий день и впереди назначено еще несколько встреч, опоздать или не прийти на которые означало бы нанести людям обиду, а мне бы этого делать не хотелось.
Гостята спорить не стал и предложил пройти к нему в мастерскую. Но прежде, чем мы ушли, он помялся и спросил:
– Как ты узнал, Михаил?
– Во-первых, у евреев, скажем так, вполне определенная внешность, а что касается веры, так вон у девочки за столом серьги в виде звезды Давида.
Гостята оглянулся, укоризненно покачал головой и с мягким укором сказал:
– Ты зачем эти серьги надела, нехда́? Говорил же, положи их подальше и не надевай.
– Они мне очень нравятся, са́ба. А мы сегодня никуда идти не собирались и про гостей ты ничего не говорил.
О, да это же дед с внучкой. Общался я с еврейской семьей в далеком теперь для меня мире. Некоторые слова помню.
Гостята отмахнулся:
– Ладно, сидите тут, потом поговорим.
Мы прошли в его мастерскую. Комната была не очень большой, но, по понятиям того времени, довольно светлая. На столе лежали глиняные тигельки, в которых, как я знал, плавили драгоценные металлы, а также медь и олово. Рядом – известняковые, глиняные и каменные формочки, по которым разливался расплавленный металл, в углу – небольшой горн, около него на верстаке было разложено несколько маленьких и больших клещей, зубил, свёрл, зажимов, пинцетов и ювелирные ножницы, еще что-то. Сбоку у верстака была закреплена миниатюрная наковаленка, а около нее в беспорядке валялось несколько молоточков. В дальнем углу были еще какие-то приспособления, прикрытые небольшим отрезком ткани. На полке над рабочим столом заметил несколько точильных брусков, медную проволоку, куски меди, воска, два бронзовых браслета, довольно большой перстень, бусы, фрагменты подвесок, фибулы (этакие металлическая застёжка для одежды, которые одновременно служили и украшением), и почти готовые колты, а также множество больших и маленьких кусочков смолы (или янтаря?).
Гостята предложил мне сесть на лавку, сам сел напротив и приготовился слушать.
– Заказ мой не сложен. Привез я из дальних краев большие (и довольно тяжелые) слитки серебра. Мне надо их расплавить и вылить из них новгородские гривны, но так, чтобы к гривнам этим, ни по весу, ни по качеству серебра никаких претензий возникнуть не могло.
– Это сделать не трудно. А сколько всего серебра?
– Много. М-да. Это и плохо, и хорошо. Много работы, но много и оплаты. Да, надеюсь, ты знаешь про то, что при плавке серебра металл чуть-чуть улетучивается и потому гривен по весу получится меньше, чем вес металла, который ты мне передашь?
– Да, это мне известно, я консультировался, – после этих словах Гостята поморщился, но промолчал, – на угар должно уйти порядка трех гривен из ста.
– На всякий случай, давайте говорить о четырех гривнах из ста.
Я выдержал внушительную паузу и продолжил:
– Я понимаю, что каждый должен иметь свой гешефт. Такая договоренность возможна, но при одном условии.
Гостята насторожился и весь превратился в слух. Разница в угаре 3 или 4 новгородки дает на 18-ти пудах серебра целых 15 новгородских гривен. Для простой работы – огромный куш.
– Дело в том, Гостята, что серебро, которое я привез, фактически не имеет примесей. Мне не хотелось бы никаких разговоров по поводу моих гривен и возможности за счет чистоты металла отслеживать их движение. Понимаешь меня?
– Что будем добавлять в серебро – свинец или медь? И сколько нужно добавить?
– В новгородских гривнах примесей содержится 4–6 частей из 100. Значит, нужно будет добавить так, чтобы получилось примерно 5 частей примесей из 100. Но только 5 частей, Гостята, а не шесть и не семь. Я потом проверю… Добавлять будем свинец. Я его буду передавать тебе вместе с серебром.
– А сколько частей примесей в твоем серебре?
– В моем серебре примесей нет.
– Не может быть.
– Договоримся – проверишь. Но я не хотел бы, чтобы о таком моем серебре кто-либо узнал. Тоже все начнется со слов «не может быть», а на такие слова, глядишь, и церковь, али еще кто похуже, подтянется.
Гостята ненадолго задумался, а затем улыбнулся и вернулся к нашему разговору:
– Какова будет оплата моей работы?
Я рукой отодвинул с верстака лежащие на нем инструменты и достал из вещевой сумки принесенные с собой ювелирные накатки, напильники, ножнички, обжимки, давчики, пинцеты, зажимы, совки, плашки, воротки и метчики, разметочный инструмент, рифели и, наконец, тисочки, а радом (в сторонке) положил очки ювелира. Тисочкам и надфилям Гостята (видно было), обрадовался. Все восклицал «Какая работа!». Но потом положил их обратно:
– Маловато будет. Работы слишком много, даже для такой оплаты. Риски есть, что с угаром можно не уложиться и вообще… мутноватое какое-то серебро у тебя, Михаил.
– Ну, во-первых, серебро у меня не мутноватое, потому что я его точно не награбил и не украл. Нет у нас такого серебра ни в новгородском княжестве, ни у соседей. Издалека вез. Во-вторых, это брак твой мутноватый, – и через паузу, – а, в-третьих, ты же еще не всю оплату посмотрел.
Гостята взял в руки очки ювелира и стал их крутить туда-сюда:
– Да я что-то вообще не пойму, что это такое и зачем это мне.
Я сунул ему в руку кусок медной проволоки, надел, как полагается эти очки на его голову, а затем попросил поднести к лицу руку с проволокой. Гостята вздрогнул. Отвел руку, снова приблизил, снова отвел и, шепча «не может быть», снова приблизил. Я снял с него очки – на меня смотрел совершенно ошалевший человек.
– Что это? Откуда?
– От верблюда. Мы договорились? Или мне к другому ювелиру обратиться?
– Нет-нет, какие ювелиры, со мной, только со мной договорились, – заметался он по мастерской. Ты даже не представляешь, Михаил. Глаза мои с возрастом подводить стали, а тут…
Похоже, что он все еще не пришел в себя.
– Ты вот что, Гостята. Пошли из челяди твоей четверых ребят, что покрепче, пусть принесут из моих саней два зеленый ящик.
Пока Гостята ходил и отдавал распоряжения, он немного успокоился, но все равно, то и дело поглядывал на очки, что я держал в своей руке.
Ждать пришлось недолго и вскоре мои ящики принесли. Когда челядь вышла, я достал из одного из них два банковских слитка серебра, а из второго – брезентовый мешок с кусками свинца.
– Давай так, Гостята. Вот видишь на слитках надпись. На них указан точный вес каждого слитка, так что смотри, чтобы жадность тебя не подвела. Тебе оно ни к чему, поскольку плавить такой слиток тебе просто не в чем. Но я вес серебра, который тебе передаю, точно знаю. Кроме того, еще раз говорю, не жадничай, добавляй только пять частей на 100. У тебя и так от «угара» при твоем мастерстве еще не мало останется. С каждой «чушки» – по паре гривен, не меньше. А «чушек» 10 штук. Где ты за несколько дней столько заработаешь?
– За все сразу рассчитаешься?
– Нет, Гостята. Тисочки, надфили прочую мелочь оставлю сразу, а очки передам при окончательном расчете. Быстрее сделаешь – быстрее получишь.
Тот приуныл. Но я уступать здесь не собирался. Так надежнее будет. До последнего расчета точно не скроется.
– Когда приехать с новой партией и забрать готовый товар?
Гостята оживился:
– По субботам мы… не работаем, а так – в любой день. Приезжай через четыре дня, все будет готово.
– Договорились. Ну а теперь позволь тебе вопрос задать, на который хочешь – ответь, не хочешь – не отвечай. Вы ведь пришли на новгородскую землю с территории Хазарского каганата?
– Мои предки пришли из Тмутараканского княжества.
Ну, понятно. Было такое государство – Хазария. В первой половине восьмого века часть правящей элиты хазар попала под сильное влияние евреев и приняла иудаизм. Номинально Хазарию продолжали возглавлять каганы из старого царственного рода (которые придерживались традиционных языческих верований), но реальное управление осуществлялось от их имени беками, которых, в свою очередь, наставляли евреи, которые и были реальными властителями. Фактически Хазария представляла собой до конца Х века независимое иудейское государство. Затем она была разгромлена Святославом, и окончательно сметена половцами. В 1064 году три тысячи хазарских семей переселились в Закавказье. Другие (хазары-иудеи) частично мигрировали в страны Центральной Европы, а частично (жившие на Дону и в Причерноморье) попали под власть русского Тмутараканского княжества. Вот тогда евреи и стали переселяться в разные регионы Руси.
– А что это вы на север подались? Новгородцы – не хазары. Над ними власть не возьмешь. Да и евреи, помнится, всю жизнь любили тепло.
– Здесь поспокойнее. Да и Новгород – город купеческий, а среди купцов мы свои.
– А, ну понятно, где деньги – там и тепло. Ну-ну, не обижайся, не обижайся. Каждому – свое.
– Да я не обижаюсь, я хочу тебя просить… Ты это, ты не рассказывай о нас никому. Все считают, что мы приняли христианство, мы получили христианские имена. Нам здесь жить, поэтому не хотелось бы… на такие слухи, «глядишь, и церковь, али еще кто похуже, подтянется», – не удержался и передразнил он меня.
– Ну, что ты, Гостята. У каждого из нас свои тайны. У тебя – свои, у меня – свои. Я буду беречь твою тайну, а ты, – я кивнул на свои слитки, – береги мою.
На том мы с Гостятой и простились.
Возвращался я от Гостяты и думал: Гостята, ты, конечно, может и Гостята. Вот только у внучки твоей серьги в виде звезды Давида. Сам же, наверное, и делал. Днем-то (на людях) – важно в церковь выхаживаешь, а ночью дома хоть сейчас синагогу открывай. Я-то буду молчать, но долго ли такое утаишь? Впрочем, это все не мои проблемы.
Дело в том, что Устав князя Ярослава о церковном суде, в ведении которого находилось в то время брачное право на Руси, гласил, что если иудей (или мусульманин) вступит в брак с русской женщиной, то с иноверца следует взыскать штраф в размере 50 гривен, а женщину постричь в монахини. Впрочем, браки с католиками и протестантами тоже не поощрялись. Неправославные христиане тоже рассматривались как еретики. VI Вселенский собор (860 г.) о браках с еретиками говорил совершенно недвусмысленно: «Недостойно мужу православному с женою еретическою соединяться браком, ни православной жене сочетаться с мужем еретиком. Если же будет обнаружено что-либо подобное, сделанное кем-либо: брак почитать не твердым и беззаконное сожительство расторгать. Ибо не подобает смешивать несмешиваемое, ни соединять с овцою волка, и с частью Христовою жребий грешников. Если же кто постановленное нами преступит: да будет отлучен». Иное было возможно только при условии, что жених (в нашем случае) принимает православие, причем искренне, а не только берет православное имя.
А червячок внутри гложет. Хорошо, что я невольно секрет его узнал. Теперь он тоже язык за зубами держать будет. А серебро что, оно настоящее. Гривны настоящие. Сделает дело, и я уже не на крючке, а вот ты, Гостята…
Ну что ты, Миша, за человек, когда ты из себя мента вытравишь, ну ёкарный бабай.
Кузнецы
Первым из приглашенных кузнецов подъехал Ремша (отец жениха) и с ним два младших сына – Яков и Харитон (который сватов засылал). Лошадь с санями завели во двор (заехать самолично значило оскорбить хозяина) и передали под присмотр кому-то из холопов Сергея.
Честно скажу, гости меня как-то не впечатлили. Ну как же, думал – приедут кузнецы, ростом под потолок, в плечах – косая сажень. А приехали, в общем-то, нормальные по своей комплекции люди. Видно, что не слабые, но и не богатыри былинные. Сергей это заметил и прямо при гостях стал объяснять:
– Есть кузнец, а есть молотобоец (которых лучше, если в кузне два). Кузнец сам молотом не машет, а молоточком легко постукивает по заготовке в том месте, по которому молотобойцы уже бьют своими молотами или кувалдами со всей дури. Так что кузнец не обязательно имеет мощную фигуру. Его мощь в другом. Как из какой-то «глины» получается металл? Почему одни изделия из того же железа хрупкие, а другие молотом не расколешь, одни мягкие, а другие даже ковать тяжело? Недаром всегда считалось, что кузнецы якшаются с нечистой силой. А молотобойцу что – бей молотом куда покажут и все дела.
Гости сдержано посмеялись. А я, провожая их в свою комнату, вспомнил один эпизод из своей давней жизни. Как-то с друзьями мы выехали на природу «на шашлыки». В приготовлении же шашлыков не было у нас равных Гене Свиридову. И вот как-то одна из женщин попросила его научить ее такие же шашлыки жарить, раскрыть, так сказать, секреты мастерства. На это ей Гена ответил так:
– Да я бы с радостью, но тут вот какое дело. Вот возьмем мы с тобой всё одинаковое: и мясо, и лук, и специи, и шампуры и даже пусть мангал будет один и тот же, а одинаковых шашлыков у нас с тобой не получится. Я не говорю о подготовительном этапе. Здесь еще можно выделить какие-то общие подходы. Но как я тебе объясню, в какой момент шашлык на углях надо переворачивать? Ни цветом поджариваемого мяса, ни этапом его шкварчения этого момента объяснить нельзя. Это где-то глубоко внутри тебя и передать это другому человеку при всем желании у меня не получится. Так что никаких секретов на самом деле нет. Можно научить делать нечто подобное. И такое подобное могут сделать все мужчины, что собрались сегодня в нашей компании. Но это подобное все равно будет не таким же, какое получается у меня. Он может быть и хуже, может быть и лучше, но не таким. Поэтому у каждого шашлычника вкус шашлыков, пусть незначительно, но все равно будет отличаться. И мне приятно, что именно мои шашлыки нравятся моим друзьям.
В этом подходе Гены Свиридова к своим «секретам» есть много общего с «секретами» ковки. Кто не знает, что от жара железо изменяет свой цвет? Вначале оно становится темно-коричневым, потом коричнево-красным, потом темно-красным, затем темно-вишнево-красным, вишневым, светло-вишневым, красным, светло-красным, желтым, светло-желтым и, наконец, белым. И каждый такой цвет металла еще имеет свои оттенки. Как определить в какой момент его надо положить на наковальню, а в какой – прекратить ковку? Как не «пережечь» раскаленный металл и как его правильно закалить, или отпустить? Все это – такие же «секреты» кузнеца, как и «секреты» Гены Свиридова.
Но уйти дальше в мои воспоминания мне Сергей не дал:
– Ты, Михаил Игнатьевич, заводи гостей в дом, а я остальных подожду и вместе с ними к тебе поднимусь.
– А что еще кто-то будет? – насторожился Ремша.
– Заказ большой, одна кузня не справится, – вполне дипломатично, как мне показалось, ответил я.








