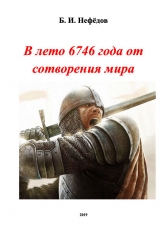
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 38 страниц)
Звали его, скажем так, сильно уж заковыристо – Свистун Дубовый Нос, что, если честно, сильно соответствовало его внешности. Но мы договорились, что я буду называть его просто Снегирем или Проводником. Я напоил его чайком с «секретом» и выслушал его с большим вниманием. Стало понятно, что рассказ его был искренним. Если коротко, то я ему поверил.
Потом перешли на дела его семейные. Оказалось, что Снегирь новоявленный, со своей семьей (женой и ребенком) снимал угол у того же гончара, где работал. Поскольку мы решили, что теперь он переходит на работу ко мне, определились, что они переедут в мой дом в самое ближайшее время. Питание – с моего стола, а с оплатой решим после возвращения моего первого обоза в Новый Торг, который Проводник и поведет.
С его гончаром я в тот же день сам договорился, выплатив ему небольшие отступные (различными приспособлениями для гончарного дела) и через день Снегирь-проводник уже с семьей жил у меня.
Тем временем я готовил свой первый обоз. Было понятно, что он не должен был быть слишком большим. Главная его задача – по первому снегу проторить дорогу, сделать особые зарубки на деревьях для тех, кто поедет следом или будет возвращаться, да определиться с местами возможных стоянок по всему маршруту.
Не был уверен и в Проводнике, и в существовании сухопутного пути, поэтому я послал с обозом Степана Молчуна (откуда он появился – немного позднее), попросил его подыскать в Новом Торге место для остановки моих обозов. Дал ему также для оплаты зерна и возможных иных товаров несколько железных ломов и немного серебра. С обозом послал и десяток верховых (на всякий случай). Если все хорошо, то трое из них должны были вернутся пораньше, чтобы, не теряя времени я готовил новые караваны.
Когда мой обоз выступил на Новый Торг, подморозило, но снега было еще мало. Полозья саней поскрипывали, а в местах, где доставали до земли, даже немного скребли, но лошади шли ходко. С собой обозники взяли не только продукты для людей, но и корм для лошадей на все время пути, а я ждал возвращения экспедиции через 40 дней. Через три недели вернулись трое верховых. С их слов, дорога действительно явно существовала, на ней были старые места обозных стоянок. Правда, по ней давно не ездили и в нескольких местах пришлось поработать топорами. Но сама дорога была на удивление неплохой. Они дополнительно отметили путь свежими затесами. Я ждал их вестей, и новый обоз вышел этим же путем уже на следующий день в сопровождении одного из вернувшихся. Я уже готовил следующий. Через неделю отправил третий обоз и пошло-поехало. А еще не истекло 40 дней от начала первой экспедиции, как пришли и мои первопроходцы. Степан Молчун был откровенно доволен поездкой. Все вопросы он решил, зерно закупил за железные ломы по согласованной нами цене, практически все серебро привез назад, необходимые указания дал каждому старшему всех встреченных и отправляемых моих обозов. В Новом Торге нашел и арендовал что-то типа постоялого двора, где теперь мои обозы смогут останавливаться. Я тоже был доволен. Выдал ему и Проводнику премию – по 2-е новгородке, а Проводнику еще и полушубок форменный. Степан Молчун воспринял «премию» как должное, а Проводника едва успокоил. Сильно досталось ему за последний год, а ведь семья. Я тоже расчувствовался, да и дал ему еще цепочку серебряную (из своих московских запасов) в подарок для его супруги. Господи, как же легко сделать человека счастливым! Потом сидел и думал, про кого такое сказал. То ли про Снегиря, то ли про себя.
Вот ведь, ёкарный бабай.
Глава 5. Создание промышленного капитала
Промышленный капитал – капитал, авансированный для создания товаров и услуг в сфере материального производства.
Товарное обращение есть исходный пункт капитала. Непосредственная форма товарного обращения есть Т-Д-Т, превращение товара в деньги и обратное превращение денег в товар.
К. Маркс. Капитал.
Свечной заводик
Первым делом я решил заняться организацией собственного производство, создать, так сказать собственный промышленный капитал. И решил начать с производства свечей.
Все осветительные приборы, используемые жителями Новгорода в ХIII веке можно было разделить на три группы: это сосуды для масла, подсвечники и светцы-лучинодержатели. Масляные лампы давали слишком мало света и потому, хотя и использовались, но довольно редко. Дома попроще, а также помещения с челядью, освещались лучинами, с помощью приспособления для их удержания – светцов[12]12
Это такой стержень, заканчивающийся парными пружинами, в которых зажималась лучина (палка смолистого дерева, диаметром сантиметра два). Стержень забивался в деревянный стояк, лучина зажигалась, а под лучиной ставилось корыто с водой.
[Закрыть]. Но, как оказалось, основным осветительным прибором в Новгороде были все-таки свечи. Богатый город. Основная масса его жителей могла себе такое позволить. На лучины новгородцы перейдут значительно позже, в период утраты городом своего значения и его постепенного обнищания. Но до этого было еще далеко.
В ХIII веке в большинстве новгородских домов использовались железные подсвечники, уплощенный штырь которых забивали в стену сруба. Поскольку многие такие подсвечники были с двумя-тремя ветвями, то получалось, что сильно на свечах новгородцы не экономили. Правда и спать ложились, по нашим меркам, очень рано, а вставали с рассветом, так что свечей много не переводили.
На Руси в тот период основным материалом для свечей служило обычное сало. Называли свечи из него «макаными», поскольку при их изготовлении многократно обмакивали фитиль («светильню») в растопленное сало. Но уж слишком такие свечи были вонючи. В отличие от других княжеств, новгородцы могли себе позволить более дорогие свечи из чистого воска с их характерным медовым запахом (в наших церковных лавках сейчас такие почти нигде не продаются), более ярким светом и увеличенным, по сравнению с сальными свечами, сроком горения. И могли позволить это себе не столько потому, что жители города были побогаче остальных, но и потому, что воск составлял одну из главных составляющих новгородского экспорта. Из всех русских земель воск поставлялся именно на новгородский рынок, а уже оттуда он вывозился на Запад. А пчеловодство (точнее, бортничество) в тот период на Руси имело самое широкое распространение. До ХII-го века оно было даже более развито, чем земледелие.
Я уже упоминал ранее, что первоначально свечи не отливали, а скручивали. Делали и так: фитиль плотно обматывали по спирали размягченной полоской воска, а потом окунали в жидкий воск, который заполнял стыки полосы и неровности поверхности. В Новгороде изготовление свечей была довольно многочисленной ремесленной профессией. Но ручной труд не сравнить с трудом механизированным и конкуренции я не опасался. Тем более, что мои свечи отличались строгим соблюдением формы, не «плакали», не плавились от тепла рук и сгорали медленно, и горели без треска. Кроме того, я имел возможность изготовления для торговли при храмах тонких «социальных» свечей и здесь я был практически монополистом.
Для организации своего производства мне, прежде всего, нужно было решить две проблемы. Первая проблема это – помещение под мой свечной заводик. Дело в том, что размеры станка для изготовления свеч в его собранном состоянии оказались не таким уж и маленькими. Бегать работникам впритирку с горячим воском значит постоянно подвергать их опасности получения значительных ожогов. Но на улице под навес станок не поставишь – климат не тот. Летом еще ничего, а в другое время воск будет быстро охлаждаться и работы не будет. Так что нужно искать помещение в самом доме, хорошо хоть, что работает станок на удивление очень тихо.
Вторая проблема – освещение производственного помещения. Естественный свет слабо проникает сквозь волоковые окна[13]13
Волоковое окно – маленькое прямоугольное окно (фактически дыра на улицу без какой-либо преграды), высотой в диаметр бревна сруба, шириной до полуметра. Изнутри задвигались деревянными дощечками – во́локами, откуда и пошло название.
[Закрыть] и внутренность дома большую часть дня остается темной. Нельзя работать в темноте, а пускать на освещение много свечей не хотелось – невыгодно, да и много кислорода свечи сжигают.
Этим требованиям отвечало только одно помещение в моем доме – та самая светлица, в которую мы вначале «прилетели» и где я проводил прием некоторых делегаций для обсуждения условий моих заказов. Во-первых, она была самым большим помещением, поскольку по размерам была равна моему (в той жизни) довольно вместительному гаражу. Во-вторых, в этой комнате было больше всего и довольно больших по размеру окон. Хотя вместо стекол в них были вставлены пластины слюды, но света днем все-таки было вполне достаточно, а вот утром и вечером его (для целей моего производства) явно хватать не будет, но ведь тогда можно будет и пару свечей зажечь, тем более, что, свечи из натурального воска могут гореть по нескольку часов. Так, упоминаемая уже мною самая «социальная» (т. е. самая тонкая и невысокая свеча, весом всего-то в 3 грамма), на самом деле горит около 40 минут. Только в церквях наших часто сталкиваешься с тем, что установленные размеры не соблюдаются, а дорогого воска в продаваемых свечах мало. Такая свеча сгорает быстрее. Восковая же свеча весом (всего) в 20 граммов (305 мм х 9,7 мм) вообще горит 3,5 часа. Так что для 40 килограммов воска, перерабатываемого на свечном станке за день, вроде бы потери совсем крохотные. Правда, свечи проблемы до конца не устраняют. Дело в том, что они хорошо освещают верх и плохо освещают то, что ниже их. Их можно использовать в самом начале работы (пока воск разогревается, и вода кипятится) и в ее конце, но не в непосредственно рабочий период. Поэтому я решил, что лучше всего будет все-таки прорубить еще одно большое окно.
Другое дело, что светлица эта, по определению, должна оставаться пустой, т. к. Сергей мог по какой-либо причине «прилететь» раньше обусловленного срока и какие при этом могли бы возникнуть проблемы, связанные с появлением в этой комнате «занятых» пространств, никто бы сказать не смог. Но выхода не было, и монтаж свечного станка я решил делать именно в ней.
Для начала я пригласил оконщиков, и они мне в два дня и нужные проемы прорубили (точнее сказать пропилили) и оконные рамы вставили. Решетка оконных переплетов была сравнительно небольшая, но, как и сама рама, прямоугольная. Но после того, как в оконца вставили квадратные куски слюды, произошла метаморфоза. Чтобы пластины слюды хорошо держались и не дуло, оказывается их аккуратно закрепляют глиной. В результате эти оконца, что были прямоугольными, стали овальными. А я все раньше удивлялся, почему это на старых картинках оконца все овальные нарисованы.
Теперь в светлице освещения для работы вполне хватало.
Затем с Яковом (напомню, сыном кузнеца) мы собрали сам станок. Сделать это оказалось совсем не сложно, хотя у Якова от восхищения таким большим механизмом глаза из орбит все время лезли, и он не столько помогал, сколько языком цокал. Свободного места действительно осталось довольно много. Было куда сложить и коробки под тару, и куски воска и запасные бабины фитиля, и прочую необходимую в производстве мелочь. Правда здесь же возникла другая проблема: в металлическом «корыте», через которые проходили фитильные нити, воск должен быть все время жидким. Температура плавления воска колеблется в пределах от 62 до 68 градусов, а использовать его для изготовления свечей, рекомендовано при температуре начиная от 80 градусов. При этом корыто с воском для разогрева нельзя ставить на печную плиту или на прямой огонь. Дело в том, что воск относительно безопасен до температуры в 100 градусов. Но если продолжить его нагревать, то и в жидком состоянии он не кипит, а продолжает нагреваться до все более и более высокой температуры. При этом он начинает испаряться, «дымить», издавать резкий запах и сильно брызгать. Наконец, жидкий воск при температуре 180 градусов просто воспламеняется и потушить его очень трудно. По крайней мере, его нельзя заливать водой, поскольку от этого воск только разгорается еще сильнее. Лучше всего небольшие очаги тушить содой (да где ее брать в средневековье в нужном количестве), а более крупные – влажными тряпками. Отсюда вывод – плавить воск надо на «водяной бане», так как при этом температура воды никогда не превысит 100 (плюс-минус небольшим отступлением) градусов.
Все это означало одно – под корыто станка с воском надо сделать еще одно, побольше и поглубже, но уже для горячей воды. В ходе производственного процесса придется постоянно часть остывающей воды сливать, а на ее место заливать кипяток. Уровень воды должен быть таким, чтобы корыто со свечной массой все-таки не плавало (хотя воск легче воды), а стояло, причем стояло на решётке, приподнятой сантиметров на 5–7 над дном корыта с водой. Только при таких условиях прогрев воска оказался относительно ровным.
Кроме того, стало понятно, что на станке должны работать, как минимум, два человека. И один из них все время будет занят одним – контролем температуры воска и его объема.
Поскольку горячий воск, как и кипяток, при попадании на тело может вызвать ожоги, работники должны быть одеты в защитную одежду: тяжелый фартук, перчатки, рубаху с длинными рукавами, длинные брюки и закрытую обувь.
Вот так вот, не все так просто.
От прежнего хозяина у меня было в запасе четыре круга воска. Два круга, как я понимаю, высшего сорта (в них цвет воска был желтый, даже светло-желтый и натуральный запах с медовым ароматом), два других похуже (воск ближе к светло-коричневому оттенку), но все четыре круга – натуральный воск и потому свечи уже можно было начинать делать.
Другое дело, что теперь мне надо было решить кто будет работать на моем станке, куда сбывать готовую продукцию и как довести запас воска до объемов, которых мне бы хватило, как минимум, до середины лета.
Чтобы решить первый вопрос, в ближайшую пятницу мы с Митяем и направили свои стопы на торг. Ибрагимка встретил меня радостно:
– О, Игнач! Как дела? Товар смотреть будешь? Хороший товар, новый.
– Что, Ибрагимка, зима? – И немного передразнивая, – людей кормить надо, одевать надо, в тепло на ночь надо. За все Ибрагимке платить надо.
Но тот, как будто не слышал:
– Хороший товар. Хороший холоп. Мужи есть, бабы есть, большие дети есть. Покупай. Дешево отдаю.
– Да знаю я твое «дешево», оглянуться не успеешь, как без шубы останешься.
– Нет, Игнач, тебе совсем дешево отдаю. Только тебе.
– Ты так всем врешь. Веди давай, показывай.
Действительно, новых рабов оказалось много, не менее трех десятков, и было понятно, что они здесь недавно. Кто-то сильно пощипал финно-угорские племена. Я пустил вперед (как гончую «в полаз») Митяя. Язык знает и знает, что мне надо. Только, в отличие от гончаков, ему голос подавать не следует, а надо наоборот тихонько на ухо мне информацию сбросить. Он это понимает и свое дело делает.
А Ибрагимка не унимался:
– Не вру. Пригнали сегодня три десятка, а после завтра еще полторы сотни пригонят, да еще два раза по столько в пути. Эти будут через пять дней. Я не возьму – другим отдадут, те свой навар иметь будут, я – не буду. Значит, этих надо продать, быстро продать, а кому сейчас столько надо?
Много пленных. Надо не прозевать, отобрать тех, что мне подходят. Значит, и из этих надо купить и про тех предупредить.
– Вот что, Ибрагимка. Я этих сегодня посмотрю, а тех, как только пригонят, ко мне человека посылай. Торговый или не торговый день, я приду. Первый отобрать хочу. Мне много людей надо. Но если узнаю, что не меня первым позвал – никого не куплю, у соседей твоих десятками покупать буду, а к тебе больше ни ногой.
– Что ты, Игнач. Ты же знаешь Ибрагимка. Ибрагимка для тебя все сделает. Ни к кому не ходи, ко мне ходи. Лучший товар – твой. На подходе будет – уже людей пришлю. А сколько тебе нужно?
– Это – по товару. Может десяток куплю, а может и всех.
– Всех? Игнач. Ты же знаешь Ибрагимка. Ибрагимка для тебя…
Здесь и Митяй подтянулся. Хмурый какой-то.
– Ну, что приглядел?
– Есть два мужичка. Два родственника из одного селения. Не молодые (уже под тридцать лет), но на вид – крепкие. В разговоре – вроде толковые.
– Как получилось?
– Говорят, налетели ночью, кого положили, но по большей части скрутили еще сонными.
– А ты чего смурной?
– У них среди пленных женщин одна есть. Для одного – сестра, для другого – жена. С отроком она. Тому лет 9. Я им сразу сказал, что тебе бабы, да еще с детьми, вроде бы ни к чему. Один – на коленях просит выкупить и их, а у другого – просто слезы текут. Все знают – сейчас их разобьют, то больше не встретятся. А достанется баба с отроком купцам-кочевникам – уведут в неволю далекую да страшную. Говорят – любой службой тебе отслужат. Я посмотрел, ну, баба как баба. Мальчишка хороший, только похоже, что простыл он сильно в дороге.
– А ты чего?
– Мать у меня из тех краев.
– Кто еще с их поселения?
– Одни они. Не знаю, как получилось, может порубали остальных, может еще что.
– Наш язык совсем не знают?
– Так, отдельные фразы. Но вроде смышлёные.
– Ладно. Эй, Ибрагимка, прикажи-ка привести тех, на кого мой ординарец покажет.
Привели их. У мужичков в глазах надежда. Баба ребенка прижимает, посмотрел – правда застудился сильно. Жар. Ну чего долго рассказывать, купил я их всех четверых. И еще четверых, что для ухода за лошадьми отобрал.
Потом решил сам прогуляться, живой товар посмотреть. Что сказать, жутко и дико для человека из ХХI века, да еще с советским прошлым. Заметил в стороне трех подруг, одетых получше, перешептывавшихся и посмеивающихся. Было понятно, что как покупателя своего они меня не рассматривают, седой весь, да и видно, что «не клиент».
– А ты ткать или прясть умеешь? – обратился я к одной из них.
Та неторопливо поднялась, отряхивая с себя кое-где приставшую солому. На вид лет 23, фигуристая, ничего не скажу, все при ней. Вскинула голову, повела бедром, смерили меня сверху донизу жгуче зелеными глазами, и бровь ее насмешливо поползла вверх:
– Нет, боярин. Я … по другой части.
Ее товарки прыснули.
Но меня смутить трудно, по работе моей бывшей мне дам этой категории часто видеть приходилось.
– Ну, для начала, я не боярин. А что по другой части, так это тоже хорошо. Мне по твоей части люди тоже надобны, – и я оценивающим взглядом посмотрел на ее «подруг».
– Неужто тебе меня одной не хватит, – уже не так резко и уверенно, но все еще с подначкой и каким-то вызовом попробовала продолжить она.
– Не хватит. Таких, как ты, нет, таких как вы все, – я обвел пальцем всю троицу, – мне штук двадцать надобно.
И тут до них дошло, что я не шучу, и что я их вот сейчас покупать буду. Старый, а ему «штук двадцать» подавай. А может не себе? Все равно много. Да и церковь… А может не в город? А может не для того…? Тут чего только в голову не придет.
– Ибрагимка, подь суды. Почем вот этих баб продаешь? Ты не загибай, не загибай, – и уже погромче, чтобы этим дамам полусвета тоже слышно было, – да мне не для утех, мне нужники убирать некому. Пошли к тебе, обсудим.
Теперь смешки послышались из того угла, где сидели отобранные мужчины.
Им в ответ и мне в спину:
– Он что там, пол Новгорода засрал?
Но на этот раз уже никто не засмеялся.
– Евпраксия, дура. Это же– Игнач! Помнишь, люди говорили.
Поторговались, конечно, но в конце и Ибрагимка и я были довольны. Я доволен, что купил холопов значительно дешевле, чем в другое время, а Ибрагимка был доволен, что я купил сразу чуть не треть из поступивших. Он даже (на радостях) отрядил мне двух лошадей с санями, на которых отвезли нас всех до самого дома. Мужиков сразу осмотрел, отправил в баню, переодел и «в карантин». Пусть немного отъедятся, да от насекомых избавятся. Мои домашние им тем временем лежаки подготовили. Купленных женщин передал Марфе. Рука у нее тяжелая, нарушений порядка не допустит. Эти пойдут в баню после мужчин. Одежду – в котлы и кипятить. Обновы им подберут из оставшегося от прежних хозяев. Со вшами дополнительно разбираться придется. На вопрос Марфы, чем этих… занять, сказал, что для начала пусть возьмут на себя стирку, да готовить помогают, а там видно будет.
Баба, купленная с ребенком, его никак не отпускала. Пришлось прямо на ее руках его осмотреть, послушать, дать жаропонижающее, поставить укол с антибиотиком. Похоже, я вовремя меры принял. Думаю, к утру парнишка оклемается, да потихоньку поправляться начнет. Было заметно, как температура у него начала спадать, а тут его еще разморило от тепла и еды (хотя поел плохо), и он заснул. Этими двумя моими приобретениями занялись мои кухарки, а я принял немного с устатку медовухи и пошел к себе. Забегая вперед, скажу, что мальчишка оказался просто замечательным, любознательным и спокойным. Язык выучил раньше своих родственников, первым из них стал грамотным, в устном счете моим «бухгалтерам» не уступал, а у Степана Молчуна (о нем, как и обещал, расскажу позднее) так и вообще стал любимчиком.
Не поверите, но на обучение мужиков, приобретенных мною специально для работы на станке, потребовалась почти неделя. Каждый день я требовал от них одно и тоже:
Перед началом работы нужно проверить, соответствуют ли установленные фитили размерам свечей, которые нужно будет делать. Перед тем, как ставить воск для растопки, необходимо мелко его порубить или разломать – так он быстрее и равномернее расплавится. Здесь же смешивать воск с добавками в установленной пропорции. При плавлении воска его нужно постоянно помешивать деревянной лопаткой, чтобы он не пригорел и равномерно растопился. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке. Никогда нельзя оставлять плавящийся воск без внимания, даже если вы плавите его на водяной бане. При работе с горячим воском, обращаться с ним так же, как с горячим жиром или маслом. Никогда не пытаться счистить с кожи попавший на нее горячий воск. От этого он только размажется по большей поверхности, и при этом можно получить только ожог, больший по площади. Если на кожу все-таки попал горячий воск, нужно использовать холодную воду. (Для этого постоянно в дальнем углу должно стоять большое ведро с холодной водой, которую время от времени нужно менять). Воск быстро застынет и перестанет жечь. Детей в комнату с горячим воском не допускать. Если утром или вечером зажжена свеча, то в подсвечнике ее нельзя оставлять на непокрытом деревянном столе. Дерево может обгореть. Под подсвечник нужно ставить тарелку или какую-то подставку из обожженной глины. При работе под рукой всегда должно быть ведро с мокрыми тряпками. Рабочее место время от времени нужно проветривать, поскольку длительное вдыхание восковых паров может вызвать головную боль. Кроме того, излишне высокая температура в помещении может плохо сказаться на форме свечей (все-таки они должны достаточно быстро охлаждаться).
Однако они постоянно что-нибудь забывали или делали не так, хотя, не скрою, очень старались. Но удивительное дело. Стоило поставить над ними Якова и через два дня мой заводик стал прекрасно работать, правда, пока на склад. Насчет сбыта надо было к князю, да к Владыке идти.
А вот с приобретением воска все срослось совершенно случайно. Приехал к Сергею один бортник. Для несведущего человека поясню, что бортево́е пчеловодство или бортничество (от слова «борть» – дупло дерева, растущего в лесу, в котором живут дикие пчелы) – старейшая форма пчеловодства, при которой пчёлы живут в дуплах деревьев в лесу, а бортник ходит по лесу от одного их жилища до другого. Этот бортник сильно расстроился, что Сергей уехал в Киев. Он ему постоянно воск привозил, да иногда и ночевал у него. Эти его проблемы я решил быстро, привезенный воск (около 400 килограммов) купил по «рыночной цене», а самому ему предложил жилье не искать, а переночевать в этом же доме, но теперь уже у меня.
Звали моего нового знакомца Ядрей – чулок. Вечером мы долго сидели у меня. Я угощал его стоялым медом, а он рассказывал мне о своей профессии. И вот в разговоре я подкинул ему будто бы случайную идею:
– Слушай, Ядрей, а почему вы, бортники, по лесам мотаетесь?
– Ну а как? Пчелы – они в лесу живут.
– Это так, но почему бы не ты к борти, а борть к себе не перетащить?
– Смеешься что ли? Дерево с пчелиной семьей здоровое. Вот такое в обхвате. Его не пересадишь. Иначе так бы все делали. Нет, все бортники испокон по лесам ходят, они – за пчелами, а не наоборот. Так делали мои деды и прадеды, а они не глупее нас были.
– Дерево – не пересадишь. А вот зимой взять, леток пчелиный заткнуть хорошенько, дерево спилить и тихонько положить. Потом выпилить с запасом то место на стволе, где дупло расположено. Это бревно на сани, и к себе на подворье. Дома, где-нибудь с краю, чтобы потом пчелы людей и скотину не беспокоили, это бревно в заранее приготовленную яму вкопать. И таким образом получится, что ты дерево, то есть борть, к себе перевез. И так можно не одну, а с десяток, а то и больше пчелиных семей переселить. Смотри, как выгодно получится. Бегать по лесу не надо, охранять проще, по весне подготовил заранее пустые колоды, да новые пчелиные семьи – в них. И им хорошо и тебе не плохо.
Ядрей смотрел на меня обалдевшими глазами. А я продолжал:
– Вот есть засека, так там лес валят, а у тебя будет пасека, ты лес как бы установишь, да пчел пасти будешь. И сам ты, получается, будешь пасечник. А, как тебе? Сколько сил сохранишь, насколько больше меда да воска добудешь. В два-три раза, а то и больше, по сравнению с теперешним.
– Подожди, Михаил, а охранять как? А медведь придет, как от него отбиваться?
– Во-первых, летом медведь к жилью не пойдет. Побоится. А если зимой придет, так его, что так, что так убить надо. Шатун пчелами не ограничиться, на скотину, да на людей охоту откроет. А давай так, лук, как я видел, у тебя есть, а я тебе дам наконечник для рогатины, наконечник для копья пешего воина, да наконечник от сулицы. Древки для них ты и сам сделаешь. Будет чем себя от врагов, что на четырех лапах, что на двух защитить. Дам еще пилу двуручную (завтра мы с тобой ею дрова попилим, поучишься ею пользоваться), плоскогубцы да напильник, чтобы ее точить, ну и топор. Все вещи в хозяйстве необходимые.
– За что же такое богатство? Железа одного сколько.
– Да ты не боись. Ты испытай мой совет. Перенеси себе «на пасеку» с десяток пчелиных колод. Если ничего не получится, все, что я тебе дам – твое и ты мне ничего не должен. Цена за риск.
– Ну а если получится?
– Если получится, то если захочешь взять все это за полцены – возьмешь, не захочешь – просто вернешь, и никто из нас никому ничего не должен. Будешь покупать – я в расчет приму и мед, и воск, причем по цене, по которой ты их обычно продаешь перекупщику. Так что ты ничего не теряешь, но в любом случае выигрываешь. Ты подумай, а я сейчас.
Я пошел в свою комнату, взял так понравившиеся мне наконечники и вернулся с ними к Ядрею.
– Вот, посмотри. Только осторожно, они очень острые. Как видишь, я не шучу.
Пока он оружие рассматривал, я сходил за пилой, плоскогубцами, напильником, ну и топор прихватил.
– Ну как?
– А что, попробовать можно. Идея-то интересная. Получится, так столько народу тебе спасибо скажет. Ну а не получится, тоже ничего страшного. Все равно зимой сильно делать нечего. Так что, почему бы не рискнуть.
– Получится – не забудь, кто тебя надоумил. Мне и меда, и воска много надо. Все заберу.
На том и порешили. Весь вечер учил его пилу разводить, да точить, утром – дрова пилить. Уехал он окрыленный. Глядя ему вслед, я даже взгрустнул маленько. По-человечески так понравился он мне. Без гнильцы человек. Столько Ядрей мне про охоту да рыбалку нарассказывал, что меня такая ностальгия взяла. Все к себе приглашал. Может и доведется когда.
Впрочем, важнее было другое. Обещал он своим друзьям и родственникам о моем предложении передать, да наказать, чтобы мед и воск прежде всего ко мне везли. Я точно знал, что этот эксперимент получится, а значит много еще бортников превратиться в пчеловодов, и, в качестве благодарности, повезет воск и мед… Куда повезут? Правильно. А мне много воску нужно для свечей и еще больше меда – людей кормить.
Вот так вот. И никакого прогрессорства, ёкарный бабай.
Мукомольное и хлебопекарное производство
Еще одним моим предприятием в Новгороде должно было стать мукомольное и, как его продолжение, хлебопекарное производство. При этом я учитывал следующее. В Новгородском княжестве своего хлеба не хватало. Дополнительно везли его из Торжка и Пскова. Путь не близкий, а, значит, и торговля им оказывалась выгодной. Сказывалось и то, что Новгород – город богатый, а потому и зерно в нем продавалось по ненормально высоким ценам. Важно было и то, что на момент моего появления в средневековье, как я уже говорил, мельниц (кроме ручных) в Новгороде еще просто не существовало. В это время они только-только начинают появляться на юго-западе Руси. Ручные же мельницы не давали нужного качество помола и не могли обеспечить потребности города в большом объеме муки. По сравнению с ними моя мельница будет выглядеть как вершина технологической мысли, на самом деле такой вершиной не являясь. Как раз то, что надо.
Не в последнюю очередь за организацию именно этого производства говорило и то, что мельничное дело во все времена не только приносило хозяину хороший доход, но и всегда обеспечивало ему дополнительные привилегии в обществе. Но меня больше радовали не эти возможные привилегии, а возможность в значительной части решить вопрос с едой для огромного количества моих людей, ведь основой питания русского человека всегда был хлеб. Так, каждому из моих будущих воинов, с учетом больших физических нагрузок, требовалось порядка 0,75 килограмма хлеба в день. Это, кстати, не так уж и много. Римским легионерам вообще полагалось этого продукта по 969 граммов (почти килограмм) в день. Таким образом, после укомплектования моей армии мне нужно будет на 1000 человек каждый день иметь не менее 750 килограммовых булок. Каждый день! А в месяц? А за год? А напомнить сколько только зерно стоит? Если этот хлеб покупать, то финал известен и уже не раз оглашался – никаких моих запасов ни серебра, ни железа не хватит. Не зря я еще в Москве о мукомольном и хлебопекарном производстве задумывался. Мало того, я понимал, что эти производства нужно так организовать, чтобы мои расходы на муку и хлеб в целом, несмотря на потребление его моей армией, не только полностью окупались, но еще и прибыль бы приносили. Для этого необходимо, прежде всего, принять участие в торговле зерном, построить, хоть и на конной тяге, мельницу и организовать рентабельную хлебопекарню. И все это в рамках существующего на тот период уровня технологического прогресса.
В ходе помола выход ржаной муки составляет порядка 80 %. Это означает, что из тонны зерна я получу 800 килограммов муки (плюс к этому отходы мукомольного производства, но я их сейчас не считаю). Из 100 килограммов ржаной муки выпекается 147 килограммов ржаного хлеба, иными словами, из 800 килограммов муки можно будет выпечь 1176 килограммов хлеба. Если получать искомое каждый день, то и на армию хватит и даже 400 с лишним булок останется на сушку сухарей (будущей зимой они ой как пригодятся) и на продажу. А если увеличить количество муки до тонны в день? А если…








