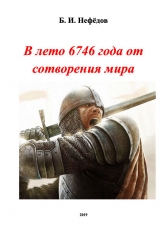
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц)
– Бог в помощь, Игнач. Я смотрю, ты с этими дураками уже разобрался? Говорил я Нечаю, да он меня слушать не стал. Я что хотел поинтересоваться. Вам там (он кивнул в сторону трупов) больше ничего не надо?
– Да, вроде, ничего.
– Тогда мы приберем за вами?
– Не возражаю.
Коська отошел к своим, дал команду, и человек шесть небыстрой рысцой двинулись к месту столкновения.
– Что-то не понял я, чего Коське от меня надо было.
– Так одежду же с убитых. Там и шубы, и портки, и сапоги. Хорошие деньги. Сейчас разденут, а потом трупы в прорубь спустят. Вон и костерок на берегу горит.
Мы двинулись на выход. Трагикомедия закончилась. Проходя мимо Коськи и его людей, развернул «Ксюху», но сторожился напрасно. Коська стоял около своих людей, и, не поворачиваясь, что-то им втолковывал:
– Видали. Как будто два крыла хлопнули и вон они, голубчики, уже лежат бездыханные. Я же им говорил, Игнач это…
Что «это» я не расслышал, снег скрипнул, и мы прошли мимо кланяющейся (!) и внезапно онемевшей толпы «уголовного элемента». Когда отошли немного, я у Митяя поинтересовался:
– Тебя дома не потеряют?
– С чего бы. Сейчас вас провожу, да и подамся.
– Может у нас переночуешь?
– Я здесь всех знаю и меня все знают. Мне не опасно.
Когда подошли к нашему забору, то у ворот я вынул из мешка Митяя только оружие, а все остальное протянул ему:
– Вот что, Митяй. Отныне принимаю я тебя к себе на работу вольнонаемным ординарцем. Питание и одежда за мой счет, ну и серебро не часто, но перепадать будет. А сейчас это отнесешь матери. Здесь сумма большая. Пусть воспрянет маленько. Да и возражать меньше будет против твоей новой работы. Все ли понял? И это…спасибо тебе. Сильно ты нас сегодня выручил. Ну давай, беги. Поздно уже, жду тебя завтра.
На меня смотрели непонимающие глаза Митяя, которые вдруг заволокла мутная поволока. Он смахнул льдинку со щеки и снова протянул мне свой мешок. Но я вернул его руку обратно.
– Ты не понял? Еще раз говорю все это – твое. Я такое решение уже принял. Давай, завтра жду.
Тот засунул мешок за пазуху, развернулся и пошел сначала медленно, по потом все быстрее, пока, наконец, не побежал. Мы подождали, пока он скроется за поворотом и пошли в дом.
– Большое счастье ты сегодня его семье подарил. По Митяю видно, нужда у них.
– Может и так. Зато и Митяй сегодня, кто знает, может быть нам с тобой намного большее подарил чего. Не согласен? Вот видишь. Кстати, ты где так с ножами обращаться намастрячился?
– Так живу же в средневековье, что тут удивительного? Припрет и не тому научишься. Я же тебя не спрашиваю, где ты так стрелять научился. Похоже тоже где-то приперло.
Я резко сменил тему:
– Тебе, Сережа, пора улетать. Видишь, какие разговоры вокруг тебя пошли. Трудно мне без тебя будет, но прощаться надо. Сейчас лишние проблемы ни тебе, ни мне не нужны.
– Да у меня все готово. Завтра с утра с парой соседей попрощаюсь, потом всей семьей демонстративно выедем с «попутным обозом» за городские ворота «на Киев». Тормознемся у родственника жены. Все давно обговорено. Вернемся к ночи на других санях, под сеном, да в ночь и улетим. Что Москве-то передать?
– Большой привет, ёкарный бабай.
Заказов все больше
Шлемники.
Эти обо мне уже слышали и больших проблем во взаимоотношениях у меня с ними не возникло. Мне нужно было 1000 шлемов (они же шеломы, они же шоломы). Чисто конические шлемы на Руси, в отличие от Европы, как-то не прижились и уже к моему появлению наибольшей популярностью в Новгороде пользовались их сфероконические формы – этакие высокие шлемы со шпилем. Отвесный удар, нанесенные по такому шлему, как правило, соскальзывал по плоскости тульи, а стрела, даже при небольшом отклонении от прямого удара, рикошетила. Толщина стенок шлема была от 1,2 до 2 мм, что меня (принимая во внимание мою более качественную сталь ХХI века) вполне устраивало.
Самым сложным в их производстве было изготовление из руды крупных пластин железа, а у меня с этим как раз никаких проблем и не было. Более того, как я и предполагал, наличие ровного полотна великолепной стали настолько поразило и этих мастеров, что когда я сказал, что готов рассчитываться за их работу этим металлом, они первоначально решили, что я просто их разыгрываю, а потом, когда договорились, похоже, долго не могли поверить своей удаче. Удивительно, но я тоже.
Создание шлема из единого куска металла меня не устраивало. Это долгая и трудоемкая работа. Даже если бы все шлемники Новгорода работали на меня одного, они бы (при этом условии) за год не смогли бы выполнить моего заказа. Поэтому я решил пойти по проторенному до меня пути. Дело в том, что новгородские мастера создавали удивительные шлемы. Внешне они выглядели так, будто они были сделаны из одного куска металла, хотя на самом деле были склепаны из 3–4 металлических пластин и тщательно отполированы. При этом места соединения пластин становились (практически) незаметны. На крепости шлема это не сильно сказывалось, а прямой удар стрелы сложного лука цельнометаллический шлем тоже не выдерживал. Хотя сталь у меня иного качества и для моих изделий такие последствия еще не факт.
Вот такие шлемы я и заказал, причем мы сразу договорились, что они должны будут иметь наносники и бармицы. Наносник предохраняет лицо (и тем самым придавал бойцу больше уверенности) а бармицы – это такие сетки, сделанные из тех же колец, что и кольчуга и закрывающие шею.
По оплате договорились, что шлемники получают от меня в качестве оплаты своей работы за пять шлемов цельные куски моего прокатного железа, достаточные, чтобы изготовить один шлем, а по окончании работы, при отсутствии претензий, им остаются ножницы по металлу, которыми я их снабдил. На первое время, чтобы они не простаивали, я предложил им начать делать шлемы наиболее распространенных размеров, а в дальнейшем обещал направлять им моих людей (по мере их появления) для снятия мерок. Я передал им несколько подшлемников для образца и учета их размера в ходе работы, 60 листов проката, ножницы по металлу, и мы расстались с ними крайне довольные друг другом.
Стрельники.
Эти были ремесленниками, занимавшимися изготовлением стрел. Они оказались ребятами веселыми. Когда я сказал, что для меня нужно сделать порядка 150 стрел для каждого из 400 лучников, и по 40 стрел для 150-ти кавалеристов, они откровенно заржали мне в лицо. При этом старший из них (на вид лет 26) изобразил угодливую мину и стал меня откровенно подначивать:
– Какие наконечники прикажите? Листовидные, килевидные, бронебойные, срезни или иные? Как по способу крепления, втульчатые, черешковые…?
– А сколько всего… этих разновидностей?
– Ну, мне лично известно только сто шесть типов железных наконечников, да восемь типов костяных, но наш мастер, думаю, знает еще больше, так что, на любой вкус…
Здесь к нам подошел крепкий мужик с фартуком прямо поверх овчинного полушубка и без слов отпустил ему здоровенную затрещину.
– С кем так разговариваешь, молокосос. Это – Игнач!
– Так он не назвался, да сходу стрел заказал на несколько лет работы. «По сто пятьдесят стрел для четырехсот стрельцов», и «по 40 стрел для 150 кавалеристов» – передразнил он меня. – где ж это видано. У нас у князей в дружинах меньше. Вот мы и решили – разыгрывает. А раз так, то почему и самим не посмеяться? А ты сразу драться…
– Насмеялся? Иди вон делом займись.
Потом повернулся ко мне:
– Меня Еремеем Стрельником все зовут. Не обижайся на него, Игнач. Парень способный, но все у него через хихоньки да хаханьки. Вот и женил его уже, и внуки пошли, а все балабол как был, так и остался. Правда, работник отменный. Иные вещи лучше меня делает.
– Да я не в обиде.
– Тогда слушаю тебя, Игнач. Зачем тебе столько стрел? Тебе для охоты али для битвы?
– Для битвы, Еремей.
– Какие-то особые требования есть?
– Да нет. Вот как раз пытался посоветоваться, думаю, что вам виднее.
– Ну-ка, Никита, подь сюды… Вот человек посоветоваться хочет. Ну, что скажешь по заказу? А мы вот с Игначем послушаем.
Подошел Никита, потирая ушибленный затылок:
– А что думать. Во время боя выбирать некогда. Значит – два вида стрел – бронебойные (граненные и узкие, чтобы кольчуга не защитила), да срезни (против тех, у кого брони нет, а иной раз ими и по животине можно…).
– Вот видишь, Игнач, все он соображает, и советы дает правильное. Правда только после того, как подзатыльник получит. А какие проблемы, Никита? Ну?
– Ну, во-первых, из чего древки стрел будут? Камыш, похоже, не пойдет, нужно дерево. Четыреста стрельцов да полторы сотни конных и каждому – стрелы надо подобрать, чтобы они размеру лука соответствовали, длине рук стрельца, его телосложению. Это – дело серьезное.
Здесь я решил кое-что прояснить:
– Дело в том, Никита, что древки стрел у меня есть уже готовые. На них нужно установить оперение, подогнать длину под каждого конкретного стрельца и установить наконечники.
– Готовые древки? А ты понимаешь, Игначь, что для боя они должны быть ровными, один в один? Здесь и вес их важен, и толщина, и … Я молча достал из сумки десяток моих заготовок:
– На, смотри.
– Ух ты! У кого заказывал?
– Отсюда не видно.
Смотреть собрались все. Брали древки в две руки, пытались определить вес, сравнивали их толщину, удивлялись их прямоте и качеству токарной работы. Еремей не выдержал первым:
– Понял, Никита, кто к тебе пришел? А ты ему: «Сто шесть типов железных». Он тебя одним древком… Чего молчишь? Язык отнялся? Пока все верно говоришь, давай дальше.
– Ну, во-вторых, – уже не так уверенно продолжил Никита, – железа много надо. И все – одного качества, чтобы вес стрел был один и вес наконечника один.
Здесь я его прервал и снова полез в сумку:
– Я передам вам необходимое количество заготовок. Они все – практически одного веса и одного качества металла. А ваше дело – сковать из них нужные одинаковые наконечники.
Кто уже успел отойти в сторону, резво рванул назад. Я достал из сумки нарубленных и одинаковых по размеру кусков металлического прутка одного диаметра.
Прервал меня Еремей:
– Вот так делим. Из этой части расковываем перо, из этой – насад. Мда-а. Никита, иди сюда, я тебе еще раз заеду…
– Да хватит, батя, я и так…
Их разговор потонул в беспорядочном гуле голосов других стрельников. Под восторженное цоканье они били ногтями по металлу и брусками друг о друга, кто-то достал нож и пытался нанести царапину…
– Хорош металл. Откуда привез?
– Издалека, ребята, вы даже не представляете, из какого далека.
Еремей, как старший, решил положить конец начинающемуся безобразию:
– Хорош, уважаемые. Мы разговор еще не закончили. Ну что, Никита, при таких условиях заказа справимся?
– Так это…смотря, сколько Игнач нам на всю работу времени даст и как ее оплачивать будет.
Все повернулись ко мне.
– Правильно, Никита. Ну а теперь ты, Игнач, отвечай.
– Сначала – уточню. Я уже говорил, что мне на каждого стрельца нужно 150 стрел. Из них 110 – с наконечником бронебойным, узким, трехгранным и 40 – со срезнями. Для конницы – по 20 таких и 20 таких. В любом случае весовые соотношения частей стрелы должны соответствовать: вес наконечника должен составлять одну седьмую общего веса стрелы. Ну здесь я думаю, вас учить не надо. Дополнительно по бронебойным. Наконечники должны быть с пирамидальной головкой, общая длина – полтора вершка (67мм), длина головки – чуть больше полвершка, ширина грани – пятая часть вершка. Головка должна иметь перехват у черешка древка стрелы. Поясняю по срезням. Часто используемые сегодня трехлопастные наконечники мне ни к чему. Мне нужны именно срезни, т. е. плоские наконечники, которые и летят с большей скоростью, чем трехлопастные, и в тул (футляр для стрел) их входит тоже больше. Кроме того, каждому стрельцу нужен тул для стрел… Пока по одному. Тулы нужны не круглые, а плоские. Корпус – из двух слоев плотной бересты, обтянутых кожей. Дно из дерева. Стрелы пусть в него укладываются наконечниками вниз, а для предохранения оперения стрел от непогоды у тула должны быть специальные крышки. Ну и последнее, нужно, чтобы тул вмещал 20 стрел и имел ремень для носки.
Я выдохнул (столько времени учил эти местные размеры, да запоминал требования), немного помедлил и, поскольку никто никаких вопросов не задал, продолжил:
– На каждой стреле разной краской нужно будет сделать две отметки. Первая отметка должна содержать три черты: первая черта показывает номер сотни, вторая – номер десятка, третья – конкретного стрельца. Вторая отметка – указывает на то, какой наконечник. На все времени изготовления – год. Теперь по оплате. За сами стрелы плачу своими же заготовками. Каждая одиннадцатая стрела – ваша. Правда в ней от меня только древко и вот такой отрезок металлического прута. Но сами видите, какое это древко и каков металл. За тулы – могу оплатить железом, могу серебром. Оплата – каждый месяц при получении товара. Привлекать можете кого угодно, но принимать буду товар у Еремея, с него и спрашивать, с ним и расплачиваться. Обсудите условия, а я пока могу погулять, что ли.
За всех ответил Еремей.
– Думаю, что обсуждать тут нечего. Условия приемлемые и достойные. Один вопрос, уважаемые, чем за тулы брать будем – железом или серебром?
– Серебра всегда найти можно, а вот такого железа…
– Можно и серебра немного взять…
– А может часть железом, а часть серебром?
– Не надо глупить, все надо железом брать. Тут один вопрос – сколько он за тул железа даст?
Все настороженно обернулись ко мне.
– А сколько железа вы посчитали бы справедливым получить за каждый тул? Может быть мне дешевле будет рассчитаться серебром?
После небольшого совещания был вынесен вердикт:
– За каждый тул просим по 6 кусков твоего железа. Не обязательно такой же толщины, но такого веса.
– Полагаю, что думали торговаться и сойтись на пяти заготовках наконечников стрел. Но я торговаться не буду. Договорились. Считайте переплату как оплату вашего особого прилежания при выполнении моего заказа. Древки и первые партии железа начну завозить уже завтра. Пока выковывайте наконечники, точите их и наклеивайте на древки оперение. По мере поступления стрельцов и получения ими луков, буду направлять их к вам. Вы обрезаете древки до нужной длины, закрепляете наконечники и передаете все Еремею. По рукам?
– По рукам!
– И еще одно. Считается, что стрелы, сделанные печенегами – это лучшие стрелы. Докажите своей работой, что это не так. Все для этого у вас теперь есть. Ну и просто в подарок передаю вам два набора токарных резцов по дереву, они помогут вам вытачивать древки стрел не хуже моих.
Правда, насчет «не хуже» я немного загнул. Все-таки технологии разные. Но оба наборы нужное мне впечатление произвели.
– Мда, правду про тебя, Игнач, говорили на торге. Зря я сразу не верил. Ну, Никита, ох Никита…а ну подь сюды. И во-он то полено с собой захвати. Надо же, перед каким человеком меня чуть не опозорил…
– Да ладно тебе, Ерофей, я его давно простил и тебя прошу о том же. Отработает за свою ошибку. Да ведь и все-таки «чуть не опозорил», а у нас чуть-чуть не считается.
Я попрощался со всеми. Пока везет.
Копейщики.
Оружейники, специализировавшиеся на изготовлении копий, меня уже ждали. Дело в том, что я попросил Якова немного мне помочь, зайти и предварительно переговорить с ними, оставить образцы заготовок наконечников и согласовать время встречи. Поэтому здесь переговоры прошли быстро. Разговаривали сразу по делу. Мне предложили изготовить все 150 копий для конницы и 200 – для пеших копейщиков, а также 400 сулиц уже к концу лета, т. е. даже раньше, чем я рассчитывал. Показали и уже выкованные из моих заготовок наконечники. Честно скажу, они меня впечатлился, тем более что кузнецы свою работу еще и отполировали немного. А режущие части оказались такими острыми, что фирма Gillette бы позавидовала. Поэтому, когда они запросили каждую шестую заготовку в оплату, я спорить не стал, но забрал с собой выкованные образцы. Честно объяснил: с такой красотой и расставаться не хочется. Кузнецы переглянулись, но встретили мою просьбу с пониманием. Только предупредили, что заточка у них боевая и мне нужно быть с ними поосторожнее. Да я это и сам вижу. На следующий день я уже отправил им первые сани, груженые заготовками, так что работа и над этим моим заказом тоже началась.
Щитники.
По заказу щитов довелось поговорить со знаменитым на весь Новгород Гаврилой-щитником. Когда я объяснил ему, что мне нужно 150 каплевидных щитов для моей кавалерии (они хорошо прикрывают большую часть тела всадника и практически всю левую ногу), он только одобрительно кивнул головой.
– Это правильно. Такой щит как бы повторяет форму шеи лошади и дает защиту ногам всадника. Руке не нужно двигаться для защиты ног. Большое дело, особенно, когда этой же рукой поводья держать надо.
Но когда я сказал, что этот щит не должен быть плоским, а иметь небольшой прогиб, быть как бы двускатным, и что это должно позволить более плотно прижимать его к телу, Гаврила вдруг поднял бровь и с удивлением уставился на меня:
– Впервые о таком слышу.
Удивил значит. Но я действовал решительно, поскольку точно знал, что такие щиты появились именно в это время и где-то в этих местах. Кто был их «родоначальником» неизвестно, так почему бы им не оказаться, если не Игначу, то Гавриле-щитнику?
– Но саму форму такую воспринимаешь? Вот и подумай, как такие щиты сделать, да чтобы крепкими оставались, как и раньше.
– Очень интересно. Подумаем. Необычно, неожиданно, но качество защиты эта новинка, бесспорно, должна увеличить. А там, как я понимаю, и князь за такими придет, и Владыка, и…
– Ну ты губу потом раскатаешь. Возьмешься?
– Возьмусь, а, точнее, возьмемся. Я не от себя одного с тобой договариваюсь. Заказ – то не маленький. Одному и не справиться. Мы, честно сказать, тебя уж заждались. Всех заказами обошел, а у нас только сегодня появился.
– Да, вы оказались не первыми, но и не последние. Просто дел очень много, все не успеваю, так что давай без обиды. Вернемся к заказу. Это не все, что мне надо. Нужно еще 200 щитов для моих меченосцев. Какие порекомендуешь?
– Здесь, думаю, пока надо тебе оставить круглые. Дерево, обтянутое кожей.
– Почему не каплевидные?
– Когда меченосец бежит в атаку, каплевидный щит, если не нести его горизонтально, будет бить его по ногам. А понесешь горизонтально, то нет защиты от стрел. А зачем тогда такой щит?
– А если его вверх поднять?
– Меченосец не будет видеть, что перед ним.
– Ладно, принято. А почему дерево? Почему кожей? Может металлом каким?
– Металлом говоришь? Ну-ну. Пошли-ка со мной.
С этими словами он провел меня в небольшой «дворик». У столба, что был врыт в его середине, лежало два щита. Один был покрыт металлом, похоже бронзой, толщиной где-то миллиметра 3, на другом была натянута толстая кожа. Гаврила повесил первый щит на штырь у столба и протянул мне рукоятью меч, что захватил с собой перед выходом.
– Бей!
Я уже немного владел мечом, ударил с размаха и от души. Результат превзошел любые мои ожидания. Стальной меч просто разрубил бронзовый щит пополам!
Извини, Гаврила, не хотел вещь испортить.
– А ты и не испортил. Этот был что так, что этак – все равно не щит. Я его именно вот для такой его судьбы у охраны восточных купцов и выменял. Ну а теперь давай этот.
Я размахнулся и со всей силы нанес удар мечом по второму щиту, который Гаврила повесил на смену первому. Здесь тоже мои ожидания не оправдались, но с точностью до наоборот. Щит пробиваться никак не хотел. Потом ударил еще, и еще, и еще. Только после полутора десятков ударов (когда я уже откровенно запыхался) на щите появились небольшие изменения. Не может быть! А Гаврила стоит рядом, да ухмыляется:
– Не все тебе, Игнач, новгородцев удивлять. Вот, кому скажи, что ты кожаный щит разрубить острым мечом не смог. Да ты не кручинься. Скажу тебе по секрету – никто бы не смог. Дело не в том, что он кожаный, а в том, как этот щит сделан. Кожу для него я взял с плечевой части шкуры быка. Она у него в этом месте самая толстая. Потом выварил ее в растопленном воске, потом… Впрочем, эти тонкости тебе вряд ли будут интересны. Тебе ведь результат важен. Ну, так какой щит будешь брать? Первый вон с металлом и поувесистей. Да и подороже.
– Да ладно тебе, Гаврило. Какой буду брать – понятно. Но удивил, так удивил.
Лицо Гаврилы растянулось в довольной улыбке. Надо было изыскать ложку дегтя.
– А как твое чудо будет держать стрелу из тяжелого сложного лука?
– Стрела насквозь далеко не пробьет, но если попадет в руку, что держит щит, то «поцарапает». Я слышал, что у тебя есть удивительно ровные пластины железа, что стрелой не пробиваются. Если на дерево щита изнутри защитную полосу из него для руки поставить, то лучше щита нигде не найдешь.
– А если дам такое железо, на щит изнутри сможешь ее прикрепить?
– Невелика задача.
– Ну, тогда пошли договариваться с оплатой.
Брать в оплату железо Гаврила отказался. Оно ему вроде как бы и ни к чему. Но за серебро я торговался долго. Сошлись на 150 новгородках за весь заказ. И все-таки похоже, что он меня и здесь немного объегорил. Мне бы надо было паузу взять, а то все перед глазами этот волшебный щит стоял, который я никак мечом даже хорошо поцарапать не мог. От Сергея бы наверняка досталось. Но не все мне выигрывать. Коммерческий риск он всегда присутствует в торговле. Зато в качестве товара сомневаться не приходилось.
Затем был скорняк-кожевник.
У него заказал пояса для своих будущих десятников, полусотников, сотников и командиров видов войск (с металлическими украшениями – пряжкой, бляшками и хвостовиком). Чем выше уровень, тем богаче пояс. У рядового состава будут офицерские ремни моего времени (с портупеей). Тоже ничего. Отличная кожа, металлическая пряжка. Помощь телу в ношении меча, сабли или тесака. Для средневековья – выше крыши.
Но вначале предлагаемые им кожи для изготовления поясов я забраковал. Все-таки в этот период не только выделка шкурок, но и выделка кож в Новгороде находилась на не очень высоком уровне. Серьезное добротное кожевенное производство здесь началось только во второй трети XV века. Договорились, что кажи он закупит привозные, а я их оплачу серебром, но после предварительного одобрения мною сделки. Отдельно оплачиваю и металлические накладки на пояса, в том числе бронзовые и серебряные. Договорились и о том, что непосредственно работу самого мастера я оплачу скорняжным инструментом (разнообразные ножи, лезвия, расчески, правилки, ролики для швов, копиры, пинцеты, щипцы для растяжки меха, скорняжные иглы (трехгранные, разных размеров) и наперстки, две бабины скорняжной нити (чистый полиэстр, привезенный, естественно, из Константинополя) и даже колки (такие гвоздики для правки меха). Получилось затратно, но ведь средневековье за окном, как уже не раз говорил, встречают и провожают по одежке и за окном – открытое закрепление социального неравенства. После того, как обо все договорились, показал скорняку фокус —, плеснул ложечку Фейри в чан со шкурами. Обалдевшему скорняку обещал отдать две таких бутылки, если его работа удивит меня своим качеством.
Сапожники.
Зашел к сапожникам. Предварительно поговорил об изготовлении ими 1000 пар сапог на весну, лето и осень. Поинтересовался, смогут ли они их сделать «на правую и левую ноги». Удивил. Объяснил, в чем разница. Узнал об оплате. Заказывать пока не стал, людей еще нет, да и если оплата за зеркала задержится, то может так получиться, что с этим заказом мне будет самостоятельно не справиться. Тем более, что сейчас приходится закупать продукты. Появятся люди, их кормить надо.
Шорники.
Наконец, пошел в лавку, торговавшей шорно-седельными товарами. Здесь задержался надолго. Сидели, пили горячий взварец, вели неторопливую беседу. Результатом стало, во-первых, заказ амуниции и седел для моей тяжелой конницы. Пользуясь полученными еще до моего отлета сведениями, и имеющимися в лавке образцами седел я объяснил на пальцах то, что мне было нужно. Все это уже где-то существовало, но до Новгорода еще не дошло. Мы договорились, что высокая лука боевого седла должна быть немного расширена и превратиться в переднюю спинку седла, прикрывающую всадника от пояса и почти до колен. В то же самое время заднюю луку седла нужно изогнуть по краям вперед так, чтобы она как бы обнимала бедра всадника. Седла для легкой кавалерии сделать иначе. Они должны давать возможность лучнику повернуться в обратную сторону и стрелять на полном скаку, при этом контролируя направление движения коня. У уздечек должно было быть две пары поводьев. Одни поводья должны быть сделаны из узких ремней, а вторые – из более широких. Поговорили и о чересседельных сумках. В результате договорились на изготовление 120 седел для тяжелой кавалерии, 30-ти для легкой, 150 уздечек, да 80 чересседельных сумок. Оказывается, они же занимались и изготовлением стремян. Заказал и их для всех 150 боевых лошадей. Однако попросил, чтобы стремена были с широким основанием (металла больше, но езда переносится легче), а вершине скобы стремени придали круглую форму (хотя и знал, что такие стремена появятся только в конце XV века).
Об оплате даже вспоминать не буду, хотя аванс пришлось внести сразу. Задушевный разговор он, как оказалось, дорогого стоит не только в переносном смысле. Ёкарный бабай.
Работорговец
Надо признать, что важной статьей дохода в Древней Руси (об этом как-то не любят писать в современных мне учебниках) была работорговля. При этом торговали не только пленными чужеземцами, но и славянами, причем не только попавшими в рабство за долги, но и взятыми в плен во время многочисленных столкновений между княжествами. Главными работорговцами считались (и были) евреи-радониты. По крайней мере, один такой (по имени Ибрагим) как раз и руководил вопросами торговли людьми в Новгороде. К нему-то я в один из «не торговых» дней и решил заглянуть. Мне для моего дела его товар мог понадобиться, и я решил, на всякий случай, с ним заранее познакомиться.
Меня Ибрагим встретил лично:
– О, сам Игнач к нам пожаловал. Бог в помощь тебе в трудах твоих.
– Во славу Божью. Кем торгуешь сегодня?
– А кого надо? Поискать, так кого хочешь найдем. Есть мужчины, есть женщины, есть маленькие, есть большие, есть полные и есть худые. На любой возраст и вкус.
– Мне нужны крепкие мужи. Лет от 16 и до 30. Есть такие?
– Конечно есть. Кого брать будешь? Есть удмурты, марийцы, зыряне, пермяки, остяки, вогулы, эсты, веси, мещера, вепсы, карелы, лопари, водь, ливы. Вот ижорцев сейчас нет. У них какие-то договоренности с нашим князем, мне неприятности из-за них ни к чему. Мордва есть, причем и мокши есть, и эрзя.
– Так мордва или эти…мокши и эрзя?
– Это одно и то же, только ни мокши, ни эрзя себя мордвой не зовут. Их мы так зовем. Язык у них один, обычаи общие. Там еще терюханы и каратаи есть, но этих сейчас у меня в продаже нет. Но если тебе нужны именно они…
– Нет-нет. А славяне есть?
– Сколько брать будешь?
– Даже вот так?
Я знал, что ко времени монгольского нашествия никакого единого государства «Русь» фактически не было. Было полтора десятка крупных и мелких княжеств, плюс масса мелких и формально независимых друг от друга владений. Среди них выделялись несколько наиболее мощных княжеских кланов, ведущих между собой борьбу за лидерство (скажем, князья Галицко-Волынские, Владимиро-Суздальские, Тверские или, скажем, Рязанские). Как ни удивительно, но для таких владений и княжеств население соседей было «иностранным», как говорится, со всеми отсюда вытекающими последствиями. В том числе и для работорговли. К примеру, в 1169 году владимиро-суздальское войско взяло штурмом славянский же город Киев, захватив там множество пленников и перепродав их в рабство. Рабов было столько, что в тот год на новгородскую гривну можно было купить трех, а то и четырех человек.
Больше того, иногда родного брата-славянина считали чуть ли не худшим из врагов. Так, в борьбе за великокняжеский престол после смерти Всеволода Большое Гнездо в Липецкой битве 1216 года встретились две враждующих группировки, поддерживавших двух разных сыновей Всеволода – старшего Константина и второго по старшинству – Юрия (которого Всеволод назначил наследником). Юрия поддержали все младшие братья, а также дружины Владимира, Суздаля, и Переславль-Залесского, а также муромцы. А в стане Константина оказались дружины Ростова, Пскова, Новгорода, Смоленска и князя киевского Мстислава Удалого (желавший вернуть княжеский стол в Новгороде). Юрий битву проиграл. Но речь не об этом. На княжеских советах перед этой битвой (с той и другой стороны) постановили «Пленных не брать!». В результате эта битва была одной из самых жестоких и кровавых междоусобных сражений в русской истории.
Я постарался объяснить Ибрагиму свой интерес:
– Понимаешь, все славяне разговаривают на одном языке. Различия незначительны. А мне карелов да лопарей учить языку надо будет. У меня на это времени нет.
Ибрагим посмотрел на меня с каким-то сожалением, стряхнул отсутствующую соринку с руки:
– Перво-наперво, у меня есть и не славяне, но язык наш понимающие. При этом остяк или вогул значительно дешевле, чем славяне. Считай втрое.
– Почему?
– Трудно приручаются. Но можно и славян достать, при желании. Тебе славяне зачем? Ежели «на Восток», то, сразу скажу, будет дороже.
– А что, «на Запад» тоже продаешь?
– Так еще в 1223 году (как раз в год битвы на Калке) смоленский князь Мстислав Давидович в деньгах очень нуждался, вот он и заключил договор с купцами из Риги и Готланда. По нему он продавал им своих холопов (в основном, славян) по одной новгородке за штуку. После этого и повелось.
– А почему, если покупаю «на Восток», то дороже?
– Владыка наш и так на мою торговлю косится, а если христиан продам иноверцам, то хорошего от него не жди.
– Но ты ведь, хоть и дороже, но продаешь.
– Продаю. Товар у меня такой. Вон посмотри на гончара. Наделал он горшков, расставил на прилавке и никаких забот. Горшки ни есть, ни пить не просят, тепла в морозы не требует, одежды да обуви тоже. В общем, расходов никаких. А у меня? Каждый день расходы. А это – что? Убытки! Их в стоимость не включишь. Добавь к этому случайных торговцев. Сбивают цену, оттирают на себя покупателей, а это – опять убытки. Поэтому подвернется покупатель – продам. Но за Восток нужно будет переплатить.
– Ну ладно, не нажимай. Я знаю, что торг, он слезу любит. «Продам». А как же Владыка?
– Торговлю моим товаром даже он запретить не может. Не только нам, но и многим большим людям выгода от нее, а потому никакие укоры, даже церкви нашей, её все равно остановить не смогут.








