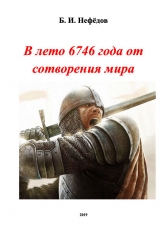
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
Глава 10. Нашествие
В лѣто 6746. В то лѣто придоша иноплеменьници, глаголемии Татарове, на землю Рязаньскую, множьство бещисла, акы прузи;…
Новгородская первая летопись.
Приезд князя
Прошло более полугода. Было начало февраля 1238 года. Природа замерла, будто что-то предчувствуя. В этот день с утра, что стало уже привычкой, я поднялся на южную (или, как мы ее еще называли, главную) стену моей крепости. Отсюда открывался великолепный вид на окрестности и, кроме того, с такой высоты я имел возможность наблюдать и за текущей жизнью моих людей, и за происходящим на дороге, как со стороны Новгорода, так и со стороны Нового Торга. Вон внизу на площадке у крепостной стены проходят тренировки конницы. Мимо них, направляясь к стене, строем прошла сотня меченосцев. Ежедневно, меняясь друг с другом, бойцы отрабатывают штурм стены и ее защиту. Эти сейчас будут ее штурмовать на заранее согласованном отрезке, а потом встанут на ее оборону. Такой подход позволяет воинам посмотреть на ситуацию и с той и с другой стороны, понять сильные и слабые стороны защитных сооружений, привыкнуть и научиться отражать вал агрессивных и быстро действующих наступающих, а также почувствовать самим тот червячок страха и неуверенности, что неизбежно появляется у каждого, штурмующего хорошо защищаемую стену. Слева, ближе к дороге, стрельцы устанавливают на разном расстоянии свои мишени. Ежедневно каждый из них должен сделать не менее 150 выстрелов. Но это – минимум и он установлен для всех, даже для тех, кто занят на хозяйственных работах, поехал проверять сети или на охоту. Вон, кстати, поднимаются к крепости сани с бочками. Эти, наверное, везут воду для прачечной, столовой или бани. Конечно, для текущих нужд есть и два колодца, но их воды (особенно если учесть, что нужно поить лошадей) не всегда хватает. Бельский даже приказал на случай осады наморозить воды в ведрах и полученный лед сложить пирамидой на пятачке у больших стогов сена за конюшней. В случае нужды, воды для лошадей из них всегда можно будет натопить.
Но я ошибся, завернули сани с бочками в другую сторону. Похоже, что они выполняют другой мой приказ – начинают заливать водой бревенчатые стены. Ну, что же, тоже дело нужное.
Краем глаза почувствовал движение на дороге со стороны Нового Торга. Напрягся было, но сразу отпустило. Это шел один из моих обозов. За эти месяцы я выгреб из новоторских купцов столько зерна, пшена, овса, гороха и соли, сколько смог. Достаточно сказать, что из моих когда-то приличных запасов железных ломов (так и оставшихся самым ходовым товаром) осталось всего около сотни, но эти я трогать не стал. Пришлось свои стратегические запасы серебра использовать. Еще в начале декабря, сделав необходимый запас муки для собственных нужд, пришлось продать мельницу немецким купцам (которые живо перетащили ее к себе). Это в значительной степени поправило мои финансовые дела. Князь за мельницу на меня попенял, но я напомнил ему, что оставил в его распоряжении (считай в подарок) в селище практически все хлебопекарное производство, что у меня своей вотчины нет, а Новгород содержать мне мое войско никак не помогает, что купить мельницу за ту же цену, что я продал зарубежным гостям, он вряд ли бы согласился, а расходов у меня немерено. Даже попытался эти расходы озвучить, но тот только рукой махнул. Не мог же я ему сказать, что потом археологи найдут мельницу именно на Немецком дворе, а не на старом Городище.
Да, хорошо я почистил Новый Торг. Битком набиты зерном срубы в крепости, да и в селище, и даже в моем доме в Новгороде (в нем и осталось-то незанятыми, только помещение под свечной заводик, да жилье для немногочисленных оставшихся там моих людей). Впрочем, и другие новгородские купцы не дремали. Но выгрести всё из закромов новоторов мы, конечно же, не смогли. Недаром монголы, после взятия этого города, будут еще две недели отъедаться на найденных захоронках его купцов.
Это был один из последних моих обозов. Дальше – рисковать нельзя. Этих обозных отправлю вместе с лошадьми и санями в селище. Здесь и так места не хватает. Там они будут ждать моей команды на возвращение. И не просто ждать, а охранять сосредоточенные там запасы продовольствия и корма, а потом, после битвы, доставят их сюда, в крепость. К тому времени здесь много складского места освободиться. Там, в селище, осталось и все остальное обозное хозяйство, включая лошадей, а за ними тоже надо присматривать. В общем, сильно отдыхать им будет некогда. В то же время, большая часть обозных уже сейчас находится в крепости. Мне здесь каждый человек дорог.
О, надо же, впереди обоза на трех санях едут мои охотники. Что-то они рано сегодня. Да нет, вон туши освежеванных животных на санях. Причем, не меньше трех лосиных, остальные поменьше. Видимо сегодня охота для них была удачной. Это хорошо, такой запас карман не тянет. А то скоро никого, кроме разведки, за ворота выпускать будет уже нельзя. У монголов тоже разведчики имеются. Риск в этом деле мне ни к чему.
Прибежал запыхавшийся Митяй. Хорошо подрос и окреп он за этот год. Добрый будет витязь со временем.
– Михаил Игнатьевич, князь едет.
– Где?
– Да за обозом, вон же из-за последнего поворота показался.
Я перевел бинокль и действительно увидел Александра Ярославича с небольшим (человек 15) окружением. Кто-то из них затрубил в рог и люди у ворот башни засуетились. Князь не обоз, этого по-другому встречать надо.
– Давай, Митяй, дуй к Марфе и к Степану Молчуну. Пусть подумают, чем людей князя кормить, да где разместить. Да пусть Степан о бане побеспокоится, с дороги баня – это первое дело. Обозным придется помыться потом. А я пойду к воротам, встречать гостей.
Встреча прошла тепло. Князь сразу объяснил, что он проездом из Нового Торга, встретил в нем мой обоз и решил с ним поехать, да к нам заглянуть, посмотреть, что тут, да как. В случайности я, конечно, не поверил, но промолчал.
Зимний день короток, поэтому, пока, как у нас говорили в мои теперь уже очень далекие времена, суд да дело, решили мы с князем пройтись по крепости, тем более что он ее еще не видел.
– Крепость у тебя, Михаил Игнатьевич, со стороны Нового Торга на черепаху похожа. Видел таких? Мне как-то привозил отец, когда я еще мальцом был. Так вот, две башни по краям – как у нее передние лапы, а башня, что посередине уж очень на ее голову похожа. А холм – ну один в один ее панцирь. Как, кстати, у тебя эти башни устроены?
– А давай в центральную заглянем. Как видишь, она треугольная. Лучше бы, конечно, если бы она круглой была, но и так ничего. Внизу у нее, первый этаж, здесь все сделано для удобства стрельбы через бойницы по наступающим врагам. Хочешь, повернулся и бей им в грудь, а если есть у кого щит, то по ногам. Хочешь, бей их в бок на стене. Прикрылся гад от тебя щитом, бей тех, кто выше. От стрелы снизу щитом не прикроешься.
– Занятно.
– Пойдем наверх. Здесь не этаж. Здесь моя коморка. Помещение получилось низкое, мне в нем только сидеть. Или лежать. Вон у бойниц что-то типа лежаков сделано. Так уж получилось, но я сам настоял на такой высоте, а то стрельцам этажом выше с их длинными луками с необходимым удобством было бы не разместиться. А мне все равно, тем более что здесь хранятся некоторые вещи, с которыми мне удобнее именно сидя, а лучше даже лежа работать.
– Что за вещи?
– Покажу как-нибудь, – соврал я.
– Ну, пойдем еще выше.
На третьем этаже башни было помещение, напоминающее первый этаж, но только из него вверх по штурмующим уже не постреляешь, просто верхние бойницы были на одном уровне с частоколом.
– Тоже удобно нападающих бить, им от моих людей, что на боевой площадке их дожидаются, отбиваться надо, а руки-то только две. От стрел из башни прикрыться уже нечем. Остальные башни такие же, только без коморки, а потому немного ниже.
Прошлись с князем и по боевой площадке.
– Сверху у моих воинов защита от стрел. Здесь они спокойно поджидают нападающих. Первый ряд – мечники, бьют снизу, второй ряд – копейщики, колют в грудь, и те и другие привыкли работать вместе. Все время отрабатываем и их совместную работу, и смену с резервом. Трудности только с уборкой убитых. Боюсь, что здесь понадобится команда числом чуть ли не больше самих бойцов. Работают баграми, затем добивают, если еще живой и вот туда, в овраг.
– А внизу что?
– Верхний этаж – казармы, а ниже – срубы, в них наши заготовки на зиму.
– Как разместились?
– Тесновато, но ничего, у Наполеона солдаты вообще на одном месте вдвоем спали.
– У кого?
– Да это я про одного известного воеводу, ты его не знаешь.
Сверху спрыгнул Митяй.
– А ты откуда? – спросил князь.
– Так у нас там площадка для стрельцов. Она повыше и им оттуда будет легко стрелять поверх голов наших, что на боевой площадке у стены драться будут. А при необходимости стрельцы смогут оттуда, как я, сюда спрыгнуть, помощь оказать.
– Я смотрю, в боковых башнях ворота стоят. Тарана не боишься?
– Не боюсь. Ворота так поставлены, что таран не применишь. Они получаются как бы вдоль дороги. С той стороны тарану развернуться помешает огромный валун, а с этой – завал из залитых водой толстых деревьев.
– Кого воеводами поставил?
– Воевода здесь один – я. Мое место – в центре главной стены. Справа от меня командует Матвей Суздалец, слева – Кежай, командир лучников, а вот та стена, где валун, там Алексея Щуку поставил.
– Это который у копейщиков за главного?
– Его.
– Что сказать, я бы тоже так сделал.
Потом мы прошли на стену, обращённую к озеру. Здесь уже начиналась основная засека, защищающая наш тыл. Но дорога к озеру еще действовала.
– Когда будешь заваливать дорогу?
– В последние дни. Сейчас воды много надо. Стены, склоны холма заливаем. Наверху холма, на дальнем склоне, за деревьями не видно, часовенка стоит, лазарет, пункт приготовления еды, бани, и мой штаб. Их крыши и стены тоже думаю водичкой хорошо сбрызнуть. Так что, пока дорога эта нужна, не хочу создавать лишние неудобства.
– Здесь до озера недалеко. Монголы могут попытаться пробиться через засеку.
– Я это понимаю, но, чтобы все везде хорошо было, так тоже не бывает. Здесь завезем еще деревьев. Увеличим высоту засеки. Основную атаку здесь не проведешь, но без присмотра эту стену, конечно, не оставишь.
Стена третьей стороны крепости была защищена считай до самого горизонта сплошной засекой с завалами. Тут к крепости даже пешему не подойти. Но сама стена тоже оставалась «трехслойной». В самом низу– срубы довольно большой для такой крепости конюшни, сверху – жилье кавалеристов, срубы с сеном. Наверху – боевая площадка, правда уже без балкончика для стрельцов. Возле конюшни – довольно большая для маленькой крепости площадка, на которой виднелись еще стога с сеном, но оставалось (впрочем, совсем немного) место и для выгула животных.
– Не тесно.
– В полной тесноте нам придется пробыть недолго – дня три, в течение которых все решится. Надеюсь, что за эти три дня здесь сильно просторнее не станет.
– Мрачно шутишь.
– В большой битве потери неизбежны.
– Ну ты, я смотрю, крепко устроился. Кого здесь поставишь?
– Мне люди нужны на главной стене. Ее монголы прежде всего штурмовать будут. Больше негде. Хотя отвлекающие удары со стороны озера и со стороны дороги, полагаю, возможными. Вначале здесь Бельский покомандует, ну а потом…посмотрим.
Пошли к четвертой стене. Вижу, князь доволен:
– Ну, со стороны дороги тут сильно не по штурмуешь. Между холмами узкое место. Прямо на дороге – башня. Над воротами, смотрю, подвешены тяжелые бревна. Стены начинаются на высоте, вместо вала использован сам холм. Все залито водой. А за башней – сплошной бурелом. Только дорога свободна, но, думаю, что здесь вы уже тоже что-то придумали.
– Конечно. Провожу на Новгород последний обоз и завалим ее тоже. Оставлю только площадь перед главной стеной, а у этой стены только место у башни, чтобы ворота можно было использовать. Главная же стена – самая длинная и внешне – самая доступная для штурма. Мне необходимо, чтобы монголы не могли рассматривать мою крепость как неприступную. Ну вот, князь, полный круг по стене нами сделан.
– Давай, в баньку, потом поедим, да сядем где-нибудь, поговорим по делам.
– Согласен.
Уже через пару часов мы с князем, распаренные после бани, сидели в моем хорошо натопленном «штабе», пили стоялый мед, но понемногу. Так, для разговора. Оба понимали, что пора переходить к деловой части беседы, но приятных новостей было мало и, наверное, поэтому каждый из нас хотел ее начало немного оттянуть. Наконец, я не выдержал и спросил без всякого перехода:
– Ни Рязань, ни Владимир никаких оборонительных мер не предприняли. Почему? Нападение для них оказалось внезапным?
Александр Ярославич ответил мне с явной неохотой:
– Нет. Никакого внезапного нападения не было. Я им подробные сведения передал, но они, если честно, им и не требовались. У них и своих видаков на той стороне хватало. Просто не захотели до конца поверить в такую напасть. Понадеялись на «авось пронесет», да на «не может быть». Ну, не ходили степняки в набеги зимой. Все давно привыкли, что те нападают либо с началом весны, либо осенью. Им говорят – «придут», а они все равно до конца не верят. Должны же монголы были понимать, что от бескормицы всех своих лошадей за седьмицу – другую лишатся. А тут еще и зима в этом году суровая. В общем, была у них надежда. Потому и беда, о которой и предупреждали, и говорили, и к приходу которой, в общем-то, готовились, пришла, как это часто у нас бывает, неожиданно. Ведь что еще, почему никто из князей не поверил и не смог оценить размеров опасности. Никогда степняки не брали города штурмом. Или с наскока захватывали ворота и вырезали охрану, или город брался осадой (которая редко давала результат, и то, в основном, через предателей). Рассчитывали, что если и придут, то или в честном бою во чистом поле ворога порубают, либо отсидятся за стенами.
– А теперь что же, волосы на бороде рвут?
– Кто живыми остался. Ты знаешь, я тоже до конца не верил, что кочевники зимой нападут. Люди – ладно, но кони. Их кормить надо, иначе – падеж, а без лошади кочевник уже не воин. А кормить лошадей, это какие же обозы нужно с собой тащить? Но эти монголы, смотри, двигаются так быстро, что, похоже, и обозов-то у них нет.
– Обозы есть. В такой большой армии всегда есть имущество, которое на спину коня не погрузишь. Кроме того, именно в обозе везут запас стрел, походные кузни, детали камнеметных машин. Ну и, конечно же, неприкосновенный запас продовольствия и корма для животных. Да и трофеи с награбленным куда-то складывать надо. Одного железа сколько, одежды, кож и прочего. Во вьючных мешках не увезешь. Но обозы эти не громадные, как может показаться, если исходить из размеров наших обозов во время военных походов. Монголы любят попировать, но в походах очень неприхотливы. Каждый из них везет вяленое мясо, сушеный сыр (что-то вроде нашего творога), муку в виде толокна и пшено. Причем пшено монголы прокаливают на огне, в результате чего зерна разрываются изнутри и потом легко развариваются. Весит такая еда немного, но очень питательна. Мне доводилось видеть (и даже есть!) еще один их удивительный продукт, который у меня на родине называют пельменями. Это такие маленькие пирожки из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, которые отваривают короткое время и едят. Не только питательно, но и очень вкусно. Угощу при случае.
– Мясо – конина?
– Да нет, обычная говядина или баранина. Ты что же думаешь, они одной кониной питаются?
– Ну, с людьми понятно. Что-то проели, что-то охотой добыли или в ближайшем жилье запасы еды отобрали. Кстати, не знаешь, сколько их?
– Подсчитать сложно, но давай попробуем. В походе участвует дюжина потомков Чингисхана (создателя их армии и государства): Байдар, Берке, Бури, Бучек, Гуюк, Кадан, Кюльхан, Мункэ, Орда-Ежен, Тангкут, Шибан, ну и Батый (или Бату хан), под общим руководством которого, как считается, поход и осуществляется. Каждый из этих чингизидов – командир отряда, численностью никак не меньше половины тумена, а это – 5000 воинов у каждого.
– Сколько?
– Тумен – 10000 человек, половина тумена – 5000 воинов.
– Ты пошутил? У меня в дружине 5 сотен не наберется!
– Да какие уж тут шутки.
– Получается, что пришло 60 000 воинов?
– Больше. Я не назвал еще двух темников – Субедея и Бурундая – у них свои отряды, да и отряды чингизидов я посчитал по минимуму. Конечно, не все воины участвуют в сражениях. Много вспомогательных отрядов. Пока боевые части воюют, вспомогательные охраняют обоз, грабят население и, главное, собирают продовольствие и фураж. И все-таки воинов много. Очень много. Пойми, княже, эта орда собрана для одного – идти на Запад до океана-моря и завоевать все известные нам государства. Все!
– И… Новгород?
– И Новгород. Богатый город. Много, как они говорят, добычи «золотом и красой».
– Какой красой?
– Они имеют в виду не храмы и не изделия наших мастеров. Это они о наших женщинах.
– Я давно тебя знаю, поэтому верю. Никому бы другому не поверил. Теперь я понимаю, почему Рязань погибла так быстро. Но откуда у кочевников столько людей? На степных просторах для перегона своих стад им нужен простор. Людей мало. Где соберешь столько?
– Монголы захватили огромные территории. Во много раз больше, чем известный тебе мир, в тысячи раз больше, чем Новгородские земли. Из покоренных народов они также набирают себе воинов. Их хватает. Соседние народы называют таких воинов татарами, но это не совсем так. Они (пока) похуже вооружены, чем монголы, и ни сами, ни их потомки никогда не смогут стать ханами, но при этом у каждого когда-то забитого пастуха есть возможность при добросовестной и честной службе значительно подняться над своими собратьями, достигнуть вершин, о которых в прежние времена он даже и мечтать не мог. Для всех в орде существует очень строгая дисциплина (за многие наши проступки у них наказанием служит смерть), но воины, в том числе из покоренных народов, служат не за страх, а за возможность исполнения этой своей мечты. А значит и бьются стойко в обороне и храбро в нападении. Все они уже испорчены легкостью побед и богатой добычей, поэтому служат не из-под палки.
– Ты говорил, что у каждого монгольского воина есть по две-три лошади. Получается, что под рукой у Батыя огромная конная армия, чуть ли не в 200 тысяч голов. Может люди что-то не так поняли? Или приврали раз этак в 10? Где же монголы корм для стольких лошадей берут? Зима же, травы нет, есть лошадям монгольским нечего, а зерно, как я слышал, их лошади не едят.
– Вопрос твой не простой. Мы с тобой уже как-то немного говорили об этом. Ну что же, давай обсудим его поподробнее, тем более что многие и сейчас (и потом) будут его задавать. Начнем с того, что если бы монгольским лошадям действительно нечего было бы есть, то вся конница монгольская, что в 20 000 голов, что в 200 000 голов в результате бескормицы давно бы уже перестала существовать, приняв голодную смерть. Но этого не произошло, хотя частью лошади действительно в течение похода пошли под нож. Правда, это больше связано с боевыми действиями и ранениями животных, но сказалось и то, что им пришлось пройти во время набега за довольно короткое время просто огромные расстояния и часть животных, конечно же, как это всегда в таких случаях бывает, просто этого не выдержала и обессилила.
– Но это не ответ.
– Я просто для начала хочу, чтобы ты, князь, понял одно: передвижение по заснеженным русским землям огромного количества монгольских коней это реальность. Здесь нужно объяснение этому, но невозможно отрицать того, что действительно имело и имеет место. Причин того, что нет массового падежа монгольских лошадей от бескормицы, довольно много, но, на мой взгляд, главная из них – это сами эти монгольские лошади. Они крайне неприхотливы, но энергичны, выносливы и надежны, хотя и небольшие и ростом в холке достигают всего-то 115–125 сантиметров.
– Я видел этих лошадок на торгу. Купцы монгольские с ними приезжали. Наши посмеивались, уж слишком эти лошади действительно низкорослые. У купцов этих, помню, мои дружинники все интересовались (с подначкой), что это за собак они с собой привезли, а те…
– Вот и зря посмеивались. Во-первых, это удивительно преданные и верные животные, которые в ответ на доброе к себе отношение готовы исполнить любой приказ своего хозяина. Кстати, они очень любят детей, и ты не поверишь, но в степи им часто доверяют их охранять. Во-вторых, эта лошадка, в силу густого шерстяного покрова и особенностей своего организма, легко переносит сильные холода и не требует конюшен для своего содержания зимой. Она привыкла обходиться малым количеством воды и ей часто достаточно снега под ногами. При этом она очень резва и вынослива и может под всадником проходить каждый день огромные даже для наших (особенно для рабочих) лошадей расстояния. Например, за один день она способна пройти треть пути между Новгородом и Новым Торгом.
– Да ну…
– Вот тебе и «да ну». Кроме того, монгольская лошадь имеет скорый, производительный шаг, довольно легкий галоп, хорошо плавает, отлично передвигается в песках, легко взбирается на холмы (сопки) и спускается с них. Они низкорослы, но и среди монголов редко встретишь огромного богатыря. Конечно, лошадки эти слабее наших боевых коней. Монголы это понимают и постоянно меняют их в походе на свежих, давая тем самым уставшим коникам отдохнуть.
– Но и эти лошадки не святым же духом питаются.
– Это так, но ты забываешь, что все степные породы лошадей отличаются крайней неприхотливостью в пище. И монгольская лошадь не исключение. Летом эти коники, как и наши лошади, едят траву, а вот зимой – добывают корм из-под снега. Отгребают его своими копытами да мордами и поедают сохранившуюся (замерзшую, прошлогоднюю и жухлую) траву с листьями, которые из-за своего состояния так и называют «ветошью». При этом, княже, хозяева никакого специального фуража им на зиму, как правило, не заготавливают, кроме разве небольшого объема на случай бескормицы в период сильных или продолжительных снежных буранов, когда такая добыча корма становится для их лошадей невозможной. Называется это «тебеневка» и наши лошади так не умеют. Понимаешь, княже, о чем я?
– Я знаю, что такое тебеневка, но она ничего не объясняет. При тебеневке лошади не работают, поскольку перед табунщиком ставится одна задача – сохранить поголовье животных до весны. Лошади мало передвигаются и пасутся целыми днями. Именно это позволяет им даже на ветоши сохранять неплохую упитанность. Но сейчас идет набег. Монголы на этих маленьких лошадках проходят каждый день невероятные расстояния. Их лошадям некогда рыть снег и искать под ним для себя корм. Кроме того, на одной «ветоши» столько и не проскачешь, тем более что всем им приходится везти или всадника, или груз. Добавим к этому зимние морозы, в которые любую лошадь надо кормить лучше, чем обычно. Часто монголы идут по льду рек. Какие там пастбища? Да и глубина снега в четверть сажени (50 сантиметров) уже будет непроходимым препятствием для столь низкорослых лошадок. Не так, что ли?
– Не так, княже. Во-первых, я не говорил тебе, что лошади монголов во время набега на Русь, питаются только подножным кормом. Но тебеневка все равно существует, это привычная для этих коников форма добычи пищи и она, в том числе, происходит в каждое свободное у лошадок время, а, значит, является большим подспорьем в организации их питания. Что касается глубины снежного покрова, то мне доводилось самому видеть просто огромное количество лабиринтов в снегу, глубиной больше аршина (71,12 сантиметра), причем не в поле, а в тайге, проложенных бродившими здесь в поисках «ветоши» точно такими же, что у монголов, лошадьми.
– Так что же они тогда еще едят? Сено? Откуда монголы его берут? Солому? На соломе лошадь долго не проживет. Зерно? Так я уже говорил, что слышал, что монгольские лошади его не едят.
– И сено. И солому. Где берут? А на что может рассчитывать вторгшаяся армия, у которой нет собственных серьезных запасов фуража? Ну, конечно же, на запасы сена, что приготовило на зиму население захваченных территорий для своих животных. Эти запасы сравнительно небольшие, но и не такие маленькие, ведь они рассчитаны не на день или месяц, а на прокорм имеющейся скотины до самой весны. А пойдут на прокорм двух-трех дней лошадей захватчиков. Тем более, что сено уже оказывалось покоренному населению не нужным, поскольку лошадей монголы забирается себе, как и крупный рогатый скот, овцы и козы, которые идут в котлы ордынских воинов. Что касается соломы, то ее много, и, хотя ее питательные свойства сильно уступают сену, но для монгольских лошадей она является просто деликатесом по сравнению с мертвой «ветошью».
– Но в погостах (деревнях) пара-тройка дворов, так что сена не так много.
– Это тут, на севере. Ближе к Москве, Владимиру, Рязани деревеньки покрупнее, уже дворов по десять – двенадцать, а то и больше. Да и попадаются они значительно чаще. А каждый двор это, как правило, пара лошадей, да три головы крупного рогатого скота, да десяток овец. Это минимум. А, значит, в каждом дворе не меньше 5-ти тонн сена. Так это в одном дворе. А если посчитать во всем поселении? Монголы все это понимают и идут не толпой, а загоном (рассыпавшись гребенкой), тщательно прочесывают местность, время на это не жалея. Одни вон Москву штурмуют, а другие – поселения, что около нею были. Даже после взятия Москвы еще целую седьмицу этими поисками занимались, и только потом дальше двинулись.
– Но этого все равно мало.
– Это потому, что ты считаешь только поселения в пригородах. А сами города? В городах-то жители тоже содержат и лошадей, и коров, причем в немалом количестве, ведь без них никуда. А там и жителей больше, и запасов побогаче, ведь не в погостах княжеские дворы, и терема боярские. В городах, за какой-никакой стеной (кроме Новгорода, конечно). Тут уже одного сена сотни тонн. Есть чем солому разбулыжить. Что-то сгорало, как при штурме Рязани, но в большинстве случаев эти запасы сохранялись. Особенно в тех городах, что не оказали сопротивление захватчикам.
– Но ведь в городах, что сдались, Батый обещал забрать только десятую часть всего, в том числе, лошадиного корма.
– Не надо быть таким наивным. Монголы сохранили жизнь жителям таких городов и считают это достаточным. Как на любой войне, женщин обесчестили, жителей ограбили. Разве что боярские, да княжеские семьи пощадили. Да и то только для того, чтобы остальные города тоже не сопротивлялись. Тут ведь что тебе, княже, понять необходимо. Вот вы, князья, с другими князьями обычно воюете за что? За территорию. За территорию, на которой живут люди, способные выращивать хлеб, скот, изготовлять те или иные изделия и, главное, платить дань. У монголов такой задачи нет. Пока нет, придет время, и они об этом задумаются. Но сегодня они пришли в наши княжества в набег. Нагрести добычу и уйти в степь. Даже полон им уже не очень нужен. В походе он только обуза, да и для рабского труда на скотоводов столько людей не требуется. Впрочем, излишек всегда можно будет потом продать на Восток. Только мороки много. Выручка за пленных, конечно, дело хорошее, но каждый из них уже не знает, куда серебро прятать. Так вот, захвата территорий они не преследуют. Посмотри, они за собой никого из своих на управление землями не оставляют. Прошли частым гребнем, и все ушли. И нет их.
– Вообще никаких отрядов на территории наших княжеств не оставляют?
– Вообще никаких. Одни пожарища, да трупы людей и животных, да страх и ужас за спиной. А в этих условиях они для своих лошадок не десятую часть, а все сено заберут. И забирают. Монголам незачем думать о сохранении населения и его запасов на завоеванных ими наших территориях.
– Но при такой численности животных и при такой нагрузке на них и этот корм вряд ли можно считать достаточным. А раз питание недостаточное, то скорость перемещения отрядов монголов должна падать, а она не падает. Она даже иногда возрастает.
– Зерно! Не едят? Это так и это не так. Прежде всего, открою тебе один «секрет», который, правда, знают все. Любая лошадь может поедать любую неядовитую траву и, что важно, ее семена. Ест она и злаковые растения, ведь на лугу ни одна лошадь не выбирает, представляет ли собой эта трава злак или нет. Лошади монгольской породы тоже едят злаковые, правда, с некоторыми ограничениями. И еще, когда тебе рассказывали, что монгольские лошади не едят зерно, важно было уточнить, что именно эти люди понимают под зерном, точнее семена каких злаковых растений?
– Ну, это же понятно, речь идет о пшенице, ржи, ячмене…
– Вот-вот. Именно так подобные рассказы понял не только ты. Если подходить с этой точки зрения, то наши лошади тоже зерна не едят. А может быть, монгольские лошадки какое-то зерно все-таки едят? Подскажу, зерно внешне не похожее на зерна пшеницы, ржи и ячменя и не выращиваемое в засушливом климате. Зерно, с которым монголы (и их лошадки) познакомились только тогда, когда перевалили через Каменный пояс (Уральские горы).
– Ты имеешь в виду овес?
– Да, его. Для любых лошадей овес считается хорошим кормом. Среди других продуктов лошадиного питания он имеет такое же значение, как и мясо для человека. Кстати, если честно, то лошади (как и северные олени) в небольших количествах тоже могут поедать мясо. Только лучше их к этому не приучать, все-таки животные травоядные.
– Я слышал, что на Востоке боевых коней даже кровью поят.
– Может и так, но давай вернемся к зерну. Вот смотри, овес после скармливания за время, что проходит между первыми и вторыми петухами (т. е. за два часа, поскольку первый раз петухи кричат в первом часу ночи, второй раз – в 2 часа ночи, третий раз – в пятом часу утра) уже переваривается лошадью. Ячмень же за это время подвергается лишь чуть заметному действию и переваривается только через время в три раза большее, а рожь и пшеница за то же время вообще никак не меняются и для своего переваривания требуют еще больше времени, чем ячмень. При этом ячмень тяжел для желудка лошади, пшеница вызывает брожение, колики и сильно затрудняет у лошади пищеварение, а рожь, так та вообще настолько разбухает, что может вызвать несварение желудка, катары, а иногда и разрыв желудка или кишечного канала животного. В том мире, из которого я приехал, во избежание этого рожь сначала вымачивают в воде в течении дня или ночи, чтобы вызвать разбухание зерен еще до скармливания лошади, затем прибавляют к ней овес с таким расчетом, чтобы на 2 части овса не приходилось более одной части ржи. И только после этого дают этот корм лошадям. Но такие тонкости, насколько я знаю, монголам не известны. Конечно, и ячмень, и рожь, и пшеницу допустимо давать лошадям, но в очень небольших количествах, не влияющих на принципиальное решение вопроса их питания. Но монголы своим лошадям, во избежание проблем, их вообще не дают. Да и те, вероятно, когда-то раз уже попробовав такое угощение, сами уже есть его не хотят. Они лошадки умные. Чем еще нельзя кормить лошадей? Сам знаешь, нельзя кормить свежевыпеченным хлебом (будут проблемы с желудком). Лошадь – не свинья и ее нельзя кормить овощами (кроме моркови, но она у нас не растет), фруктами (кроме яблок) и сухофруктами. А чем можно и нужно кормить (угощать) лошадь? Понятно, что это трава, сено, рубленая солома (особенно овсяная), отруби, яблоки или черствый хлеб с солью. Овсом (а он очень питателен) кормить можно и нужно, но только нельзя кормить им лошадок на пустой желудок и кормить только им. Между прочим, для нормализации процессов пищеварения очень хорошо льняное семя.








