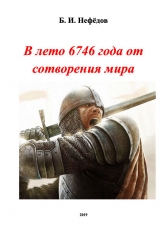
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
– Значит, монголы кормят своих лошадей овсом?
– Без всякого сомнения. Это сильно повышает работоспособность лошадок и в значительной степени экономит другие корма. Но тут вот какое дело. Теперь уже понятно, что они придут к Новому Торгу обязательно и, прежде всего, потому что это житница новгородская. Здесь, на севере, поселений людских мало, и они малочисленны. Тут им столько сена и овса больше нигде не набрать и потому захват Нового Торга для них жизненно важен. Отъедятся в Новом Торге, пополнят запасы и дальше пойдут, поскольку в лесах местных они задерживаться никак не могут. Снова напомню то, что уже говорил: важно, чтобы в Новом Торге они ничем не поживились.
– Я для этого и ездил. Договорились, что если почувствуют, что не сдержать им врага, то подожгут амбары с хлебом и стога с сеном.
– О помощи говорили?
Князь промолчал, и возникшая пауза затянулась. Князь не выдержал первым.
– Что знаешь о захвате Рязани.
– Захочешь ли знать правду, княже?
– За ней и приехал.
– Тогда начнем с того, что лишь после того, как монгольское войско в декабре (по долинам рек Лесной и Польный Воронеж, а также притокам реки Проня) прошло через лесистый водораздел Оки и Дона и появилось на земле рязанской, только после этого рязанский князь Юрий Ингваревич начал всерьез готовиться к войне. Но начал активно. Первым делом были отправлены послы к соседям, просить помощи. Как назло, рязанские князья в последние годы ухитрились перессориться практически со всеми ими, а главное – с Юрием Всеволодовичем – великим князем Владимирским. Отказал он им в помощи, «и сам не пошел, и помощи не послал». Не оценил он опасности нашествия, решил монгольскими саблями ослабить рязанцев, а затем сам на сам впоследствии с монголами победную «брань сотворить». А потом и Рязань взять под свою руку без проблем. Мы об этом, помнится уже говорили. Впрочем, отказали Рязани и другие сильные соседи – князья черниговские и князья новгород-северские. Кто пришел на помощь, так это, как и предполагалось, прежде всего, родственники. Пришли князья Давид Ингваревич Муромский, да Глеб Ингваревич Коломенский, да князь Всеволод Пронский, да князь Олег Красный, ну и так, князья по мелочи[15]15
Рязанское княжество отделилось от Мурома, но сохранило с ним добрые (в том числе родственные) отношения. В составе Рязанского княжества к моменту нашествия были города (кроме самой Рязани): Белгород, Борисов-Глебов, Добрый Сот, Изяславль (Ижеславль), Исады, Копонов, Михайлов, Ольгов, Переяславль (Рязанский), Пронск, Ростиславль, Ужеск.
[Закрыть].
Я сделал пузу, и после того, как мы выпили по глотку, продолжил:
– Батый остановил свою орду, не доходя Рязани, встал лагерем на реке Воронеж, а в Рязань послов послал (некую «чародейку», да двух мужей). Он потребовал покорности и уплаты десятины «во всем», т. е. в доходах, людях, продуктах, кормах и др. В общем-то, это были обычные требования монголов для всех завоеванных народов. Но рязанцы отвергли ультиматум, заявив послам: «Аще нас не будет всех, то все, то ваше будет» (Когда убьете нас – все ваше будет). Уехали послы с пониманием, что добром здесь им не договориться.
В это время, видимо, дошли до Юрия Ингваревича Рязанского сведения о численности орды и серьезности нападения. Собрались князья, стали совет держать. Решили время выиграть – отправить к Батыю свое посольство с дарами, а самим готовиться к обороне. Во главе посольства поставил князь сына своего Федора. Послы эти с Батыем встретились, дары передали, просили земли рязанские не воевать, и видимо соглашались на первоначальные условия.
– Я знаю, что перебили тех послов.
– Это верно. А ответь-ка мне, княже, как думаешь, почему монголы, которые не только никогда не убивали послов, но, более того, сами жестоко карали за их убийство, пошли на это? Простое нарушение каких-то правил повлечь подобное не могло. Здесь было либо какое-то неслыханное оскорбление, либо какие-то действия послов, что угрожали жизни для принимающего их Бату хана.
– Сам над этим много думал. Может быть для того, чтобы не допустить возвращения послов в Рязань? Может, узнали они что секретное?
– Своей мощи Батый скрывать бы не стал. Наоборот, сделал бы все, чтобы узнали рязанцы о его силе, чтобы дрогнули они в страхе и тем самым облегчил бы он себе победу. Нет, дело в другом. Смотри, он сделал все, чтобы произошла ссора, чтобы сорвался молодой князь Федор Юрьевич.
– И что же он сделал?
– Вначале, полагаю, запросил десятую часть «во всем», а когда это не помогло и послы замялись, напрямую потребовал от Федора для своих утех его молодую жену. Прямо сказал Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей».
– Что-о? У князя его жену? Для утех? Это же тяжкое оскорбление, это урон чести, кроме того, это и …
– Как думаешь, как среагировал князь Федор на такое требование?
Рука Александра Ярославича дернулась к мечу.
– Вот и я также думаю. Схватился он за меч-то, здесь его охрана Бату хана и порубала. А потом и остальное посольство. Но видимо не всех, так как в Рязани обо всем об этом очень быстро узнали.
– Зачем Батый это сделал?
– Все просто. Он понимал, что посольство Федора – это вынужденное проявление покорности. Что при любом удобном случае рязанский князь ударит ему в спину. Это его никак не устраивало. Ему нужна была покорность безусловная. Для этого он уже решил, что сотрет Рязань с лица земли в пример всем остальным, что жестокостью и силой сразу покажет княжествам бессмысленность возможного сопротивления.
– Но для этого было необязательно убивать послов.
– А вот тут ты не прав. Не учитываешь восточной хитрости. Что сделал князь Рязанский, когда узнал о гибели своего сына? Вот что бы ты сделал?
– Собрал всех воинов и ополчение и вместе с пришедшими на помощь князьями и их дружинами двинулся на Батыя.
– Правильно. Именно это Батыю и было нужно – чтобы храбрый и гордый князь, желая утолить жажду мести за погибшего сына, вышел, по славянской традиции, во чисто поле со всем своим воинством, да сразился в открытом бою с ворогом. Это хорошо, что он не понимает, что в чистом поле его воины не смогут спрятаться за крепостную стену от монгольских стрел. А то, что с ним никто «честно» воевать не собирается, ему было знать не обязательно. Знаешь, каковы последствия той битвы?
– Почти все полегли. И князья.
– Среди погибших и муромский князь Давид Ингваревич, и коломенский князь Глеб Ингваревич и Пронский князь Всеволод Ингваревич. А раз они полегли, то вряд ли нужно говорить о том, что осталось от их дружин и ополчения от «удальцов да резвецов рязанских». Кому-то, конечно, удалось убежать от монгольских клинков, да многим ли? Думаю, что не очень, в основном, всадникам. Вот сам князь рязанский спасся. Кому после этого досталось оборонять огромную по протяженности рязанскую стену?
– Думаешь, Батый специально так выманил рязанцев из-за стен в чистое поле?
– Здесь нет, и не может быть никаких сомнений. Во-первых, кавалерии у князей было очень мало, а пешее русское ополчение, не имевшее защиты от монгольских луков, вооруженное рогатинами да топорами, не имело шансов на успех в подобной битве с таким грозным противником. И личная храбрость в такой ситуации могла только отсрочить поражение, помочь продержаться, нанести больший урон противнику, но не более того. Тем паче, что монголы никогда в таких случаях не спешат вступать в ближний бой, а уничтожают противника, просто осыпая его градом стрел с достаточно большого расстояния. А, во-вторых, монголы использовали подобный прием и в дальнейшем. Я убежден, что будут применять его и впредь. Так, монголы (теперь уже понятно) обязательно нападут на Новый Торг, но, вот увидишь, замешкаются. Понадеются, что ты из Новгорода примчишься к нему на помощь со своей дружиной и ополчением. Новый Торг ведь под новгородской рукой. После этого можно будет не торопясь уничтожить всех, кто придет с тобой, да спокойно идти и брать Новгород голыми руками. А там впереди Чернигов. Обязательно Батый нечто подобное придумает. Возьмет в осаду какой-нибудь пограничный городок, например, Козельск и будет дожидаться, чтобы Михаил Черниговский повелся, да и отправил своих воинов на помощь Козельску, а, значит, на погибель и войска и Чернигова.
– Не поведется, – насупился Александр Ярославич, – я ему гонца пошлю.
– Пошли-пошли. Пусть проявит благоразумие. Ну, а что дальше-то было, тоже знаешь, княже?
– Конечно, знаю. Разбив основные силы рязанских князей, войска Батыя в течение двух седьмиц захватили самые крупные города княжества Ижеславец, Белгород, Ижеславль, Пронск и другие, а мордовских и русских сел без счета. Брали жестко, в живых оставляли только полон. А потом взяли штурмом и саму Рязань, в которой погиб и князь Юрий Ингваревич и все его семейство.
– Добавлю немного. Авангард монгольского войска подошёл к стенам Рязани 16 декабря, а Рязань пала на шестой день – 21 декабря. Почему так быстро? Потому что те, кто мог бы противостоять монголам, пали на реке Воронеж. Плохо, что их смерть ничему никого не научила. Во время осады Рязани, молодой племянник рязанского князя (теперь уже ставший князем Коломенским) Роман Ингваревич посчитал постыдным для себя прятаться от ворога за стеной города, да и вывел свою дружину из городских ворот. Правда, не довелось ему тут смерть принять, хотя много хороших воинов (так нужных для обороны Рязани) было убито. С остатками своей дружины, в основном конной, он прорвался сквозь осаду и ушел на север. Почему в Рязань не вернулся – не ведаю. Может быть, не смог, а может быть просто веру в возможность отстоять город потерял. Хотя в трусости его точно не обвинишь. В бою под Коломной он будет храбро сражаться во главе конницы и падет на поле боя.
– Тебя послушать, так Рязань монголы могли взять и раньше.
– Да что сейчас гадать. Но думаю, что могли и раньше.
– Не знаешь, что стало с семьями княжескими?
Княгиня рязанская Агриппина со снохами и другими княгинями пытались найти защиту в соборной церкви пресвятой Богородицы. Всех их, вместе с епископом и остатками рязанского духовенства монголы посекли прямо под ее сводами, а затем церковь подожгли. До этих событий жена князя Федора Евпраксия, чтобы не достаться Батыю, с маленьким ребенком на руках, бросилась с колокольни. Разбились оба.
Помолчали.
– Что знаешь, Михаил Игнатьевич о разгроме объединенных сил у Коломны?
– Да, наверное, то же, что и ты. Со времен битвы на Калке не собиралась более грозная русская рать. Во главе коалиционных сил встал Великий князь Владимиро-Суздальского княжества Юрий II Всеволодович, пока считавшийся самым сильным и самым влиятельным из всех русских князей.
– Почему «пока считавшийся»?
– Попозже расскажу. Не перебывай. Юрий Всеволодович выбрал для места битвы Коломну, стоявшую на пересечении всех путей и прикрывавшая их. Он направил к ней (сам не поехал) и свою многочисленную дружину, и ополчение, собранное со всего Владимиро-Суздальского княжества. Направил с войском своего сына Всеволода Юрьевича, сторожевым отрядом которого командовал знаменитый воевода Еремей Глебович. Туда же подошли и союзные войска – остатки рязанских войск (во главе с Романом Ингваревичем), воины и ополчение Москвы и других городов. Это была очень серьезная сила. Правда, не против полчищ монгольского хана. Но и этой силой распорядились бездарно. Идущий к Коломне Батый не знал, как же теперь выманить войска Владимиро – Суздальского княжества за стены крепостей, но оказалось, что выманивать-то никого не нужно. Когда монголы в начале января подошли к Коломне, те сами вышли на все тот же честный бой. И чтобы никто не мог потом обвинить их в трусости или нечестности в битве, вышли не просто на большую поляну, а прямо на лед Москва – реки. Тут не спрячешься. Вот, мол, мы, давайте встретимся в открытом бою, сразимся грудь в грудь. Только «честного» противостояния, как ты понимаешь, не получилось. Не собирались монголы воевать по непонятным для них и глупым, по их мнению, правилам.
Тем не менее, по количеству войск и упорству в битве, сражение под Коломной можно считать самым значительным за весь период монгольского нашествия. Полагаю, что первый удар по отряду монголов, возглавляемый Хулгэном (другие называют его Кульканом, третьи – Кульханом) был страшен. Монгольские войска смешались, и русская конница даже смогла пробиться к этому чингизиду, хотя темники (по заветам Чингисхана) были обязаны управлять боем, находясь позади своего войска. Никто бы эти заветы нарушить не посмел.
– Убили?
– Убили. Это был первый случай убийства чингизида в бою за все время их войн. Молодой, горячий, талантливый, мечтавшего о славе отца, и негласный наиболее влиятельный соперник Батыя.
– Тебе вроде как его жаль?
– Нет, не жаль. Я всегда считал и считаю, что тот, кто пришел на чужую землю забирать жизнь других, тот должен быть готов отдать и свою. Продолжу я, княже. Тяжело рассказывать, но нужно. Сражение длилось три дня. Тут к монголам подошла подмога в виде основных сил во главе с Батыем, и вскоре все было кончено. Монгольские луки и превосходство в маневренности и численности сделали свое дело. Число задавило отвагу. Русское войско погибло… Много полегло русичей. Только князь Всеволод Юрьевич с малой дружиной сумел спастись и пробраться к Владимиру. Это была катастрофа, но опять поражение ничему князей не научило. Тут бы Великому князю Владимиро-Суздальского княжества Юрию Всеволодовичу с оставшимися силами укрыться во Владимире – стольном городе и очень сильной крепости. Но снова сыграла уверенность в том, что степняки города штурмом брать не умеют, а биться с ними надо «во чистом поле». Забирает Юрий Всеволодович лучших оставшихся воинов, да вместе с сыном Константином уходит на реку Сить собирать новое войско для новой битвы с монголами. А всю семью свою оставляет во Владимире.
– А что же монголы?
– Еще не захватив крепость Коломну, войска Батыя продолжили путь по льду Москва реки и в середине января вышли к стенам Москвы. Великий князь Юрий Всеволодович послал на помощь воеводе Москвы Филиппу Няньке своего младшего сына Владимира. Как я понимаю, каких-то серьезных сил с Владимиром не прибыло, да и сам он едва успел попасть в город до прихода монголов. Но чтобы отстоять город, нужны были воины, а они лежали под Коломной. На пятый день Москва была взята штурмом. После чего переход на Клязьму и по Клязьме – к Владимиру. Часть татар идет на Суздаль, который, опять же, в короткое время был взят и разграблен, ведь там тоже дружинников не осталось, только небольшой гарнизон, так что причины все те же. А дальше, думаю, что ты этого еще не знаешь. Армия Батыя осадила Владимир и после быстрого и яростного штурма лучшая крепость Северо-Восточной Руси, оставшаяся (также, как и Москва) без защитников, пала даже не в пять, а в три дня. Погибла вся семья Юрия Всеволодовича, включая сына Всеволода, спасшегося под Коломной.
– Когда произошло?
– Два дня назад – 7 февраля.
– Откуда знаешь не спрашиваю.
– Правильно делаешь.
– Почему сроки такие – три или пять дней? День на подготовку и штурм!
– Монголов много. В походе их отряды оказываются сильно растянутыми. Останавливаться всем в одном месте тоже не резон. Ни людям, ни лошадям места нет. В первый день к городу подходят первые отряды, так сказать, голова змеи, а хвост – только через пару дней. И все-таки они могут начать штурм и раньше, но не делают этого, чтобы сократить до минимума собственные потери. Время, конечно, монголы не теряют, обыскивают окрестности, забирают продовольствие, корма и животных, собирают пленных для хашара (я вам рассказывал, что это такое). При этом постоянно тревожат осажденных, да направляют хашар на штурм стен. Двойная выгода. Во-первых, осажденные, не привыкшие к штурмам стен, отбивая атаки хашара, используют несоразмерное количество своих стрел, которых потом будет сильно не хватать, а, во-вторых, под прикрытием нападения хашара монголы выбивают из своих мощных луков защитников города на выбор и значительно обескровливают силы обороняющихся. Ну и лестницы готовят, а если нужно, то и пороки. Их с собой не везут, на месте собирают (вокруг леса много), а это тоже время. Вот как раз к пятому дню все собираются, обеспечивая монголам многократное численное преимущество, да и стрел у защитников крепости к этому времени почти не осталось, добавим и то, что часть защитников перебита, ну и к штурму всё готово.
– А дальше, как будет, что думаешь?
Я усмехнулся, помолчал, но потом все-таки решил не отнекиваться, а сказать правду:
– От Владимира силы монголов разделяться на три части. Наиболее крупная часть (под командованием Батыя) пойдет на северо-запад до Юрьева-Польского, где снова разделится. Одна часть продолжит движение на Переславль-Залесский и после пяти дней осады (все те же 5 дней) возьмет его штурмом. Вторая часть пойдет по глухим лесам на Дмитров, а после его захвата – на Волок-Ламский. Оттуда пойдут до Твери. Тверь сопротивления не окажет и откроет ворота. Она добровольно подчинится завоевателям и согласится выдать лошадей и провиант. Впрочем, также поступят Ростов и Углич, да и Кострома. Правда, если честно, это не спасет их от грабежа и разорения. Но мы с тобой о такой ситуации сегодня уже говорили. После Твери монголы пойдут к Новому Торгу. Так что, княже, через одиннадцать или двенадцать дней они придут к нему. Новгород ему не поможет.
– Слава богу, Новый Торг не послал воинов в ополчение Юрия Всеволодовича.
– Это позволит ему продержаться достаточно долго, но не спасет от захвата. Не повторяй, князь, ошибок своего брата, не отвечай на провокацию степняков.
– Точно знаешь?
– На все, конечно, воля Божья, но я до этого хотя бы раз ошибся? Просто прими, что я знаю.
– Может и судьбу этой своей крепости знаешь?
– Нет, Князь, это мне неведомо. Но сам я сегодня здесь для того, чтобы она устояла. Не устоит, значит я погибну вместе с нею.
Ярославич видимо решил сменить тему:
– Даже не верится, что можно такие расстояния пройти так быстро.
Я ничего не ответил. Только пожал плечами. Что тут скажешь? Действительно порядка 650 километров (около 500 километров только по прямой), да еще с боями, монголы прошли за две недели. Получается по 45 километров в день. Сильная армия, сильные полководцы, но как-то хвалить их не хотелось.
– А куда третья часть монголов пошла?
– Не догадываешься? Ну, конечно же, на поволжские города, которые перед этим отправили свои войска (дружины княжеские с ополчением) со своими князьями Константиновичами к Юрию на Сить. Вел эту часть монголов Бурундай, враг, конечно, но талантливый темник. К самому началу марта он уже выйдет на реку Сить. У него будут хорошие проводники (из мери), они помогут ему перебить заставы и сторожи. Нападение будет внезапным.
– Ты хочешь сказать…
– Юрий Всеволодович ничему не научился, а значит, войска на Сити будут действовать по старинке. Снова на лед реки, снова «честный бой», а, значит, снова разгром. Кроме того, зима на дворе, морозы, а жилья компактного нет. Боюсь, понадеется Юрий Всеволодович на все тот же авось, раскидает сотни вдоль реки по окрестным поселениям, между которыми многие версты. Там их Бурундай и перебьет один отряд за другим. Двигаются монголы очень быстро. Не успеет князь людей предупредить… 4–5 марта все будет кончено.
Не стал говорить, что и Новый Торг возьмут где-то в это же время.
– Может быть что-то можно сделать? Предупредить его как-то?
– О чем? О приходе монголов он и так знает. Будешь его учить воевать? Конечно же, он тебя, семнадцатилетнего, сразу послушается и начнет воевать по его представлениям «бесчестно». А скорее всего, просто примет, что тебя, что меня, что людей от нас присланных, за врагов. Если, конечно, они смогут до него добраться. Пойми, что предначертано – не изменить. Такова Божья воля и не нам в нее вмешиваться. Не так скажешь? Чего молчишь? Вот и я говорю. Нам, княже, свое дело делать надо: Новгород от разорения спасти. Вот давай этим и заниматься. И еще…
Накануне
Март. Мы ждали врага каждый день, и он был уже на подходе. Главное, что с местом я не ошибся.
Сегодня я собрал «у себя» руководителей всех моих служб и подразделений. Слушали Ерему, вернувшегося из разведки.
– На расстоянии дня пути впереди без обозов идут подвижные монгольские отряды, вначале мелкие, потом покрупнее. Мы залегли у холма, где дорога делает большой изгиб. Замаскированные лежанки были нами заранее приготовлены, следов в сторону дороги нет. Иначе, думаю, их разведка бы нас нашла. Активно работала, а на снегу следы далеко видно.
– А вас что же не видно?
– Михаил Игнатьевич такие халаты дал, что в них не видно.
– Не перебивайте его. Продолжай, Ерема.
– Они шли мимо нас весь день, двигались со скоростью быстрого человеческого шага. На ночь остановились, но не прямо на дороге, а рядом с ней. Судя по кострам, а их хорошо было видно ночью с холмов на далекое расстояние, причем как в ту, так и другую сторону от нас, монголов остановилось на ночь порядка 10 000 человек.
Сколько?
Около 10 000. Но это не все. В поход монголы, как видно, выступили в разное время. Пока одна их часть устраивалась на ночлег, другая часть продолжала идти мимо них всю ночь и, думаю, встанут на отдых утром и отдыхать будут днем. Получается, что в нашу сторону их идет никак не меньше двадцати тысяч. В лучшем случае. Сказать точнее не могу, так как хвоста этой второй «змеи» мы не дождались. Надо было вас предупредить.
Двадцать к одному. И это «в лучшем случае».
Там не только воины.
Но и монголов не всех посчитали. Да и разница не велика, двадцать к одному или десять к одному, или пять к одному, или даже три к одному. Результат один. Если их меньше, то лучше это не для нас, а для них: они мешать друг другу не будут, когда будут нас резать.
Я решил вмешаться.
Это если драться с ними в чистом поле. А мы – за стенами. Слева и справа не зайдешь, с тыла тоже не проберешься – сплошной засечный «бурелом». Придется им штурмовать нас в лобешник, ну, в «чело», то есть, и на узком участке, где численное преимущество большой роли не играет. Есть у нас и парочка неожиданных для них «подарочков». Им еще не доводилось у нас сталкиваться с войском, выставляющим целую дружину одних стрельцов, причем имеющим именно в этом виде оружия (а оружие не хуже монгольского) свою основную подготовку. И стрелять они будут не хуже монголов, поскольку делать это будут не со спины коня и по пристрелянным точкам.
Но их идет 20 тысяч и у каждого лук. Если каждый из них выпустит только по 20 стрел, а в цель попадет хотя бы одна стрела из сотни, то все наши воины будут убиты четыре раза еще до того, как бой начнется! А их, а значит луков и стрел, у них может оказаться намного больше. И стрельцы они, я не раз слышал, знатные.
20 тысяч стрел каждые пять ударов сердца. Нам не выстоять под таким «дождем». А главное, этот смертельный град заставит наших ратников попрятаться, и они, если и не пропустят атаку, то не смогут головы поднять, чтобы ее отбить.
Хорошо считаете. Но вы многого не учитываете. Во-первых, 10 тысяч монголов-стрельцов на площадке перед внешней стеной крепости просто не поместятся. Это в поле они могли бы вокруг нас целый хоровод устроить. Кроме того, наши ратники сверху прикрыты от стрел, летящих навесом, а прямой выстрел возможен с расстояния не далее 50 саженей (100 с небольшим метров). Не далее! Но ведь эта площадь у стены не может быть заполнена одними стрельцами, кто тогда атаковать стены будет? Монголы летать не умеют, значит эту территорию для размещения именно стрельцов, надо, как минимум, поделить пополам. На такой площадке, да чтобы можно было стрелять, и сотая часть монгольских лучников не разместится. А это значит, что больше двух сотен монгольских стрельцов поддержать атаку стен крепости никак не сможет. Это – предел. В реальности их будет меньше. Намного меньше. Так или не так? Так! А противостоять им будет, пусть не все 400, пусть только 300 наших стрельцов. Во-вторых, говоришь, попрячутся наши ратники? А зачем? Все дело в том, что стрелять монголам нужно будет снизу вверх, откуда им ни меченосцев наших, ни копейщиков просто за частоколом не будет видно. Вот ты выйди наружу, пройди к основанию нашего холма, отойди, да посмотри на частокол с того места, откуда они стрелять должны. Много ты за ним увидишь? У нас он чуть ниже среднего роста наших воинов. Чтобы лицо нашего меченосца за ним снизу увидеть, надо чтобы тот из-за частокола высунулся. А он что, глупый? Отойди он на шаг вглубь, и ты его с этих мест (и даже если отойдешь на 100 саженей) вообще не увидишь. А вот мечнику нашему наоборот все хорошо будет видно, он ведь с частоколом рядом, да и плотники наши об этом побеспокоились. И стрелой его там не достанешь, разве что навесом пущенной. Но это как круто вверх стрелять надо! А там у нас на этот случай оказывается от таких стрел защита предусмотрена. В виде крыши односкатной. Так что ни к чему мечнику прятаться. Вот, построй монголы осадные башни высотой до вершины частокола (или выше) – другое дело.
В-третьих, наши стрельцы в укрытии, те – на открытой площадке, для наших стрельцов как на ладони. И отстреливать они их будут чуть ли не в упор. С такого расстояния наши стрелы пробивают их любую защиту (пробовали уже), в том числе и обычные их щиты. Замучаются своих хваленых стрельцов оттаскивать. Конечно, такое «избиение младенцев» долго не продлится, монголы, думаю, быстро догадаются поставить в защиту своих стрельцов тяжелые ростовые щиты. Но лук – не самострел (по-западному – не арбалет), чтобы из него выстрелить из-за щита придется высунутся. А расстояние маленькое. Среди стрельцов монгольских неизбежно будут большие потери.
Испугали их потери.
Отстрел защитников крепостей на стенах, как правило, делают сами монголы, а это для них не расходный материал и к таким потерям отношение особое. Добавлю, что стрельцы наши отстреливать монголов будут из ниш, т. е. из темноты, а, значит, их со света вообще видно не будет, а вот монголы, эти – как я уже сказал, как на ладони. Бей любого. Спрятался за толстый ростовой щит – не выстрелишь, высунулся – получи свое. К такому монголы не привыкли. Им бы во чистое поле, да хоровод на лошадях закрутить вокруг неповоротливого врага, поливая его бесконечным потоком стрел с безопасного расстояния. А тут и лошадям скакать негде (вон колья какие от бывшего леса торчат), и враг сам отстреливается тучами стрел, и умираешь, не видя никого, одни шлемы над частоколом (и то, если меченосец подойдет к нему слишком близко). Добавь к этому нашу защиту. Пластины металла на кольчатой броне монгольские луки с 50 саженей не пробивают. Такой металл.
Перейдут сразу в ближний бой.
В ближний бой они вообще вступают только тогда, когда противник уже ослаблен, а его ряды расстроены. Но тут, думаю, действительно придется монголам на штурм идти, а в ближнем бою они нашим бойцам уступают. Без коня они вообще воины… не очень… Но попереть – попрут, сомнений нет. Воинская дисциплина у них мощная. И в порыве своем могут много нам бед причинить.
Наши меченосцы и копейщики встретят их грудь в грудь.
Встретят, конечно, только я смотрю, ты там опять про честной бой вспомнил? Нам простой обмен ударами ни к чему. Наши копейщики и мечники бесспорно будут их сдерживать, да пережевывать у частокола, как ножи у мясорубки. И с такой же скоростью. Но основное слово опять же будет за нашими луками и стрелами. А стрельцов у нас, считай, по человеку на метр стены. Когда монголы увязнут, мы им такой град из стрел устроим, что мама не горюй. Вот тогда мы монголам свое слово и скажем! Какое слово?
Аминь.
Правильно.
Стрел для таких планов маловато.
Вот тут он прав. Что нужно, чтобы наши стрельцы смогли устроили монголам «красивую» жизнь? Понятно, что прежде всего – хорошие луки. Но с этим мы справились. Во-вторых – большой, нет – очень большой запас стрел, а вот его-то у нас нет. Хорошо было парфянам в битве при Каррах в войне с Марком Крассом, когда им целые караваны верблюдов постоянно подвозили огромные корзины стрел. Израсходовали их парфяне (если верить историкам) почти два миллиона штук (!), но зато их небольшая армия смогла уничтожить 40-тысячное войско не кого-нибудь, а римлян. Причем уничтожить издалека, не теряя своих людей. А у меня стрел для стрельцов всего чуть больше 66 тысяч штук. По 150 на брата да небольшой запас у всадников. Не так уж мало, конечно, ведь у монголов на каждого воина вдвое меньше, но для той войны, что я собирался вести, их может действительно не хватить. Впрочем, я уже знал как поступлю.
Стрел хватит. А не хватит – мы их из трупов монгольских вырезать будем. Что глазищи вытаращили. Это война. Ты думаешь, монголы их по-другому добывают? Даже хуже. Из живых вырезают, добивая жертвы только потом, когда болью чужой насладятся. Ну, раз для них это – обычай войны, то в войне с ними этот обычай должен стать и нашим обычаем. Только без лишней жестокости. Добил и вырезал.
Примолкли ненадолго, каждый осознавал, что иначе будет нельзя и что тут не поймут, если начнешь сопли по щекам размазывать. Война – дело грязное. Кто-то решил сменить тему:
Ты говоришь «подарочков» у нас для монголов парочка. Со стрельцами понятно, а второй какой?
Парочка – это не всегда два, их может быть и больше. И их действительно больше, но я (пока!) говорить об остальных не буду. Но и врать не буду – они есть.
Не доверяешь?
Не дури. Просто примета такая, скажешь – не получится. А надо, чтобы получилось.
Я действительно не хотел говорить. Завтра все войско о всех секретах знать будет и не поймешь откуда. Но и обижать не хотел. Лучше вот так, сослаться на приметы и промолчать. Что касается примет всяких, то к ним все в этом мире относятся уважительно, особенно на войне.
– Ты говорил, что нам надо задержать их, как минимум, на три дня. Но сейчас зима, болота и реки замерзли. Монголы могут и в обход нас пойти. Все равно, наверняка остались места, где можно прорубить дорогу в обход нашей крепости.
Можно. Но сейчас, как ты верно заметил, зима и каждое дерево надо срубать под корень. Иначе снег под тяжестью лошадей и груза будет проседать и пеньки обрубки начнут просто травмировать животных, а на санях вообще проехать будет невозможно. Даже при их численности и организации непрерывных работ чтобы пробить такую дорогу потребуется не меньше 10 дней. А этого времени у них нет. Скоро распутица, отойдут от спячки болота. Все войско можно в них оставить. Да прибавь к этому срок не меньше трех, а то и пяти дней, в течение которого они попытаются с нами «вопрос» решить. Не получится рисковать точно не станут, назад пойдут. На больший срок ни за что не задержатся.
– Эти три… или пять дней еще продержаться надо.
– Продержимся, поверь мне на слово. Не зря я здесь. Чего залыбились? Знаю я про сказки, что вокруг меня ходят. Мы монголов без всяких сказок побьем. Лучше давайте поговорим о том, что ждет нас завтра, в день, так сказать, первого с ними свидания.








