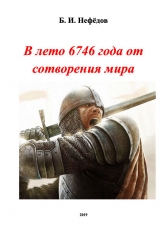
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
– А как продажи «на Запад». Здесь без наценки?
– А на Запад наши славян сейчас не продают. Не потому, что не хотят, те не покупают. Другие – дешевле, а пленных славян у них и своих хватает. А ты что интересуешься, может сам торговать живым товаром хочешь?
– Нет, Ибрагим, твоим товаром я торговать не хочу. Вот это точно!
– А тебе холопов много надо?
– Много, Ибрагим.
– Десяток? – оживился работорговец.
– Больше.
– Пять десятков?
– Больше. Рот закрой.
– Шутишь?
– Какие шутки.
Я прямо физически почувствовал, как он вспотел. Такие покупатели не то, что не каждый день, не каждый год попадаются. О таких работорговцы потом рассказывают друг другу чуть не легенды.
– Мне может быть даже не одна сотня челяди понадобится.
– Челядью рабов давно звали, сейчас их холопами зовут.
– Ну, холопов, какая разница.
Ибрагим нежно взял меня под локоток, и я сам не заметил, как мы углубились в его «владения», да и пришли не торопясь к небольшому рубленному дому, где нас ждал накрытый стол в теплой горнице.
– Зачем тебе столько холопов? Куда перепродавать будешь? – разливая ставленый мед поинтересовался Ибрагим?
– Я же тебе сказал, что этим товаром я не торгую и торговать не буду. Эти …холопы…мне самому нужны. А вот если в цене не сойдемся, то к другому торговцу могу запросто уйти.
– Ты что? Мой товар самый лучший! А дешевле, чем я продам, тебе никто не продаст. Найдешь дешевле – придешь, я тебе верну разницу!
Где-то я этот перл маркетинговый уже слышал. Но интерес у Ибра-гимки разыгрался не на шутку:
– А за что, уважаемый, брать будешь?
– Могу оплатить железом, могу серебром.
– Серебром? За всех? Не врешь?
– Не вру. А будешь недоверием обижать…
– Что ты, что ты, Михаил Игнатьевич. Какое недоверие? Лучше давай за дружбу выпьем!
– Ты лучше о ценах скажи.
– О ценах договоримся. Мы же за дружбу выпили, мы теперь друзья. А мы, русские, своих друзей никогда не обманываем.
– Нашелся «гусский».
– Другое дело, что народу тебе много надо. Сейчас не весна. Ну две-три сотни я быстро найду… а сколько еще требуется?
– При чем здесь весна?
– Так походы «по соседям», как правило, устраивают каждую весну после полюдья (так называют сбор налогов князьями с подвластных им земель). Это – лучшее время для нападения на соседние славянские земли, но главным образом все-таки не на славян, а на те племена, что к северу от нас, да в сторону Каменного пояса. На славян обычно князья – соседи ходят, а на других так бывает, что и просто ватаги охочих (а иногда и лихих) людей. Пушнину с них, да скарб какой пограбят, да пленных повяжут. Ну с пушниной и прочим – это не ко мне, а вот пленных, так тех именно сюда тащат. Сбыл их и свободен. Таких холопов к началу лета на новгородском торгу иной год под тысячу набирается. А вот мы…
– Ну дальше я знаю. Но мне нужны такие холопы, чтобы оружие в руках держать могли? Чего очи выпучил? Комок сглотнуть не можешь?
– Нет, Михаил Игнатьевич. Это я так поперхнулся. Да не бей ты меня по спине. А зачем тебе такие, чтобы оружием владели? И зачем тебя таких так много? Ты что, решил караваны грабить? Нет? Ну, слава Богу. Хотя, мне какое до этого дело. Давай еще по одной.
Выпили. И вдруг Ибрагим задумчиво так, но совершенно трезвым голосом мне и говорит:
– Я вот что думаю. Если обо всем сговоримся, пошлю бересту в Тверь, да в Торжок, да в Смоленск. Родня у меня там. У них тоже наверняка есть такой товар. Застоявшийся.
– Почему застоявшийся?
– Так всем либо слуга нужен, либо чтоб холоп ремесло какое знал, либо чтобы землю умел пахать, охотой или рыбной ловлей занимался. А тебе вишь – чтоб оружием владел. Оно, конечно, сегодня кто им не владеет? Но тебе же надо не кабы как. Правильно я понимаю? А такие обычно мало кому нужны. На Востоке таких хотя бы на галеры направляют. А здесь куда? По лесам да болотам галеры не ходят. Пока покупателя найдешь. Задал ты мне… Ладно, давай еще по одной, для ума. А какие тебе славяне-то нужны, они ведь все разные.
– Не понял. Славяне они и есть славяне. А что они между собой как-то сильно отличаются?
– Спрашиваешь. Конечно же отличаются и довольно сильно. Для меня вон только эти вон… монголы да татары, что в последнее время зачастили на наш торг, так только они (и то вначале) были все на одно лицо.
– И как же ты славян по внешности отличаешь? Если по одежде, так это, наверное, каждый может.
– Ну при чем здесь одежда. Их голых рядом поставь, и я скажу из какого он княжества. Это же мой товар, как же я торговать им буду, если я в нем не разбираюсь. Вот местные славяне из Новгорода, Пскова, Твери, Смоленска. У них кожа светлая, борода довольно густая, лицо узкое, сами такие… длинноголовые, черты на лице резкие, выступающие. Нос вот такой. Они и ростом немного повыше других славян. Глаза большей часть серые, голубые да зелёные. Тёмных глаз почти не найдешь. Только если помесь какая. Западные славяне (кривичи, радимичи, дреговичи и древляне) отличаются от них более широким лицом. Жители Владимира и берегов Клязьмы круглоголовы, темноволосы и темноглазы, уста у них такие …полноватые. Светлые волосы встречаются, но где-то только у каждого третьего. Большинство из них имеют вот такую складку на верхнем веке и очень высокую переносицу. Жителей Костромы выделяет густая борода, слегка вытянутое лицо, длинный нос и, наоборот, очень узкие губы. Как правило, у них темные волосы, и у многих – ещё и темные глаза. А у жителей Суры лицо узкое, нос тоже узкий, но прямой, рост невысокий, тёмные волосы, но при этом светлые глаза и складок на веке нет. Вообще, у тех, кто живет на границе со степью рост небольшой, носы узкие, волосы и глаза темные. Причем у тех славян, что живет еще южнее, и кожа смуглая. Ну и так далее. Так что славяне славянами, да только все они разные. Тут меня не обманешь. Кстати, на их внешности сказывается и то, как их соседи выглядят. Возьми половцев, (они же куманы, они же кыпчаки). Чем они отличаются от славян? А ничем. Один тип. Даже волосы цветом соломенной половы. (Может отсюда и название у них такое). Больше скажу, девки у них красивее всех считаются. Вот тебе и нет. Я ими торговал, знаю. Не зря даже поговорка есть: «красные девки половецкие». Сколько князей славянских на них переженилось. А у новгородцев вон, самоеды под боком. Конечно, и у этих девки тоже всякие есть, одно плохо, не очень они похожи на красавиц со славянской точки зрения.
И он залился хрипловатым смехом.
– Ну ладно, давай еще нальем. Да мимо-то не разливай ты.
Но и на этом мы не остановились. Скоро он уже стал для меня Ибра-гимкой, а я для него, через раз, то Игначем, то Игнатьевичем. Но не перегибал, я хоть и под хмельком, но ситуацию оценивал. Смотри у меня, еврей крещенный, а то я тебя заново окрещу.
Прощаясь, Ибрагимка пообещал:
– Заходи на днях, я все обдумаю, посчитаю, еще раз все обговорим.
– Зайду. А ты давай берестяные письма рассылай, екарный бабай.
Дорога на Новый Торг
Нужно было определиться с тем местом, где, согласно многочисленным летописям, будут происходить основные события, ради которых я, собственно, сюда и прилетел, т. е. с тем местом, где Батый остановится, простоит три дня и повернет от Новгорода. Мало приблизительно определиться с этим местом, но мне надо еще и найти его.
Берем исходные данные. Итак, в декабре 1237 года монголы нападают на русские княжества. Первой падет Рязань, затем города Северно-Восточной Руси – Коломна, Москва, Владимир, Суздаль. В феврале были взяты еще 14 городов, среди которых такие крупные, как Ярославль и Тверь. Той же зимой, но уже в феврале, войска Батыя начинают осаду первого города новгородского княжества – Нового Торга. Осада длилась две недели и где-то 5 марта и этот город пал. Кстати, за день до этого, 4 марта, правда далеко от Нового Торга, у реки Сыть будут разгромлены войска владимирского князя Юрия, после чего организованное сопротивления в самом сильном на Руси – Владимирско – Суздальском княжестве – перестало существовать.
Так вот, захватив Новый Торг, и «изсекоша вся отъ мужьска полу и до женьска», монголы пошли на Новгород. Но не дойдя до него порядка 100 верст и простояв 3 дня, повернули назад, но пошли не к Торжку, а в обход, мимо озера Селигер, отказавшись от дальнейшего похода на богатейший по тем временам русский город. Причины такого неожиданного поворота событий историки, в том числе, В. Н. Татищев, Н. М. Карамзин, С. М. Соловьёв, В. О. Ключевский, не говоря уже о современных мне авторах, называют разные.
Если собрать и скомпилировать основные версии, то получим следующее:
Русские летописцы ссылаются на Промысел Божий: «Новгород же сохранил Бог, и святая и великая соборная и апостольская церковь Софии, и святой преподобный Кирилл, и молитвы святых правоверных архиепископов и благоверных князей, и преподобных монахов иерейского собора». Я. как человек верующий, с этим спорить не буду, но как человек здравый не могу не спросить, а во всех захваченных монголами городах и селениях разве не молились? Боюсь, что одними молитвами дело не ограничилось. Значит причина, скажем так, не только в этом? Тогда в чем?
Встречается версия и о том, что монголы понесли тяжелые потери, и потому побоялись вступить в открытый бой с новгородской дружиной, т. к. решили сохранить силы. Потери, конечно же, завоеватели понесли не малые, но, думаю, что они бы вряд ли их бы смутили, тем более в самом начале своего похода к другому океану. Сомневаюсь, что Батый (с его сто тысячным войском) испугался четырех сотен новгородской дружины или упорного сопротивления пятитысячного новгородского ополчения. Стольные города других княжеств штурмовал и не боялся, а тут испугался. Да и не мог он не знать от своих шпионов состояния оборонительных укреплений города (а оно было на троечку).
Есть и такое мнение: мол, посидели-посидели монголы в 100 верстах от Новгорода, и подумали, а зачем им эта земля? Для кочевого скотоводства она непригодна, леса сплошные, до болота. Но тут что-то тоже не складывается. А зачем они тогда вообще на Северо-Восточную Русь пришли? Почему им раньше столь умная мысль в головы их монгольские не пришла? А может они здесь скотоводством заниматься и не собирались? Посмотрите, сколько городов, сел да погостов (т. е. деревенек) было захвачено в течение этого похода и нигде (!) монголы не оставили даже маленького отряда для контроля над территорией. Пришли. Убили. Сожгли. Ограбили. Пошли дальше. Даже пленные им по большому счету не нужны были. Брали в хашар, да чтобы потом что останется на Восток продать. Какое скотоводство? Кто им собирался здесь заниматься?
Была высказана и еще одна мыслишка. Мол, скинулись новгородцы, послали монголам дары богатые, а те довольные, отказались на Новгород нападать. А три дня простояли, т. к. обещанное серебро ждали. Только опять пазлы не сходятся. А другие русские города что же, откупиться не пытались? Кроме того, есть все основания полагать, что дорогие подарки не остановили бы, а только раззадорили монголов, жаждавших добычи и наверняка слышавших про богатства этого города. Новгород – не Константинополь, который мог и откупиться, и на высоченных своих стенах врага встретить. Не боялись монголы штурмовать Новгород. А, может быть, все-таки боялись? Но мне гадать нельзя. Как узнать заранее, как новгородцы поступят? Это только в последние дни станет известно. А если никаких даров не посылали, хорош бы я был со своим неистраченным серебром. И опять же, вот встретишь ты такую делегацию, дашь им дополнительно свои 300 килограммов серебра для гарантии, а ну как монголы действительно то серебро возьмут, а остановиться не пожелают? Что тогда? Надо думать!
Наиболее распространенная версия – монголы испугались надвигающейся распутицы, половодья, раскисших дорог, да освободившихся от ледяного плена болот. То, что такая опаска у них, как у людей не таких уж и глупых, конечно же, была, сомнений нет. Но именно эта ли причина лежала в основе принятия такого решения? До Новгорода было всего 100 верст, а до того же Нового Торга больше 200. Не лучше ли до Новгорода дойти (тем более, что и идти надо на север), да там и переждать распутицу, чем с большим риском оказаться посреди раскисших земель, двинувшись на юг? И чего стоять три дня, если за это время можно было бы до Новгорода дойти?
Что-то их задержало в 100 верстах от Новгорода, что-то не дало им пройти этим маршрутом дальше, а идти другим путем стало действительно поздно из-за опасений все той же распутицы. Что могло их задержать, кроме силы, которую они не смогли переломить? Природные катаклизмы? Но о них ничего не известно. Да и пойдут они только той дорогой, где есть путь накатанный и особых природных препятствий не предвидится. А это, как я думаю, означает одно. Вот там, в 100 верстах их и встретила какая-то военная сила. Только была эта сила не новгородская, иначе об этом бы расписали в летописях, а какая-то иная. Да что кругами-то ходить, эту силу я и должен создать, с нею я и должен выступить навстречу к монголам и не пустить их дальше.
Так, с этим понятно. Теперь надо определиться с тем, где именно мне этих незваных гостей «встречать».
Здесь у меня было два ориентира.
Во-первых, это Новгородская первая летопись старшего извода (Синодальный список). В ее тексте, в частности, прямо говорится о том, что произошло после захвата Торжка[10]10
Летопись писалась уже после переименования этого города.
[Закрыть]: «…Тогда же ганяшася оканьнии безбожници от Торжку Серегѣрьскымъ путемь оли и до Игнача креста, а все люди сѣкуще акы траву, за 100 верстъ до Новагорода…». Здесь важным для меня было, во-первых, то, что указывалось конкретное место, до которого дошли монголы – «Игнач крест». Во-вторых, был дан достаточно четкий ориентир этого места – расстояние, которое осталось пройти до Новгорода – 100 верст. Вывод о том, каким путем пришли к этому кресту монголы, полагаю, исходил не из показаний «видоков», т. е. свидетелей (их, как следует из текста, не осталось). Просто существовало общее мнение о том, что двигаться от Торжка к Новгороду летом и зимой можно было только водным путем, а зимой по льду тех же рек. А путь от Торжка к Новгороду по рекам и озерам – это только через Селигер. А до Селигера от Нового Торга полторы сотни километров как добирались непонятно, скорее всего, по пробитой через леса санной дороге.
Во-вторых, это текст переписной оброчной книги Деревской пятины (относилась к общим владениям Новгорода), составленной около 1495 г. В ней, в частности имеется запись об угодьях некоего Андрея Руднева: «А угодей у того поместья: озеро Великой Двор, озеро у Игнатцова Къста». Во-первых, эта запись прямо указывала на то, где находился этот самый «Игнатцов Къст» (конкретное местонахождение которого, тем не менее, доподлинно даже в моем времени неизвестно). В ХХI веке озеро возле деревни Великий Двор находится недалеко от села Яжелбицкое, которое, а свою очередь, находится на трассе между Торжком и Новгородом. Значит и искомое мною озеро должно находиться где-то рядом. Во-вторых, сам факт того, что около этого креста должно быть озеро, хотя озер на Валдае немеряно, служил в поисках важным ориентиром. В моем времени этого озера может и не быть, но в Новгородском княжестве XIII века оно точно было и его мне позарез надо отыскать.
В другом летописном тексте этот самый «Игнач крест» назван урочищем. А что значит урочище? Это любой географический объект или ориентир, о котором договорились («уреклись») люди. Как правило, он служит естественной границей, природной межой (например: овраг, гряда холмов, река). Это также может быть какой-то участок, отличающийся от окружающей местности (лес среди поля; болото, луг среди леса и т. п.). Значит и искать надо будет нечто похожее.
Помочь мог ответ на вопрос о том, по какой дороге пойдут монголы к Новгороду? Но этот путь в ХХI веке доподлинно неизвестен, хотя обычно спорят об одном из трех его вариантов.
Во-первых, это путь от Нового Торга к Селигеру, затем по льду Селигера до городка Березовец (ныне на его месте стоит небольшая деревенька Березовый Рядок). Здесь нужно, по месту летнего волока (порядка 2,5 километров), дойти до озера Щебериха, и вытекающей из него одноименной реке, по льду которой добраться до реки Пола, а далее – к Ильменю и Новгороду.
Во-вторых, это снова по льду Селигера на север к Полнову, там 5–6 километров по летнему волоку в озеро Вельё, из него по реке Явонь в реку Пола, а по ней – в озеро Ильмень, а тут и Новгород.
Третий путь в литературе называют Яжелбицкой дорогой. Вот только и эту дорогу проводят, в основном, по воде. Снова идем до Селигера, где от северной оконечности Полновского плеса, через цепочку небольших озер и рек до реки Полометь. Последняя течет с юга на север, а у села Яжелбицы резко сворачивала на запад. У этого поворота в Полометь в свое время впадала Ерынья, которая направлялась с севера и приближалась своим течением к реке Холове – притоку Мсты. Так вот, нужно по этой Холове продолжить путь на север, к её устью, а затем по Мсте к Новгороду.
Не знаю, ходили ли люди вообще этим путем из Торжка в Новгород (он был виртуально обоснован одним автором в 1914 году и, в принципе, по этому маршруту действительно можно добраться из точки А в точку Б), но только монголы по нему пошли бы вряд ли. По поводу рассуждений сторонников этого маршрута, В. А. Чивилихин высказался так: они «направляют орду через весь Селигер и далее на север – по льду озера Велье, поперек долин Поломети и Холовы. Этот гипотетический наступательный марш с бессмысленным отклонением далеко на север был попросту невозможен». Я с ним согласен. Посмотрите, какой крюк, якобы, сделали монголы. Расстояние между Торжком и Яжелбицами, по прямой – 162 км., а по трассе – 182. Расстояние от Торжка до Селигера по трассе 128,4 км., и это, что называется, совсем в другую сторону. Практически уйдя к Селигеру, потом, нужно такой же путь проделать назад к Яжелбицам. То есть монголы добровольно, во время стремительного набега, проделали путь в 2,5 раза больший только для того, чтобы сложились пазлы у исследователей – выйти через Селигер к месту, где сегодня расположено село Яжелбицы. Или «настоящие герои всегда идут в обход»? Что-то здесь не так. Ключ не только должен входить в замок проблемы, но, чтобы открыть его, он еще должен поворачиваться в замочной скважине. То есть, многие факторы должны подтверждать эту версию. А здесь он не поворачивается.
Но если монголы погнались за немногочисленными беженцами в сторону Селигера, то это вовсе не говорит о том, что они продолжали за ними всей толпой гнаться более 400 километров этим замысловатым маршрутом. Это не значит и то, что они не могли выйти на Новгород через место, где впоследствии возникнет село Яжелбицы, но иным путем. Что объединяет все эти три маршрута (и еще несколько, являющиеся их вариантами)? Все они исходят из одного посыла: двигаться от Нового Торга к Новгороду, как летом, так и зимой в XIII веке можно было только водным путем, летом – по воде, а зимой – по льду рек и озер.
Но я открою всем сторонникам этих версий большой секрет. Был еще, и сухопутный путь между Новым Торгом и Новгородом. Был! Об этом хорошо было известно в XIII и XIV веках. Именно по нему (на лошадях и с обозом (!), иначе никак не пройдешь) шел из Торжка в 1255 году великий князь Александр, который выступил против новгородцев в защиту своего сына Василия. Знал он эту сухопутную дорогу, знал!
Именно по ней в 1316 году Михаил Тверской уходил от Новгорода так и «не взявши мира». Уходил он, как видно из летописи, тоже на лошадях и явно с обозом (дорога дальняя и столько продуктов, с учетом оружия и другой ноши, на себе не унести). На то, что он пошел именно сухопутным путем говорит и то, что войско его, двигаясь в Яжелбицком направлении, «заблудилось и увязло в топях». Правда, думаю, заблудилось не случайно, знаю я теперь этих новгородцев, спокойно могли ему «проводника» подсунуть. Но это – вопрос второй. Так вот, заблудившись, ратники с голоду ели конину, ремни и что придется, многие умерли, а те, что живы остались, побросав все, едва выбрались и «придоша пеши в домы своа».
Но это событие имело для этой дороги роковое значение. Ее стали избегать, считать, что риск движения по ней неоправданно высок и пользоваться надо только хорошо известным водным путем. Посчитали, что пусть длиннее дорога, да хорошо известна, а известный путь только в силу одного этого качества становится вдвое короче.
Однако в эпоху централизации Москва об этой сухопутной дороге на Новгород (проложенный, напомню, еще в XIII веке), вспомнят. Даже окажется, что таких дорог было на одна, а две. Одна тянулась вдоль левого берега реки Мсты, а другая – через Яжелбицкий погост. Именно по этим дорогам шел на Новгород Иван III в 1471 г., а затем в период осеннее – зимней компании 1477 г.[11]11
С той лишь разницей, что в 1237 году никакого Яжелбицкого погоста и многих других населенных пунктов на этих дорогах еще просто не было.
[Закрыть] И никакого тебе Селигера. Дорога шла прямо на Новый Торг, другое дело, что выходила она на дорогу от Нового Торга к Селигеру, но это уже совсем иное дело.
Кроме того, эта Яжелбицкая дорога была привлекательна для монголов тем, что на ней отсутствовали как таковые какие-либо укрепления. Тем более крепости, подобно стоявшим на других путях Демона (потом ставший Демянском), Молвотиц, городка Березовец или Русы (ставшей впоследствии Старой Руссой).
Понятно, что меня заинтересовала именно Яжелбицкая дорога. Правда, она, судя по летописным данным, проходила несколько иначе, чем трасса Торжок – Новгород в ХХI веке. Шла она западнее ее, но, в принципе, повторяла ее конфигурацию. Об этом свидетельствует упоминание нескольких пунктов этой дороги, сделанные в средневековье, но несколько позднее описываемых событий.
Значит, не везде лес стоял стеной, не всегда овраги и топи нельзя было обойти. Тем более, что человек всегда мог изменить или устранить те или иные преграды, что первоначально представлялись ему непреодолимыми.
Так, какой же путь выбрали монголы? Может быть все-таки через Селигер? По льду дорога ровная, да и засады на таком пути организовать сложнее. Если понужать лошадок, да почаще менять их в пути, может статься, что так до Новгорода скорее добраться окажется. Но тут мне на память пришли кое-какие исторические факты. Известно, что после захвата Москвы монголы перешли лесной водораздел между реками Москва и Клязьма и дальше продвигались по льду Клязьмы до самого Владимира. При этом двигались (для монголов) довольно медленно, пройдя за 7 дней всего180 километров. Таким образом, темп среднесуточного марша составил около 25 километров. Для продвижения по льду (т. е. по ровной дороге), по которому они шли, это скорость пешего похода. Для сравнения, путь от Владимира до Нового Торга, т. е. расстояние никак не меньше 450 километров (348 километров по прямой и 426 км, по современной мне трассе) монголы прошли за две недели, делая по 30–35 километров в день, хотя там дорога – не ровный лед реки, да и петляла она значительно сильнее, чем сегодня. И это несмотря на неизбежные задержки для захвата крепостей и населенных пунктов во время этого марша. Или возьмем их марш-бросок от Переславль-Залесского до Твери, когда они более 300 километров пути прошли всего за неделю, делая по 40–45 километров в день. В чем дело? И тут мне ударила в голову, казалось бы, парадоксальная мысль: лед реки – это и есть причина медленного продвижения. Напомню, лошади-то у монголов были не подкованы. Не думаю, что поход по льду Клязьмы кочевникам сильно понравился. Они его выбрали потому, что иного варианта у них не было. Представляю, как они намучились. Иными словами, если у монголов (при прочих равных условиях) будет выбор, то, конечно же, они выберут «сухопутную» дорогу, а не лед реки или озера. А при решении вопроса о дороге на Новгород я уже знаю, какой выбор они сделают. Только надо будет этот сухопутный зимний путь хорошенько проторить, да немного его проафишировать, чтобы и до монголов через их купцов-шпионов нужная информация дошла. Мол, есть короткий сухопутный путь, им мало пользуются (что тоже хорошо), но он есть. Раз надо – сделаем, а заодно и зерно в Новом Торгу закупим в максимально возможных объемах, его мне много понадобится.
Теперь, чтобы найти нужное место надо найти эту дорогу, отъехать от Новгорода 100 верст и поискать. Там должно быть озеро и какое-то необычное природное образование. Вот только, для начала, нужно определиться с тем, какое расстояние принимать за версту. Кто-то скажет, мол, что тут думать, верста это 500 саженей или 1066,8 метров. Грубо, можно считать километр, мол, это все знают. И будет неправ. Дело в том, что такой размер версты (она еще называлась путевой) был введен только Петром I. С тех пор этот размер сохраняется, но до этого величина версты, в зависимости от времени и региона, сильно разнилась и неоднократно менялась. В переводе на современные мне метры существовали версты и в 1280 м, и в 1389 м, и в 1482 м и даже в 1852 м (мерная старая). Одна соловецкая верста была меньше и была ровна окружности стен Соловецкого монастыря, т. е. 1084 метру. Соборным Уложением 1649 года (при царе Алексее Михайловиче) вообще была установлена «межевая верста» в 1 тысячу саженей 2133,6 м. (мерная новая).
В то же время, согласно словарю Брокгауза и Ефрона «старая русская геометрическая верста ровнялась почти 656 нынешним саженям» (порядка 1400 метров), но в «Общей метрологии» Ф. И. Петрушевского 1849 года издания говорилось, что «Старая верста была въ 700 саж[ен] своего времени, а еще старѣе въ 1000». Причем разница между 656 саженями у Брокгауза и Ефрона и 700 саженями у Петрушевского в значительной мере объяснятся разным определением размера аршина, из которого сажень и определялась. Так какой же размер версты летописец имел в виду: «старый» или «еще старее»? Изменяется время, изменяются и представления о расстоянии, обозначаемом одним и тем же словом – верста. Да и так ли очевидны рассуждения современных мне авторов о величине «старых» верст именно в 1000 саженей, и приравнивание 100 летописных верст до Игнач креста от Новгорода именно к 200 километрам?
Имеет значение и то, когда происходило то или иное историческое событие и когда оно описывалось в летописи (часто через 200–300 лет). Писали летописцы свои труды, когда длинна версты уже изменилась, но описывали события, когда она была еще старой. Как быть?
Тогда я решил покопаться в летописях того же периода и сравнить расстояния, которые до сего времени не изменились и известны в километрах с их измерением в верстах в эпоху, наиболее приближенную ко времени моего прибытия в Новгород. Но это мне помогло мало. Так, по новгородской летописи в 1240 году «придоша Немци на Водь с Чюдью, и повоеваша и дань на них възложиша, а город учиниша в Копорьи погосте. И не то бысть зло, но и Тесов взяша, и за 30 верст ганяшася, гость бьючи; а семо Лугу и до Сабля». Но Тесовский погост расположен в 48 км от Новгорода, а Сабельский погост – в 40 км. Однако летопись указывает, что ближайший к Новгороду пункт находился в 30 верстах. Отсюда, размер версты равен 1,33 – 1,6 км. Или другой пример. В летописи указывается, что в 1242 г. (время Ледового побоища) новгородцы разбили крестоносцев на льду озера Узмень и при этом «биша их на 7-ми верст по леду до Суболичьского берега». Но ширина Узмени в месте битвы составляет порядка 8 км., а значит, верста получается размером в 1,14 км.
И как мерились версты летописцами между пунктом «А» и пунктом «В»? По прямой или по дороге? Откуда мог быть известен путь «по прямой»? А если расстояние в данном случае измерялось «по дороге», то кто и как его мерил? Это важно, ведь сами летописцы по этим дорогам явно не хаживали, а сведения записывали на глазок, причем не свой, а чужой, не учитывая субъективного момента при индивидуальном определении расстояний.
В общем, целое научное исследование пришлось сделать, а вывод один. Подсказать может только один надежный ориентир – Игнач крест. Но по названию этого ориентира получается, что именно я его и поставил. Но поставил где-то около озера, да на Яжелбицкой дороге, да недалеко от села Яжелбицы. А расстояние от села Яжелбицы до Великого Новгорода по современной мне (а, значит, достаточно прямой) трассе – 124 км. А сколько это будет по болотистой, овражистой и холмистой местности? А в зимнее время? Реки и рельеф современных мне карт этой местности должны позволить мне ориентировочно определиться с местонахождением этого села (которого пока нет), ну а все остальное надо проверять и определять на месте.
Я крикнул Митяя (который уже служил при мне «ординарцем») и задал ему вопрос в лоб:
– Есть зимой прямая сухопутная дорога на Новый Торг? Не через Селигер и озера?
И он меня убил напрочь:
– Нет, нету.
– Как «нету»?
– Не знаю, но не ездят. Тут правда, один охотник приходил на торг, говорил купцам, что может такую дорогу показать, да ему никто не поверил. Уж слишком заманчивым предложение показалось. Решили, что корысть свою он здесь имеет. А может хочет завести в глухомань, да с дружками обозом поживиться. Трогать его не стали, ничего против него не было, так, подозрения одни. Но и желающих он не нашел.
– И где сейчас этот охотник?
Я замер в ожидании ответа.
– Да в Новгороде. Семью привез, но где живет, точно не знаю. Знаю, что работает по найму у кого-то из горшечников. Видел его с ними пару раз на торге.
Отлегло.
– Сможешь найти?
– Я то?
– Ты то.
– Да, надо – найду.
– Надо.
– Сюда привести?
– Сюда.
– За два дня сделаю. Делов-то.
– А за день?
– Так ему же все равно отпроситься надо.
– Скажешь хозяину, что я лично прошу его этого охотника ко мне на разговор отпустить.
Митяй осклабился:
– Тогда, конечно, отпустят. Хозяин потом на торгу будет еще всем рассказывать, как его сам Игнач об услуге просил-просил, просил-просил, и как он кочевряжился, но потом снизошел и с трудом, но согласился оказать ему уважение.
– Вот и действуй давай.
Так что я буквально через день встретился с еще одним своим сподвижником, надежным и верным. Оказалось, что сухопутная дорога на Новый Торг действительно есть, но кто и когда проторил ее ему неизвестно. Что показал ему эту дорогу еще его дед, и что несколько лет назад по ней он уже водил обозы одного новгородского купца, который получал за счет экономии на дороге значительную прибыль, а потому обозы его ходили тайно. Но этот купец потом перешел на торговлю воском, уехал куда-то, похоже, что в Любек, а он пристроился к артели охотников. Все бы хорошо, но после создания семьи и рождения ребенка, решил он осесть в Новгороде, думал, что снова поведет караваны, но его никто всерьез не воспринял.








