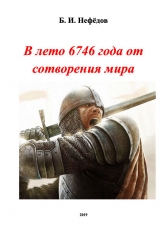
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
– Пошто остановились? Продолжайте, мы мешать не будем.
– Не обижайся, Александр Ярославич, но ножевой бой моей группы не предназначен для простых воинов…, да и для показа другим тоже. Одно скажу, сейчас мы отрабатываем простые и очень быстрые удары. За один удар сердца их нужно нанести три раза. Со временем, доведем их количество до четырех.
И, помолчав, добавил, поглядывая на князя и его дружинников:
– Нам бы хотелось продолжить занятия…
Князь ничего не сказал и направил коня в сторону стрельбища.
– Серьезный у тебя командир разведки. И отряд у него … небольшой, но серьезный. Посмотри, как они двигаются. Опасные воины. Очень опасные.
Я промолчал. А что говорить? Князя тут не обманешь. Главное, что не обиделся. А мог бы. Ну, Ерема. Ну, ёкарный бабай.
Стрельцы
Подъезжая, услышал голос самого Кежая:
– Ты не на стрелу смотри и не на рукоять лука. Все внимание на цель. Только тогда попадешь. Ты же не со спины коня стреляешь, а с твердой земли, а, значит, должен стрелять лучше степняка, а ты в такой круг не попал.
Потом кому-то другому:
– Запомни, стрелец может держать натянутую тетиву такого лука не больше десятка ударов сердца, но с каждой ударом ему это будет даваться все тяжелее и тяжелее. Руки начнут дрожать, а тетива опускаться. Это значит, что долго с натянутой тетивой целиться нельзя. Выбери цель заранее, резко натянув тетиву, два-три удара сердца и ты должен пустить стрелу. Теперь смотри, стрела летит на это расстояние около двух ударов сердца. Много это или мало. Если цель бежит, то за это время она пробежит несколько саженей. Значит, что?
– Надо стрелять вперед цели.
– Правильно. Тебе пора уже переходить к таким упражнениям (вон видишь, на веревке круг весит), а ты по неподвижному кругу в центр попасть не можешь. Давай еще раз. Помни, на расстоянии 25 саженей (50 метров) целься точно в центр мишени. На расстоянии 50 саженей берешь немного выше. На расстоянии 75 саженей к вершине цели подводишь мизинец левой руки.
– Вот так?
– Так! Но стрела проходит по большому пальцу руки, справа от лука. Справа, а не слева, как это заведено у поляков, венгров и немцев. Тетиву натягиваем до мочки правого уха либо до угла челюсти, а, значит, на полную длину стрелы.
Ну что сказать о стрельцах ХIII века? Оказалось, что в моем времени о луках, лучниках и их стрельбе ходило много легенд, большая часть которых на месте не нашли своего подтверждения. Один из таких мифов – то, что стрельцы стреляли из луков по команде и залпами. Держать боевой лук в натянутом положении очень тяжело. Ты его натяни, попробуй. Где уж тут с натянутым луком ждать команду. Поэтому залп получался только один раз, когда поступала команда начать стрельбу. И то «залп» – это сильно сказано. Предельная дальность эффективной стрельбы из лука по одиночной цели, т. е. когда стрелец попадает именно в тот неподвижный манекен, в который он целится – порядка 100 метров. Дальше эффективность такой стрельбы резко падает. По площадям стрельба эффективна где-то до 200–220 метров. Если у тебя не три воза стрел на каждого стрельца, то за эти пределы лучше не стрелять, хотя при угле в 45 градусов, стрелы будут улетать на расстояние и в 300 метров, и более. Значит, моим стрельцам нужно будет открывать стрельбу, когда противник приблизится метров на 170. Он будет продвигаться максимально быстро и мне нужно, во-первых, замедлить его скорость, где-то на расстоянии 100 саженей и на расстоянии 50 саженей. Вот вам и ориентиры для тренировок.
Из задумчивости меня вывел голос князя:
– А что это у тебя за вышки такие. У нас что-то подобное в качестве засидок на зверя используется.
– Дело в том, князь, что когда речь идет о защите крепости, то приходится стрелять сверху вниз, а при ее атаке, наоборот, снизу вверх.
– Ну, и в чем трудности?
– Не любите вы, воеводы русские, лук. Берёте пример с наших западных соседей. Лыцари тоже его «не уважают». А зря.
– Ну что сказать-то хочешь?
– При стрельбе вверх или вниз точку прицеливания следует опускать, то есть целиться ниже. Вот и все. Кежай, подойди сюда, подтверди князю.
– Это так, Александр Ярославич. Причем ниже надо брать и когда вверх стреляешь, и когда вниз. А на сколько ниже – зависит от лука, расстояния и разницы в высоте.
Князь подозвал кого-то из своего окружения:
– А у нас почему так не тренируются?
– Так мы больше готовимся в чистом поле воевать. Что нам за стенами прятаться? Это для гридней посадника важно. Они всё из-за стен воюют. Но у стрельцов посадника я тоже что-то такого не видел.
– Вот и промахиваетесь на охоте.
– Ну, я так не промахиваюсь.
– А ты что, только за себя одного в этом вопросе отвечаешь? Ты один будешь дружину прикрывать? Ладно иди. Дома поговорим.
– Сколько выстрелов в день делают твои стрельцы?
– Каждый день? Не менее 150. А потом упражнения на силу рук. Чтобы лук в вытянутой руке не дрожал, чтобы сил хватало не меньше 5 раз подряд натянуть и пустить стрелу. Небольшой перерыв и снова 5 стрел. Небольшой перерыв и еще пять стрел. Потом снова упражнения и так в течение дня. Дело в том, княже, что лучники у меня – опора всего войска. И тебе того же советую.
– Ну и каковы результаты?
– А вон, давай подъедем к мишени. На ней кольчуга. Увидим.
Мишень находилась на расстоянии 75 метров. Пущенная стрела на глазах князя пробила кольчугу насквозь прямо напротив «сердца».
– Знаешь, Игнач, я крепко решил. Новгородское войско будет отличаться от всех других в русских княжествах тем, что каждый его воин будет иметь лук[14]14
Это свое обещание Александр Ярославич исполнит.
[Закрыть]. Слушай, а самострелы ты не применяешь?
– Это которые на западной стороне арбалетами зовут? Да нет как-то.
Приобретенные мною арбалеты так и пылились в кладовке. Да, их стрелы (болты) летят быстрее и уклоняться от них, в отличие от стрел, не умели даже китайские монахи. Да, они могли пробивать более толстую броню, чем лук, но преимущество в этом у них было не принципиальным. Да, стрельбе из арбалета нетрудно научиться, не то, что из лука. Однако, если лучники (стрельцы) были во многих армиях самостоятельным родом войск, то арбалетчики всегда выполняли только вспомогательные функции. И это не случайно. Слишком велика разница во времени для перезарядки. Арбалет хорош против тяжелого рыцаря, но в борьбе с быстрым и маневренным противником, какими были монголы, он был луку не конкурент. Опять же, стрельбу навесом по площадям из него не осуществишь. Арбалетчики не могли вставать в несколько рядов. Пологая траектория болта не давала задним рядам стрелять через головы передних. Даже для того, чтобы сменить тетиву на тяжелом арбалете нужен специальный станок.
Но совсем от арбалетчиков я не отказался, просто надеялся вернутся к вопросу о них, но позднее.
– Ладно, поедем к кавалерии.
Кавалерия
Что сказать о русской кавалерии в домонгольский период. Я уже упоминал о том, что она была малоподвижна и немногочисленна. Что русские князья да бояре, одетые в железо, предпочитали идти в бой на мощных, но медлительных конях и что предубеждение против легкой (и быстрой) кавалерии было окончательно сломлено только после Куликовской битвы.
Поэтому занятия моего конного отряда вызвали у князя нескрываемый интерес. Чудно ему было все, но прежде всего, то, что этот отряд у меня делился на легкую кавалерию и «тяжелую» (хотя мою тяжелую кавалерию по вооружению и защите правильнее было бы назвать средней). Легкая – для разведки и сторожевого охранения, а тяжелая – для таранного удара по пехоте или кавалерийскому подразделению противника. Но не только это.
Заинтересовал его, например, стиль фехтования на саблях, что практиковали мои всадники. Суть ее можно выразить появившейся немногим позднее такой поговоркой: «Венгерец бьет наотмашь, московит – сверху вниз, турчин – к себе, а поляк на крыж машет саблей». Вот этот удар «на крыж», т. е. «на крест» я сам впервые увидел у Бельского, когда тот учил свой молодняк сабельному бою. Он утверждал, что это – не его изобретение, что самого его так научил рубиться его польский учитель по имени Матеуш. Ну, в историю этого вопроса я сильно не вдавался, и оценил все эти приемчики, только глядя на удивленное и крайне заинтересованное лицо Александра Ярославича. А тот не удержался:
– Послушай, Михаил, сабля уже несколько веков применяется славянами в бою. Меня тоже учили ею пользоваться, показывали технику из разных стран. Но это – что-то необычное, причем очень результативное. Я просто вижу, как твой воин с такой техникой пробивает мою защиту. Надо будет мне с твоим мастером увидеться, пусть поучит меня маленько.
– Как скажешь, Ярославич.
– А почему ты решил своих всадников саблями вооружить, а не мечами?
– Сабля предпочтительнее, если речь пойдет о противнике в слабых доспехах и собственных недостаточно обученных воинах.
– А что, твой противник будет в слабых доспехах?
– Большинство из тех, что придет на Русь следующей зимой хороших железных доспехов иметь не будет. К сожалению, я как-то уже говорил об этом, в славянских княжествах они смогут собрать их хороший урожай.
Князь покосился на меня, но ничего не сказал.
Порадовала князя и манера пользования моими всадниками копьем. Дело в том, что еще совсем недавно (в том же XII веке) русские всадники бились копьем иначе. Они не зажимали его древко подмышкой (как это делали европейские рыцари), а держали его в руке над головой и наносили удар сверху – вниз после предварительного замаха (как это нарисовано на картине В. М. Васнецова «Бой скифов со славянами»). Поскольку во времена скифов не было стремян, то это позволяло «отдачу» от удара направлять вверх, но всадник оставался в седле. Правда, такое копье было (вынужденно) слишком коротким. Но теперь стремена у всадников есть. Они, как и форма седла, позволяют выдержать отдачу копья в горизонтальной плоскости. А похвалил потому, что новая техника еще только входила в военный обиход славянских княжеств, но еще не была общепринята. В эти времена новое особенно сложно пробивало себе дорогу, лучшим считалось все, что делали деды и прадеды и то, как они это делали.
Похвалил он и удлиненные листовидные наконечники моих копий. Дело в том, что широкий и плоский наконечник, сделанным из хорошей стали, приобретает не только колющие, но и режущие, и даже рубящие свойства. Кроме того, он больше не обламывается в ране, а выворачивается из нее. Эта особенность потребовала снабдить копье прочным древком, а это, в свою очередь, улучшило управление наконечником.
В сегодняшнюю программу боевого обучения моих всадников входила отработка ударов копьем на полном скаку по неподвижной мишени, поединки между двумя воинами на имитации сабель, а также отражение удара копья и уклонение от него. Никто не филонил, все выкладывались по полной.
Чуть в стороне группа всадников тренировалась в рубке лозы, а дальше – небольшое стрельбище, где проходила тренировка в стрельбе из луков.
– А что это они там, никак «парфянский выстрел» отрабатывают?
– Не смейся, княже, до этого еще далеко. Стрельба из седла с поворотом назад по преследующему противнику нам пока только снится. Просто, стрелять с лошади учатся. В том числе назад.
– А вон там, что плотники делают?
– Сейчас, княже, мои всадники учатся наносить удары копьем, но по неподвижным целям, а там – цели будут двигаться, да еще с разной скоростью.
– Занятно. А почему твои всадники после удара копьем бросают его?
– В бою всадник двигается на цель с большой скоростью. Если речь идет о встречной атаке, то ее надо увеличить вдвое. В результате, удар наносится копьем с огромной силой. На такой скорости у всадника нет возможности выдернуть свое оружие. Иначе копье, вонзившееся во врага (землю, дерево, без разницы) становится очень опасным для самого всадника. Это рычаг, который остается на месте в то время, как всадник продолжает движение. Здесь легко вывернуть или сломать руку, а можно и шею. По идее, для безопасности, копье должно ломаться в момент удара. Думаю, что со временем мы к этому и придем. А пока…Кроме того, Ярославич, нужно учитывать, что в реальном бою копье все равно было бы бесполезно в дальнейшей свалке.
– А это что у тебя за тупые колья вбиты, да не прямо, а в наклон?
– Понимаешь, Ярославич. Когда на пеших ратников надвигается вал скачущих на них всадников, земля дрожит от топота копыт, копья грозно сверкают, кони хрипят и рвут поводья, громовой боевой клич рвет уши. Тут кто в штаны не наложил – уже хорошо, потому как, ни одно пешее войско сдержать такой вал, а, значит, и устоять против него просто не сможет. Одно спасение – у пеших ратников должна быть защита. При все моем уважении к стрельцам, такой защитой не может быть меткая стрельба, которая нанесет коннице жестокий урон, но не остановит ее. Такой зашитой (в поле) может быть только стена копий перед дисциплинированным и сплоченным строем пеших воинов. Ополчение тут не годится. И здесь важно понимать, что конь – это живое существо, которому тоже дорога жизнь. На копья лошади просто не пойдут, даже если они возбуждены боем. Там вон видишь, между этими кольями проходы есть. Тут я учу (уже не всадников, а коней) не бояться такой преграды. Полностью разучиться бояться они не смогут, но и шарахаться, внося сумятицу и сбрасывая седоков, не будут.
– А если на конницу послать конницу?
– Хорошая мысль, только где эту конницу взять? Кроме того, я не знаю, каким образом это происходит, но еще до столкновения конных масс люди (а, похоже, и кони) каким-то образом уже чувствуют, кто из противников проиграет, а кто победит. Поэтому конная сшибка на войне вещь редкая. В большинстве случаев одна из сторон, не выдерживая, еще до столкновения разворачивается или уходит в сторону. Если же сшибка произошла, но всадники сильно не увязли, то и такой бой не будет долгим. Одна из сторон «показывает плечи» и начинается самое страшное – преследование и рубка убегающих.
– Ладно, пойдем, посмотрим каков за лошадьми твоими уход.
Двинулись по направлению к коновязи. Я князя понимал, уход за лошадьми крайне важен. Недаром он сам с утра первым делом на конюшню бежит. Дурных примеров в этой части в истории много наберется. Достаточно вспомнить, как в 1859 году французы во время итальянской компании выдвинули к театру военных действий 10000 кавалеристов. Это было в мае, а уже в конце июня лошадей осталось только 300, в основном из-за недостатка корма и плохого, небрежного ухода. Правда, это когда еще будет.
Но, полагаю, что в интересе князя к состоянию моих лошадей не все было так просто. Думаю, что здесь дело было вот в чем. С наступлением тепла главной проблемой стали, вы не поверите, кровососущие насекомые, имеющие общее название «гнус». Болота же вокруг. Под этим общим названием объединяются и мельчащие насекомые – мокрецы и мошки, и более крупные – комары, и самые крупные кровососы – слепни и оводы. Последние особенно омерзительны. Они, в отличие от тех же слепней, не пьют кровь, а откладывают яйца под кожу теплокровных животных, из которых выходят личинки, питающиеся кровью и тканями живого млекопитающего.
Я, конечно, знал о таком геморрое, но его масштабы в период средневековья вообще и в Новгороде, в частности, честно скажу, даже представить себе не мог. Места вокруг влажные, болотистые и этого добра повылазило так много, что просто диву даешься. Выйти на улицу было подобно самой садисткой пытке. Идешь, а вокруг тебя целое облако этих тварей гудит в предвкушении «чего бы покушать». Готов новгородцам в ножки поклониться уже за то, что «мой» лагерь они поставили на сухом, возвышенном и хорошо продуваемом участке. Не это, так, наверное, все мое воинство с мая по конец июня по казармам и просидело бы.
Однако было бы неверным утверждать, что расположение нашего селища полностью избавляло нас от этой проблемы. Кровососов все равно было много и с ними нужно было как-то бороться. В помещениях я еще рапторы устанавливал (на аккумуляторах), а на улице они помочь уже не могли. Поэтому днем, в местах хозяйственных работ и тренировок, людям все-таки приходилось жечь дымокуры с можжевельником и полынью, мазаться дегтем (но тут надо без фанатизма), смешанным с маслом, отваром корней пырея, полыни и применять другие «народные средства».
Но надо было подумать и о лошадях. От гнуса они становятся нервными – кровососы лезут им в глаза, уши, ноздри, тучами кружа над бедными животными. Лошади трясут гривами, отмахиваются хвостами, поджимают ноги, но гнус атакует их все с новой и новой силой. Животные начинают плохо питаться, худеют, сильно нервничают. Днем конюхи не могут удержать табун на выпасе: спасаясь от насекомых, животные забираются в воду, в заросли леса, кустарник или бегут под навесы. Но, если навесы плохо затенены, нет покоя и под ними. К вечеру, когда спадает жара, слепни, и мошки перестают беспокоить животных, но в это время на них тысячами нападают назойливые комары и мокрецы. Какой нормальный хозяин будет спокойно наблюдать за этими муками своих первых помощников? Тем более, что гнус причиняет большой вред еще и тем, что является переносчиком различных заболеваний человека и животных.
Правда, я немного готовился к такой проблеме и еще в Москве по совету одного моего знакомого закупил, скажем так, соответствующий препарат и пипетки для его нанесения на животных. Да-да, именно пипетки. А то я знаю, креозол на бедных животных чуть ли не садовым опрыскивателем наносят. Кстати, тоже неплохое средство, но запах от него… Но не будем о грустном.
Так вот, купленный мною репеллент представлял собой маслянистую прозрачную жидкость, которая, после нанесения на кожу, практически не всасывается, а распределяется по поверхности тела животного, что и обеспечивает ее длительное действие. Именно этой жидкостью я, с соблюдением всех мер предосторожности, и прокапал каждую свою лошадь от холки до крестца. Со стороны казалось, что я просто проглаживаю животное, тем более что какого-либо сильного или неприятного запаха после моих процедур не появлялось. Не скажу, что после этого к моим лошадкам ни одна муха не подлетела, но результат был очень неплохой. Он был настолько заметный, что в итоге до меня стали доходить слухи о том, что стоило мне погладить лошадь и на нее больше кровососы не садятся. Я только похихикивал.
Согласно инструкции, этот препарат не следует применять к животным, массой менее 300 килограммов, а также наносить его на влажную и поврежденную кожу. Отсюда я сделал вывод о том, что его не предполагалось применять для защиты человека. Но ведь наносить репеллент можно и не на кожу. Каюсь, но я прокапал, одежду своих людей со спины, и это тоже дало неплохой результат. Может, я что и нарушил, но люди не жаловались.
Лошади постепенно привыкли к соответствующей процедуре. Более того, каким-то образом понимая, что это она избавляет их от гнуса, они сами стали настойчиво напрашиваться на нее. Но со стороны причины такого их поведения понять было трудно, и это выглядело, как подтверждение неких смутных подозрений.
Вот думаю, что и до князя эти разговоры дошли и что он сам решил их проверить. Ведь состояние и самочувствие у животных, не подвергавшихся агрессии со стороны гнуса заметно иное, чем у тех, кого кровососущие насекомые на протяжении длительного времени активно беспокоили.
Осматривал князь лошадей долго, но было видно, что их состоянием он доволен. А потом неожиданно спросил меня вовсе не о гнусе:
– А почему это у некоторых твоих лошадей верхушки ушей срезаны? А вон у той, так их вообще, считай, не осталось – и не дожидаясь ответа захохотал вместе со всем своим окружением.
Я немного насупился.
– Сам же знаешь, княже. Удар мечом или саблей на земле особой хитрости не представляет. На коне же для этого навыки требуются, тем более что нужно уверенно наносить удары и слева и справа от головы лошади, а та тоже на месте не стоит. Для большинства моих всадников ездить верхом не проблема, а вот рубить с седла – совершенно новое для них дело, в результате у их лошадок уши и оказались подрезанными. Досадно, конечно, но куда деваться.
– Ладно, не кручинься. Хе-хе. Скажу тебе по секрету, я сам как-то своему коню верхушку уха снес, а уже не новичок. В бою еще и не то бывает, а уж в учении… Я смотрю, лошади у тебя все подкованы. Коней много, железа много. Дорого, небось, обошлось.
– Да нет, Кузня у меня своя, железо свое. Да и сколько там этого железа.
Дело в том, что в XIII веке подковой служил не мощный железный полукруг, как в наше время, а довольно тонкая железная пластина серповидной формы, которая защищала не все копыто, а только его передний конец. Типа наших набоек на конце ботинка, только побольше. Такая подкова и шип-то, как правило, имела всего один. Впрочем, даже такие подковы в то время были тем же монголам, к примеру, не по карману. Когда лошадей тысячи, то и железо для их подков надо считать тоннами.
– А это еще что такое?
– Да вот, княже, учу своих всадников пользоваться арканами.
– Арканы – это у степняков. Зачем тебе это? Не наше это оружие. Вон, видишь, и у твоих воев с ними ничего не получается.
– Получается плохо, это так. Но они вольно или невольно, привыкают к виду и опасности волосяной петли, учатся бороться с нею. Вон у меня один поляк, так вообще предложил за спиной длинные палки привязывать, типа крыльев. Интересное приспособление, действительно против аркана помогает, только не доработано оно еще. Но, поверь мне, пройдет немного времени, и доработают. Будут у польских всадников даже не деревянные, а железные крылья за спиной.
– Может и так. Ну ладно, поехали к тебе. Перекусим малость, да побеседуем в тенечке. Расскажешь мне, как бы ты со свеями да ливонцами боролся. А то ты все про монголов, да про монголов.
Молод, да хитер, ох хитер князюшка. Тут тебе и тренировки посмотреть (а, значит, чему-нибудь новому, да научиться), тут тебе и слухи о лошадях моих проверить, тут тебе и обед, тут тебе и информация про северных соседей. Но меня это радует. И дело не только в том, что от князя мне, за мою перед ним открытость да приветливость, тоже не мало, чего доброго, перепадает, но и в том, что при таком подходе мне легче свою здесь миссию выполнить.
А о свеях (шведах, то есть) да ливонцах что же не переговорить. Конечно, не все сразу.
Разговор начался еще по дороге:
– Думаю, что первыми, князь, придут ваши торговые друзья – шведы. Наслушаются сказок от своих купцов о богатствах новгородских и приплывут, прикрываясь словами о правильной вере и ереси. Пойдут, думаю, проторенными путями – по Неве реке.
– И когда пойдут?
– Ну, день не скажу, но, думаю, через лето. А как быстро узнать, когда уже пришли, подумай. Прежде всего, разведку в устье реки наладить надо, чтобы упредили сразу, как только враги появятся.
– У меня с одним племенем ижорян отношения добрые сложились. Племя небольшое, но верное.
– Слышал я об этом от Ибрагимки. Вот, пусть и понаблюдают, да сразу гонца шлют. О смене лошадей для такого гонца заранее подумать надо. Каждый час будет дорог. Если займут шведы Ладогу, то получат в качестве опоры не травку на берегу реки, а укрепленную территорию. Там их просто так не возьмешь. Кроме того, они туда сразу начнут подмогу себе перебрасывать. Дашь зацепиться, проблем потом не оберешься.
В сомнении Александр покачал головой.
– Быстро не получится. Чтобы собрать городское ополчение, да дружины новгородских бояр нужно решение веча. А там, как обычно, спорить начнут, вооружаться или нет. Лето, самая страда. Опять же решать будут, на шведа идти или за стенами отсидеться. Потом пока соберут воинов, как всегда в это время разъехавшихся по селам, пока ратники соберутся да вооружатся…
– За это время шведы Ладогу точно возьмут. Там гарнизона-то не больше сотни.
– Думаю, возьму свою дружину…
– Но у тебя дружинников 400 не наберется. Этого мало. От отца подмогу получить быстро тоже не успеешь.
– Кликну охочих людей. Их в городе много. Думаю, что десять сотен соберу быстро. По дороге кого смогу – заберу. Тот же гарнизон Ладоги, да и ижоряне помогут, пусть человек 50, но дадут.
– Но и это, думаю, будет меньше, чем шведов приплывет.
– Не в силе Бог, а в правде!
– Очень хорошо сказал. Обязательно перед выступлением людям это повтори. К архиепископу Спиридону обратись, получи благословление. Он все понимает, а для людей, для их уверенности в победе, его молебен не последнюю роль играет.
– Значит, думаешь, победим?
– Ну, если по-старому воевать собираешься, во чистом поле, да после взаимного построения, да без опоры на луки, а только честным мечом да копьем, то нет. Шведы сильны, хорошо вооружены и подготовлены. Они на такую войну с твоей стороны и рассчитывают. Чего они будут от тебя ждать? Что ты, молодой да глупый, выведешь наиболее боеспособные части против них во чисто поле, где они, за счет своего численного и боевого превосходства, сразу с ними и покончат. А потом без труда захватят Новгород и города, что под его рукой. Думаю, что для этого они даже прямой вызов тебе пошлют. Мол, выходи на битву. Пойми, княже, как монголы воюют, к тому времени шведы тоже знать будут…
– А если по-новому? Обернуться быстро, буквально за несколько дней. Шведы такой прыти от меня ну никак ожидать не будут, а, значит, будут беспечны. Тихо снять часовых, да и напасть на еще сонных, да с утречка, как рассветет, в самый сон. Вначале дружно ударить стрелами. Поджечь у них в лагере что-нибудь. Это обязательно вызовет сумятицу, а может и панику. Под шумок выбить из луков тех, кто не успел броню одеть, а потом уже ударить, пока у них переполох не закончился, и они построиться не успели. Да ударить с двух сторон, в том числе, вдоль берега…
– Почему вдоль берега?
– Попытаться отсечь от кораблей. Корабли для шведов – все. Удастся отсечь или нет, это вопрос второй. Но увидят те шведы, что на берегу остались, что их от кораблей оттесняют, не о сече думать начнут, а о том, как им до кораблей добраться. Да и те из шведов, что на кораблях в тот момент окажутся, ни один на помощь остальным не придет, будут корабли свои стеречь.
– Ну, вот видишь, все верно. Сразу преимущество шведов в численности уравняешь. А, значит, дух их упадет, а у твоих ратоборцев он, наоборот, несказанно возвысится. А это уже победа. Главное сейчас время не теряй, с ижорцами, охочими людьми договаривайся, сам готовься, чтобы наступил момент, а тебе уже думать, как лучше, что сделать не надо, все обдумано. Да, больше внимания коннице уделяй. Без нее быстро не поспеть.
– Ну, а потом?
– Что потом. Потом тевтонцев жди. С этими, правда, малыми силами не разобраться. Без открытой битвы не обойтись. Что сказать, присмотрись, как монголы воюют. Тут тебе и левое крыло, и правое крыло, и центр, и резерв, а в кустах еще и засада. Но главное – тактика. У рыцарей по этой части все давно известно и однообразно. Пойдут клином, их слабое место – незащищенный тыл и неумение драться в окружении. Ганнибала на них нет, помнишь, я тебе про него рассказывал. Вот и думай. Время есть.
– Ну так мы будем сегодня перекусывать или как?
– О чем разговор, Александр Ярославич. Ну, когда это я тебя без перекуса отпускал? Да могло ли быть по-другому? Обижаешь. Ну, ёкарный бабай.
Крепость. Первые шаги
Шла середина июля (по моему прежнему времени). Мошка потихоньку стала терять свою активность, да и остальные кровососы к августу должны были постепенно начать сдавать свои позиции. Это означало, что наступила пора думать о начале строительстве моего «укрепрайона».
Я много размышлял о встрече с войском Батыя. Скажу честно, вначале пришла мысль, что может быть дурью не маяться, а заявиться в Новый Торг со своим воинством и дать бой монголам там, на уже имеющихся крепостных укреплениях? Но потом отказался от этой идеи. Во-первых, длина его крепостной стены не позволит контролировать ее только моими силами, а, за исключением небольшого гарнизона да охраны обозов и не успевших убежать купцов, главным воинством, что будут держать оборону, будут горожане-ремесленники да укрывшие за стенами крепости, землепашцы из окрестных сел и деревень. В их мужестве я не сомневался, но они – всё тоже ополчение, которое нельзя выставлять против профессиональных воинов. Недаром монголы рассматривали таких противников, как «корм для своих мечей». А прорвутся монголы за стены в одном месте, их уже не удержать. Во-вторых, посадник там, хороший человек и хороший воин, но подсказок от «каких-то купцов» просто не потерпит, будет все делать (и воевать) по-своему, как отцы и деды делали да воевали. Но самое главное не в этом. Историей предначертано Новому Торгу пасть. И он обязательно падет, в результате ли потерь и утомления сил, случайности или предательства (что, как, подозревают, имело место при защите Козельска).
Тут примешивается и еще одно.
Почему крупные города славян были захвачены монголами в очень короткие сроки? Просто славяне отвыкли защищать свои города от штурма. Считалось, что захватить крепость можно было либо неожиданной атакой с захватом ворот, или осадой (которая редко бывала удачной, если не имел место измена). Поскольку нападавших обычно было ненамного больше тех, кто защищался, справедливо считалось, что подготовившаяся к обороне крепость атакой взять нельзя. Случаи штурма, хотя и имели место, но (до прихода монголов) были крайне редки, поскольку, в абсолютном большинстве случаев, только подтверждали это правило. Поэтому оборонительные сооружения вокруг городов строились «с запасом», и, в любом случае неадекватно количеству их защитников. Отсюда и основными защитниками стен оказывались не воины-профессионалы, а ополченцы.
Возьмите Рязань. Абсолютное большинство ее дружинников погибло в пограничном сражении. Пришедшие к ней на помощь князья привели, в общем-то, небольшие дружины, которые к тому же, в своей основной массе, погибли на реке Воронеж. Кто должен был защищать почти 4 километра оборонительных укреплений города? На одного дружинника, как минимум, четыре метра стены (это если предположить, что в Рязани после всего еще осталась 1000 дружинников). Добавим к ним по одному ополченцу на каждый метр оборонного рубежа (и то, если призвать всех, кто мог носить оружие). Лучников среди них, по традиции, было немного, запас стрел они имели небольшой и каждый из них воевал сам по себе. Монголы же, по своей традиции, вперед пустили хашар (напомню, пленных, захваченных по дороге, которых гнали на убой впереди войска, чтобы истощить запасы стрел противника и выбить стрелами тех из них, кто, защищая крепость, покажется над стеной). В результате защитников Рязани (а у защитников – стрел) стало еще меньше, и она (напомню, столица целого княжества) пала при штурме уже на шестой день. Только исключительной отвагой и мужеством ее защитников можно объяснить то, что гигантская армия нашествия не сделала этого еще раньше.








