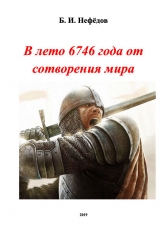
Текст книги "В лето 6746 года от сотворения мира (СИ)"
Автор книги: Борис Нефёдов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 38 страниц)
Эти дома отапливались печами, причем печами с трубами. При этом часто они располагались на первом этаже. Поэтому не следует печи искать этажами выше. Из печей довольно распространенными были каменки (т. е. печи, сложенные из камней, причем насухо, без скрепляющего раствора), но чаще всего печи были глинобитными, сводчатыми, с плоским подом. Глинобитные, или «битые» печи сооружались так: сначала сооружался деревянный каркас, который затем обмазывался толстым слоем глины. Эти печи надежнее каменных (да и кирпичных), они лучше держат тепло, не отсыревают, не прогорают, с течением времени только набирают свою прочность, превращаясь в единый кирпич, который разломать нелегко даже ломом. Причем основания таких печей достигали двух и более метров. Печи эти ставилась на «опечке», которая обычно представляла собой четыре (реже – два) вертикально врытых в землю столба, и, в отличие от основной мебели, не была намертво связана со срубом избы.
В избах крестьян и мелких ремесленников эти печи действительно не имели трубы, и дым выходил прямо в комнату, а оттуда (через волоковые окна) на улицу. Иначе говоря, в них топили «по-черному» и назывались такие избы курными. В богатых новгородских домах (а их было большинство), печи были с трубой «дымницей» (правда, дымоходы, располагались горизонтально), да и окна – «косящатные», т. е. современного для нас типа. Довольно большие рамы этих окон закрывали прозрачной светлой слюдой (реже, в домах победнее – пузырем). Будущим историкам и археологам тщательнее надо работать с этим вопросом. Их должно было бы насторожить уже то, что слюдяных окон просто не могло быть в курной избе. В них слюда быстро бы закоптилась, а слюдяные пластины – это не стекло, их не помоешь. Закопченная слюда не пропускает света, т. е. перестает выполнять свою функцию окна. Менять же слюдяные окна (да еще так часто), в силу их очень большой стоимости, позволить себе не могли бы даже самые богатые горожане.
Раз были печи, были и специалисты по их постройке. Я встретился с самым «титулованным» из них. Но даже для него дело оказалось во многом новым.
Во-первых, мои хлебопекарные печи должны были быть достаточно массивными, чтобы сохранять тепло в течение длительного времени. Одновременно это означало и то, что у таких печей должен был быть фундамент и его нужно будет делать из камня. Сами же печи нужно было строить из глины. Чтобы с печами было удобно работать, они должна располагаться на пьедесталах, т. е. возвышениях над полом, которые лучше всего возводить в форме буквы «Н».
Во-вторых, нам следовало определиться с размерами самой печи (оказавшимися для моего печника необычными), объемом горнила, т. е. собственно топки печи, которая одновременно является и хлебной камерой. Так, размер пода (низа топки печи) должен был быть достаточным, чтобы поставить на него 50–70 форм для хлеба. Важно было обсудить и структуру свода – верхней и наиболее ответственной части горнила. И дело не только в том, что свод нередко раскаляется и поэтому подвержен выщерблению. Поверх свода нужно уложить материал, принимающий и запасающий тепло, т. е. обладающий высокой, как говорили в далеком сегодня для меня мире, теплоемкостью. В крайнем случае, это должна быть песчаная засыпка, которая обязательно должна быть послойно залита глиняным раствором, поверх которой укладывается дополнительный утеплитель в виде слоя из опилок и глины. Только при таких условиях процесс выпечки хлеба не будет занимать более 20–30 минут, а готовить в протопленной печи можно будет в течении нескольких часов.
Кроме того, нам важно было оговорить всякие мелочи, типа размера арки загрузочного отверстия (устья печи), установки щитка, т. е. элемента печи, защищающего помещение от задымления, размеры площадок перед устьем, на которые устанавливаются хлебные формы или иная посуда, только что извлечённые из горнила или помещаемые туда (шесток), материала для топочных заслонок и т. д. Наконец, нам нужно было оговорить, как выложить дымовые трубы.
Я опасался, что разговор пройдет в духе «Ленин и печник», но произошло все довольно обыденно. Печник мой оказался довольно молодым парнем, но смышленым, все схватывающим на лету, поэтому уже через полтора часа все вопросы оказались решенными. Я дал приказ о выделении ему нужного количества людей и уже на следующий день работа закипела. Как бы в помощь ему, а, если честно сказать, то для надзора, я выделил Якова, который все больше и больше превращался в моего личного инженера (с соответствующей зарплатой). А тут и жернова подвези. В общем, через 10 дней мы уже осуществили пробный прогрев новых печей, а через две недели производство хлеба заработало в полном объеме.
Глава 6. Важные встречи
Наиболее благоприятное время для вторжения в земли славян – зима. Сезон предлагает множество преимуществ: замерзшие реки более не представляют препятствий, а противник не может спрятаться в густых зарослях и среди листвы. Снег также осложняет их передвижение, им становятся недоступны засады и стремительные налеты.
Стратегикон Маврикия. Книга XI, Глава 5. конец VI – начало VII вв.
Время визитов. Князь и посадник
Эти встречи, о которых я сейчас расскажу, имели для моего путешествия в ХIII век особое значение, поэтому я на них остановлюсь подробнее.
Вначале о встрече с новгородскими князем и посадником.
В Средневековом Новгороде в то время княжил Александр Ярославич, тот самый, что потом получил прозвание Невский. Я еще дома посмотрел, что родился он 13 мая 1221 г. в Переславле-Залесском, так что на момент нашей встречи было ему еще 16 лет. Формально его княжение началось в 1230 году, но фактически вместо него князем долгое время оставался его отец – Ярослав Всеволодович. Однако в 1236 году Ярослав Всеволодович стал киевским князем и союз Новгорода с ним утратил первоначальный смысл. От этого года (по летоисчислению ХХI века) и следует вести счет годам княжения Александра Ярославича. Для меня важно было одно, как непосредственный правитель он на момент нашей с ним встречи состоялся совсем недавно.
Молодой князь капризным новгородцам пришелся по душе. Сдержан в суждениях, обходителен, но, когда надо – суров. Не нарушает древних обычаев, вечевые решения неукоснительно выполняет, в меру набожен и строго соблюдает церковные обряды. Правда, на городское вече князь редко выбирается сам, но тогда уважительно отправляет на него своего «тысяцкого». Дружину он содержит в порядке, в пьянстве или паскудстве каком не замечен. Чего ж еще?
Размещался князь со своей дружиной (как и все приглашаемые в последние десятилетия Новгородом на правление князья) не в самом Новгороде, а за его пределами, в двух верстах от городской стены в древнем Городище. Дело в том, что горожане опасались того, что в возможных конфликтах с приглашенным князем тот может попытаться использовать в качестве «аргумента» свою военную силу. Поэтому и поселили его в пригороде, и дружина его была невелика. Так, Александру разрешалось привести с собой всего 300 воинов, по крайней мере именно столько их было взято Новгородом на полное «кормление».
Распорядок жизни князя ни для кого в Новгороде секретом не был. Вставал он, как и многие в те времена, довольно рано, до восхода солнца. С самого утра – встреча с управляющим по княжескому двору и осмотр боевых коней (о них он заботился особо). После завтрака приезжал посадник (неизменный Степан Твердиславич) с которым Александр Ярославич вплоть до обеда и решал спорные вопросы как бояр, так и горожан, а иногда и смердов. Таким образом, первая половина дня уходила на разрешение вопросов новгородских. После обеда князь занимался рассмотрением собственных хозяйственных дел, проводил смотр дружинников и руководил воинскими тренировками. Иногда он выезжал на охоту или рыбалку, но установленные для него правила охоты и рыболовства соблюдал. Если было ему определено охотиться не далее 60 верст вокруг Новгорода (и только на третью зиму иметь право отъезжать на охоту за диким зверем в окрестности города Руссы), то он так и делал.
В общении с князем существовал определенный этикет. Здороваясь с ним, кланялись низким (до земли) поклоном. Это был «большой обычай» (при «малом обычае» кланялись в пояс друзьям или родственникам). «Большой обычай» демонстрировал смирение и содержал элемент беззащитности, ведь склонившийся в таком поклоне человек не видит стоящего перед ним и его действий. При любом поклоне рука прижималась к сердцу, что означало чистоту намерений и сердечность, а потом опускалась к земле. Вообще движение от сердца к земле считалось чисто славянским, а жест от сердца к солнцу – инородным.
Здоровались славяне и за руку (но не с князем, конечно). В этом случае первым протягивал руку старший, который как бы приглашал тем самым младшего в свой круг. При этом кисть должна быть обнажённой. Иногда касания происходили не кистями рук, а окончанием предплечий (так часто приветствовали друг друга воины, чтобы убедиться, что у встречного человека нет оружия в рукаве и показать свою безоружность).
Аудиенция была мне назначена, в порядке исключения, на начало второй половины дня. И лишних глаз нет, и хозяева уже отобедали. Правда, по русскому обычаю после обеда полагалось вздремнуть, но видимо решили со мной встретиться вместо сна. Честно скажу, это решение для меня было не самым лучшим, ведь сбой в устоявшемся распорядке мог вызвать раздражение у собеседников, но решал не я. А может все дело в том, что от этой встречи много зависело, и я немного нервничал.
Но побаивался я напрасно. Формальная часть прошла как-то буднично. После обязательного приветствия и вручения «гостинцев», князь доброжелательно предложил мне (большая и неожиданная честь) сесть на скамью, мол, в ногах правды нет, а разговор предстоит долгий и атмосфера сразу стала деловой, что меня вполне устраивало. Подарки мои явно понравились. У посадника – Степана Твердиславича – даже лицо раскраснелось. Да и князь, сразу видно, тоже был доволен, но похоже больше даже не своему подарку рад, сколько дару для своей матери, княгини Феодосии. Что ж сказать, хороши подарки, да и, по тем временам, цены не малой.
Кроме князя в горнице был только посадник да у двери сели два невозмутимых (и довольно крепких) боярина княжеских. Один из них был высоким по местным меркам, но видно жилистым «детиной», а второй, наоборот, невысокий, но, если так можно выразиться – квадратным. У первого взгляд простоватый, по нему сразу видно надежного служаку, готового в любой момент не задумываясь исполнить любой княжеский приказ. А вот у второго в глазах спокойствие и холодный ум, но поглядывал он на меня недружелюбно и даже, я бы сказал, мрачно. При этом он непроизвольно, потирал своим толстым пальцем характерные мозоли на правой руке. Таких мозолей от сохи не бывает, от меча они и потому поведение «квадратного» немного напрягало.
После небольшой положенной прелюдии, князь сам решил перейти к делу:
– Ну, купец, о тебе мы наслышаны. О чем ты хотел поговорить с нами?
– Долгий путь проделал я, князь, добираясь до Новгорода. Много видел и много слышал я на этом пути. Хочу поделиться с вами этими сведениями.
– Это дело доброе. Слушаем тебя.
– Прежде всего, о том, что происходит на Севере и Западе от Новгорода. Год назад Папа объявил второй крестовый поход против Литвы. В Ливонию для ордена Меченосцев прибыло мощное подкрепление – 2000 саксонских рыцарей и 200 дружинников из Пскова. Однако в битве при Са́уле этот крестовый поход потерпел тяжелое поражение. Но, думаю, что вам это и без меня хорошо известно.
Князь кивнул, а Степан Твердиславович даже крякнул в подтверждение:
– Жемайты и земгалы объединились и накостыляли им хорошенько. Тут же восстали курши и селы…
Было невежливо с моей стороны, но я перебил его:
– Это привело к тому, что уже в этом году Ливонский и Тевтонский ордены объединились.
От меня не ускользнуло, что князь и посадник обменялись взглядами, но останавливаться и выяснять причины этого я не стал?
– Теперь это – очень сильный противник, который никогда не скрывал своих планов в отношении псковских и новгородских земель. Он уже начал вести переговоры со свеями и англами о совместном наступлении на Русь. Король свеев сам уже запросил благословение у римского папы на крестовый поход против Новгорода. Уверен, что он его получит.
Меня не перебивали, слушали внимательно, лишь покачивали головами. Поэтому я решил срочно добавить информации:
– Но битва при Сауле (о которой говорит уважаемый Степан Твердиславович) дала сильный толчок для появления еще одного противника – объединения племен, проживающих по берегам Варяжского (балтийского) моря. На них давят, и эта объединяющаяся Литва также начинает активизировать свою агрессию, теперь уже против русских земель. Если Владимиро-Суздальское княжество ослабнет, нужно ждать лыцарей в гости, прежде всего в Изборск и Псков. Думаю, что не отстанут от них и свеи (их еще там, откуда я прибыл, называют шведами), норманны (норвежцы), англы (датчане) и готы (готландцы). Уже сейчас датский король Вальдемар II и магистр объединённого ордена начинают договариваться о разделе Эстонии и военных действиях против новгородских земель с участием шведов. Еще не договорились, но, если обстановка хотя бы немного изменится в их пользу, такой договор не за горами.
– Мы внимательно наблюдаем за событиями в этих землях.
– А почему это Владимиро-Суздальское княжество должно ослабнуть?
– Не должно, но может ослабнуть. Дело в том, что есть еще один враг, он опаснее тех, о которых я сейчас говорил и которых вы и без меня хорошо знаете.
– Князья – соседи? – при этих словах князь встал со своего стула с высокой спинкой и заходил по комнате. Что поразило – его рост оказался ну никак не больше 165 см. Но сила и не малая в нем, несмотря на возраст и рост, уже чувствовалась.
– Нет, еще опаснее и намного сильнее.
– Говори.
– Еще в 1223 году появились на границах славянских княжеств первые отряды армии Чингисхана (их повелителя) – «народ неведомый». Одни называли их «монголами», другие «татарами», хотя это – два разных народа, но сегодня они воюют вместе. Татарами сегодня называют всех, кого монголы подчинили и чьих воинов включили в свое войско.
Не мог же я сказать «татаро-монголы», поскольку такое условное понятие было введено в научный оборот историком Петром Николаевичем Наумовым только в 1823 году. Поэтому не останавливаясь, я продолжил:
– До этого монголы завоевали огромные территории в сотни раз превышающие территорию русских княжеств, подчинили себе немыслимое количество народов. К сожалению, их военное превосходство над ними оказалась бесспорным. Сразу разобраться в причинах этого трудно. Одни говорят о талантах монгольских воевод, другие о маневренной тактике, которую осуществлять не трудно, поскольку у них все войско на конях, третьи говорят о жестокой дисциплине. Не знаю. Наверное, тут всего понемножку, но на протяжение многих лет (хотя монголами командовали разные, в том числе не всегда талантливые воеводы), но они неизменно побеждали. Победа была за ними и в столкновении с нашими воинами. Я имею ввиду битву на Калке в упомянутом 1223 г.
Князь с посадником переглянулись, но я сделал вид, что не заметил и этого и продолжил:
– Прошлой осенью огромная армия монголов (больше 10 туменов, а каждый тумен это 10000 человек) вторглась в (Волжскую) Булгарию. Если их и было меньше, то ненамного. Я думаю, здесь нет необходимости говорить о силе Волжской Булгарии. Чуть менее двух десятков лет назад они даже на нас нападали, захватывали Унжу и Устюг. Правда, в ответ ростовские, суздальские и муромские дружины под командой Святослава Всеволодовича (брата владимирского князя) захватили, разграбили, а потом сожгли их город Ошель. Конечно, с тех пор между Владимирским княжеством и государством болгар соблюдалось перемирие, но это больше взаимное признание силы друг друга. Напомню, что после победы на Калке монголы попытались пройти через земли волжских булгар и были наголову разбиты. Теперь же монголы расправились с этим государством как волк с ягненком. Они осадили и захватили главные города болгар – Биляр (последний эмир этого народа Абдуллах как раз погиб, обороняя его) Булгар, Сувар, Джукетау и множество других более мелких населенных пунктов и укреплений. Организованное сопротивление было подавлено, как обычно для монголов, с крайней жестокостью. От свирепых завоевателей болгары бежали к своим соседям. К мордве, суварам, башкортам. Часть булгарских беженцев была принята и владимирским князем Юрием Всеволодовичем, но это были, в основном не воины, а ремесленники. Кстати, оставшихся воинов покоренной Булгарии Батый (хан монгольский) включил в свое войско.
Этой весной Батый направит свой основной удар на Половецкие земли и земли других племен, расположенные в южной подбрюшине славянских земель. Думаю, что война затянется на все лето, но самый сильный половецкий хан, Юрий Кончакович, наверняка будет разбит, а половцы в своем большинстве будут покорены. Часть их уйдет в наши земли, но это будет ничтожная доля от населения этих земель. Тем самым монголы устранят одного из самых сильных возможных (в борьбе с монголами) наших союзников, но снова пополнят, теперь уже половецкими воинами, свои ряды. К осени монголы разберутся с мордвой и сосредоточат все войска (вместе с воинами покоренных народов) против Рязанского и Владимиро-Суздальского княжеств. Разбив их, Батый двинется на Новгород.
– Ну, многое из того, что ты сказал, не является для нас секретом. А вот скажи, почему так происходило, почему монголы смогли покорить столько народов?
– Я много думал об этом и скажу вам вот что. Прежде всего, монголы оказались вооружены оружием, которого у побежденных ими народов не было. Это – сложный лук со своими собственными конструктивными особенностями. Обладание им привело к полному изменению ими своих правил ведения боя. Это – кочевники, но не те кочевники, с которыми вы привыкли иметь дело. Они воюют по-другому.
– Но у нас тоже есть сложные луки?
– Да, есть. Но их мало, у них есть конструктивные недостатки, и они очень дороги. Главное то, что у нас их изготовляют иначе и в результате они, по своим размерам, значительно превышают монгольские, а также, пусть и ненамного, но уступают им в силе. Высота наших сложных луков достигает сажени. Они просто не могут применяться нашими всадниками и в основном используются при обороне городов, когда стрелять надо из-за стены. У монголов же лук значительно меньше. Это их основное оружие, а каждый из них – всадник. При этом меткость их стрельбы (даже на полном скаку) просто поразительна. Говорят, это связано с тем, что они пускают стрелу в тот момент, кода их кони в беге как бы находятся в воздухе, ну… не касаются копытами земли. Слышал, что они учатся этому с самого детства. Правда, думаю, что дело не только в этом. Просто короткие стремена позволяют им вставать на них при стрельбе из лука, при этом стрелец может (отчасти) стабилизировать качку и точнее целиться. Нашим это и в голову не приходит, ведь короткие стремена делают всадника неустойчивым в седле, особенно при ударе мечом, когда нужно опираться на стремя. Монголы это тоже понимают, но вот отказались от этого в пользу лука. Маленькая хитрость, а им вон как помогает.
Степан Твердиславич выпрямился, гордо осмотрелся по сторонам и заявил то, чего я больше всего и опасался.
– Лук, даже если он нанесет врагу большие потери, в конце концов ничего не решает. Победа всегда рождается в честном сражении, во чистом поле, при столкновении грудь в грудь, а в единоборстве нам трудно найти равных.
– Прости, Степан Твердиславич, но ты сильно ошибаешься. Монгольские воины неплохо дерутся на саблях, но они вовсе не думают о ратных единоборствах. Они уклоняются от ближнего боя и вначале сходятся с противником только на то расстояние, которое позволяет им безнаказанно расстреливать его из луков. Здесь они, не останавливаясь, создают круг из всадников и, не приближаясь к противнику, продолжая движение по кругу и мчась вдоль фронта противника, засыпают его тучей стрел, уничтожая, повторяю, его на расстоянии и не доводя дело до рукопашной. При этом иногда они могут менять направление движения, создавая видимую опасность атаки сразу на нескольких участках. Это заставляет врага нервничать и оставаться на месте.
Здесь я дал им время понять то, что я сказал. Дело в том, что в те времена любое сражение фактически представляло собой поединок один на один. Каждый выбирал себе противника (по силам) и бился с ним. Ближний бой и решал исход сражения.
Наконец, до Степана Твердиславича дошли мои слова:
– Но это…не честно…
– У нас с ними разные представления о чести и честности на войне. В чем-то мы считаем их бесчестными, в чем-то – они нас. По крайней мере, они не убивают парламентеров, как мы перед сражением на Калке…
Продолжать эту мысль я не стал и вернулся к монгольскому оружию:
– Так вот, тот самый «презренный лук», что и сегодня не берут в руки многие лыцари, играет важнейшую роль в нескончаемых победах монголов над своими противниками. Их стрелы легко пробивают кольчатую броню. Используя силу своих луков, они посылают стрелы дальше луков врага, и это позволяет им выигрывать бой, не неся существенных потерь за счет того, что они просто держат противника на нужном им расстоянии. Мало того, они знают, что если выпустить стрелу на скаку, то ей придается дополнительно скорость лошади. При этом дальность выстрела еще увеличивается примерно на треть. Это они тоже используют. Отсюда и построение в виде круга, о котором я уже говорил. Причем такое уклонение от ближнего боя и обстрел издалека, если надо, может продолжаться несколько дней. Кроме нанесения прямых потерь, это сковывает противника в его передвижении, а воины, попадая под дождь стрел, теряют боевой дух.
– А как у них со стрелами?
– У каждого воина 60-100 стрел. Но у них много воинов. Их стрелы длиннее наших на четыре пальца, с железными, костяными и роговыми сильно заостренными наконечниками. Основание стрел настолько узкое, что едва ли подходит к тетиве наших луков. Но дело в том, что, в отличие от наших ратников, лук и стрелы имеют практически все в монгольском войске. Поэтому в этом они постоянно имеют подавляющее преимущество.
Здесь посадник снова перебил меня:
– Но у противника тоже может быть конница, и она нападет на этих, как их там, монголов. Придется им вступить в схватку, а там и пешцы подтянутся…
Я нечто похожее ожидал. Прежний опыт борьбы славян с кочевниками говорил об одном: в отличие, скажем от хазарских или половецких орд, которые были сильны во внезапных набегах, русские дружины постоянно получали над ними преимущество именно в открытом бою. Конница кочевников разбивалась о длинные копья и щиты русских пеших воинов, а свежая, не участвующая в начале сражения русская конница, окружала степняков и не давала им удрать на их утомленных в битве конях.
– Дело в том, уважаемый Степан Твердиславич, что, во-первых, нужного количества конных воинов у нас (и вы это знаете) нет. Во-вторых, монголы просто убегут, поскольку убегать от врага они не стыдятся. И не стыдятся потому, что используют свой побег как военную хитрость. Они даже делают все возможное, чтобы за ними погнались. Если противник упорно стоит на своих позициях, то монголы даже могут послать на него свой полк «мэнгэдэй» (в переводе с монгольского – «принадлежащие богу»). Эти люди заранее простились со своей жизнью. Их задача – завязать бой с обороняющимся врагом, взять, сколько смогут, их жизней и после потери, как правило, значительной части своих воинов, броситься в бегство. Притворное бегство. Особенно хорошо, если им удается увлечь за собой в погоню именно конницу. Дело в том, что когда монголы уходят от такой погони, то на скаку они просто расстреливают преследователей из луков, причем бьют не только людей, но и лошадей. У них даже специальные наконечники стрел для этого есть: срезни вот такой длины, считай в 4 вершка, да шириной пера с вершок. Это тяжелые стрелы, и они обладают огромной убойной силой. Ими лошадей и убивают.
– Не может этого быть. Лошадей-то за что?
– У них свои понятия. В отличие от нас лошадей противника они в бою не жалеют. Да и после боя… ведь для них нет ничего вкуснее конины.
– Конины? – посадник выпучил на меня глаза, – не может быть! Да разве ж можно конину есть, друга своего… У нас конину если кто есть и будет, так только с крайней голодухи, когда смерть голодная прямо в глаза тебе смотрит. Хуже конины – только человечина… Вот нелюди-то. Неужто, правда? Надо же, конину едят!
Его причитания я слушать не стал:
– Но хитрость даже не в том, чтобы расстрелять вражеских коней и людей. Монголы подставляют погоню под заранее подготовленную засаду. Засадный полк сильно прореживает преследователей из тех же луков, а затем, когда те смешаются, нападают на них. К этому времени, и убегавшие монголы, видя, что перевес на их стороне, тут же разворачивают своих коней и переходят в контратаку, т. е. тоже нападают на преследователей, причем нападают храбро. А когда посекут конницу, то возвращаются к недобитой пехоте. Иногда «на плечах» немногочисленных убегающих от них всадников.
– Ну, нашу пехоту так просто не возьмешь…
– Стоять под градом стрел может только хорошо защищенный и дисциплинированный воин. С защитой от монгольских луков у нас, как и всех их прежних противников – просто плохо. Сквозь кольчугу бьют тонкими и закаленными наконечниками. Нет щита – с 20–30 сажень их стрелы пробивают любой другой наш доспех. А с дисциплиной, тут как. Основу наших ратей составляют не профессиональные воины, а ополчение. Возьмите, к примеру, войско, что может выставить Новгород. В него войдет дружина приглашенного в Новгород князя, – мой поклон в сторону Александра, – дружина боевая, сплоченная, но … не многочисленная. Не спрашиваю, сколько у тебя, княже, своих воинов, но никак не больше 400, а может и того меньше. Весь Новгород знает, что денег тебе выделено только на три сотни. Прибавим дружину владыки. По своим боевым качествам она может быть дружине княжеской и не уступит, – но, заметив движение со стороны Александра, тут же поправился, – в чем лично я очень сомневаюсь, но по числу своему в сравнение точно не идет. От силы – сотня или полторы. Потом – гриди, т. е. гарнизон новгородский, подчиненный уважаемому Степану Твердиславичу, – мой поклон посаднику. По своим боевым качествам, прости уж, Степан Твердиславич, они дружинникам княжеским неровня.
– Задачи у них другие. Да и по домам живут, а это расхолаживает. Но гарнизон (в большей своей части) все равно должен будет остаться в Новгороде.
– Тем более. Есть еще воины на службе бояр и богатых купцов, но их хорошо привлекать в обороне города, когда враг у его стен, но в военный поход их не позовешь. Что остается – кончанские полки (создаваемые каждым «концом»), ополчения посадов и дружины «повольников» (то есть тех же наемников). Вот эти и будут составлять главную часть воинства. Держать оружие в руках они умеют и в индивидуальном единоборстве могут поучаствовать, но они не научены совместным действиям, имеют слабое представление о будущем противнике и, главное, о строгом и неуклонном исполнении приказа. Там, откуда я прибыл, это называется дисциплиной. У каждого из них – свой командир, который, когда все хорошо, подчиняется вышестоящему начальнику, а если ему показалось, что дело плохо, то может и подвести.
Я сделал паузу, меня не прерывали.
– Вот и получается. Войско может быть достаточно многочисленно, мало того, у него может быть высок и моральный дух (особенно когда существует прямая угроза твоему дому, семье, имуществу), но в боевой обстановке оно не успевает сплотиться настолько, чтобы противостоять монголам. А тут – град стрел, которые неожиданно легко пробивают даже железную защиту. Вокруг смерть и сплошные потери и не видно никакой возможности добраться до врага и отомстить ему. Что может быть хуже для воина, чем ощущение беззащитности и беспомощности? Командиры и те, сразу видно, не знают, что делать…Трудно устоять даже дружинникам, а ополчение в этой ситуации вообще становится… «плохо управляемым». Да что я вам рассказываю, сами все знаете.
– Ну, о подобной тактике мы уже слышали, – подал голос Александр.
– Новые луки позволили им применять эту старую тактику с большим успехом.
Посадник только покачал головой и мрачно спросил:
– Что ж эти монголы-то только стрелами и воюют?
– Нет, когда они видят, что враг дрогнул, противник сильно изранен и исход сражения фактически решен, они переходят в ближний бой. Но в атаку идет не та конница, что имеет легкое вооружение и практически, кроме шлемов, не имеет брони. Не удивляйтесь, броня все равно не может защитить от стрел, выпущенных из сложного лука, но при этом сильно стесняет движение и влияет на скорострельность, вот от нее многие монголы сами и отказались. Так вот, эту последнюю атаку проводят воины сплошь в тяжелой броне, которую, говорят, не берут стрелы врага. Особенно, если у него простые луки. Против этих монгольских воинов не каждая пехота выстоит, особенно, если у нее нет длинных копий, хорошей защиты и нужной глубины строя. Хорошо, что у монголов такая конница пока не многочисленна, но она есть и они постоянно работают над ее усилением. Обычно она легко прорывает боевые порядки пехоты и начинается самое страшное – рубка бегущих, за которыми вновь устремляется легкая кавалерия. Пощады нет никому. Сами знаете, именно в этот период битвы гибнет больше всего народу. Монголы хмелеют от вида крови, их не остановить, а пешцам – не убежать. Там, где еще оказывается сопротивление, победители сразу создают значительное превосходство в силах и стрелами, копьями, саблями и арканами (такими веревками с петлей, что набрасывают на противника) быстро заканчивают битву. Ну а потом – добивают раненых, вырезают из мертвых тел свои стрелы, забирают все, что можно унести, иногда оставляя на поле только голые трупы. Вот так они побеждали во многих битвах и покоряли многие народы.
– Так что же, нет на них управы?
– Управу найти можно. Первое – не надо выходить против них во чисто поле для славной сечи. Не надо, пока у самих не будет сравнимой с ними численности, хорошей конницы, как легкой, так и тяжелой, таких же луков, как у монголов, и хороший доспехов, способных противостоять их стрелам.
– Значит, запереться за городскими стенами и смотреть, как враг разоряет все вокруг?








