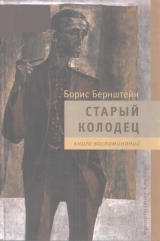
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
«В 1921 году очень остро стоял вопрос с обувью. Кожаная обувь вышла из употребления из‑за отсутствия материалов. Широкое распространение получили так называемые „стукалки“. Они представляли собой нечто вроде сандалий, состоявших из деревянной подошвы, передняя часть которой крепилась к главной на шарнирах (петлях), что позволяло ей следовать за изгибом ноги в пальцах. Стукалки имели задник из картона или жести и прикреплялись к ноге ремешками. „Обувь" эта одевалась на босую ногу. Была в употреблении более элегантная обувь, состоявшая из матерчатого верха, картонной стельки и подшитой к ней веревочной подошвы.
Процесс изготовления такой обуви был весьма несложен. Это давало возможность занять производительным трудом 10–15 девушек из нашего коллектива.
…В первую очередь заказчиками были сами члены нашего коллектива. Производство полностью себя оправдало. Чуть не все сотрудники и сотрудницы близлежащих детских учреждений стали щеголять в обуви нашего производства.
Трудно теперь вспомнить, какую плату мы брали за изготовление пары обуви, но, помнится, мы были довольны доходами мастерской».
Назовем это, прижмурив один глаз, сапожным делом. Позднее в Еврабмоле была создана настоящая сапожная мастерская, настоящая швейная мастерская, столярная – мебельная, плотничья, основные специальности металлообработки – вплоть до литейной!
Соль, однако, в том, что тогда, на Аркадийской дороге, девушек заняли производительным трудом.
Вот словосочетание, которое можно встретить на страницах «Очерка» десятки раз. То, что казалось самому отцу наиболее существенным в педагогической и воспитательной программе Еврабмола, было «соединение обучения с производительным трудом».Не исключено, что этот синтез был для него не менее – если не более – важен, чем самоуправление.
На самом деле, я думаю, оба принципа взаимно порождали и питали друг друга.
Конечно, тогда все были извещены, что владыкой мира будет труд, что труд создал человека; чуть позднее стала популярной трудовая – или хотя бы «трудмагическая» – теория происхождения искусства. Если же отвлечься от всемирно – исторических измерений, можно вспомнить, что еврабмольца надо было выпустить из стен школы с ремеслом в руках. Но не в том соль. «Производственным специальностям», если мне не изменяет память, обучали в наши времена РУ и ПТУ – учебные заведения, чьи воспитанники («пэтэушники») в воображении обывателя рисовались не иначе как малолетними преступниками, уже готовыми или потенциальными. Впрочем, сознание отражало бытие.
В Еврабмоле ученики производили всерьез полезные и кому– то реально нужные вещи, за качество которых они должны были отвечать. То, что они делали, не было учебными макетами, это были изделия, обладавшие – выразимся экономически, черт возьми! – потребительной стоимостью, а затем – стоимостью и ценой. Еврабмол находил заказчиков и добросовестно выполнял заказы. И за этот труд платили. Еврабмольцы зарабатывали.
Еврабмол зарабатывал на Еврабмол.
Все это значит, что Еврабмол был экономически независим. Когда материальное самостояние соединяется с самоуправлением, то принцип «производительного труда» получает важнейший, глубинный смысл. Эти ребята могли быть уверенными в себе, они не только сами организуются, сами решают и сами отвечают – они сами обеспечивают свою независимость и волю. В 1930 году, перед уходом отца из Еврабмола, там наработали продукции на полтора миллиона тогдашних рублей. Поверьте, это много. Может быть, слишком много.
* * *
* * *
К зиме 1922 года Моисей Борисович перестал быть «старшим товарищем» и «помощником», он был сделан заведующим. Этому предшествовали события, которые тут можно только перечислить.
«Коллектив» был организован на одно лето – до 10 сентября 1921 года никто не мог его покинуть. Но лето скоротечно даже в Одессе, сентябрь приближался, а вместе с ним – новый критический поворот в истории школы. К концу лета коллектив настолько конституировался, что о его роспуске не могло быть и речи, тем более что не одним огородничеством он был жив: ребята научились строить, плотничать, слесарничать, шить, сапожничать. Решено было коллектив сохранить и перебраться в город. Удалось получить помещения бывшего Еврейского казенного училища на углу Пушкинской и Бебеля и приспособить его для нужд учебного заведения, не имевшего даже определенного названия.
Школа, самоуправляемое сообщество подростков и инструкторов, мастерские и бригады владеющих ремеслом ребят, зарабатывавших на жизнь и обеспечение всех нужд коллектива… Литинское пополнение давно ассимилировалось, а новые нуждающиеся все приходили и приходили – погромы, голод, эпидемии поставляли «контингенты», которым нужно было помогать немедленно.
«На почве недоедания, холода, голода, наплыва беженцев, мешочничества, грязи в Одессе распространилась эпидемия брюшного и, особенно, сыпного тифа. Эпидемия беспощадно косила людей, целые семьи вымирали и подолгу оставались в своих жилищах, так как некому было хоронить покойников. Если не вся семья вымирала, то оставшиеся в живых выволакивали покойников из квартиры на улицу и оставляли прямо на тротуаре, а по утрам их подбирали и отвозили на кладбище специальные площадки [5]5
«Площадками» тогда в Одессе называли конные транспортные средства для перевозки грузов – плоские, прямоугольные телеги с невысокими бортами.
[Закрыть]– там трупы штабелями складывали в общую могилу… Бывало и так, что смерть, поразив взрослых членов семьи, обходила ребенка или подростка, и он чудом оставался в живых. Тогда кто‑нибудь из соседей сообщал соответствующим организациям об оставшихся сиротах для определения их в интернаты. Многие осиротевшие подростки сами предпринимали попытки найти для себя убежище и, узнав про наш Коллектив, являлись прямо к нам, требуя приюта. Был период, когда почти каждое утро мы у входных дверей обнаруживали подростков со знакомым зелено – желтым цветом лица. Тут было уже не до „порядка“: тут нужна была немедленная помощь, и мы стали в меру наших возможностей оказывать ее».
Среди многих последствий роста «Коллектива» было и то, что помещения бывшего казенного училища оказались переполнены сверх всякой меры, и тогда – не без борьбы и уловок – была отвоевана большая часть дома, построенного архитектором Прохаской. Туда, на Бебеля, 12, вселился весной 1922 года уже не безымянный «Коллектив», но I – й Дом еврейской рабочей молодежи имени Октябрьской революции, учебное заведение в системе отдела профессионального образования Одесского наробраза. Это был триумф, и здесь была скрыта угроза.
«Трудно описать восхищение и восторг, охватившие наших ребят, когда мы впервые ввели их для осмотра нового жилища. Эти просторные, полные света и воздуха комнаты, эти залы с колоннами, паркетные полы, люстры, ванная со стенами, выложенными изразцами, и полом, выложенным кафельными плитками, с мраморной ванной, с зеркалом во всю стену, – показалась царскими чертогами им, всю жизнь ютившимся в жалких каморках – клетушках, сырых и темных подвалах Молдаванки или в убогих хатенках грязных местечек. По много раз сбегали они по лестнице и подымались вверх, обегали все комнаты, заглядывали во все углы, веселились, радовались и были счастливы; на них глядя, радовались и мы. А маленькая Лида Махлин вдруг подбежала ко мне, прильнула и, вскрикнув: „Ой, Моисей Борисович!“ – заплакала».
Так прогрессивные архитектурные традиции Ренессанса внесли свою лепту в судьбу еврейских тинэйджеров в Одессе начала 1920–х годов.
Но тот же 1922 год принес новую меру интеграции школы в систему.
«До перехода в ведение Наробраза мы были „вольные казаки", никому не подчинялись, ни от кого не зависели… Мы были самоуправляющейся единицей, полные хозяева своей жизни. С переходом в ведение Наробраза дело изменилось: наш коллектив стал УЧРЕЖДЕНИЕМ, государственным учреждением; я – ответственный руководитель „ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ", подчиненный в своих действиях „вышестоящей" организации(вот оно! словно раньше был безответственный! – Б. Б.) и ее руководителям, большим и маленьким, а члены коллектива – стали воспитанниками, моими и моих руководителей. Прежде всего это коснулось канцелярско – бюрократической и учетно – отчетной стороны дела. Я начал получать разные „бумаги" (вызовы на заседания, совещания), инструкции, предложения „в порядке боевого приказа" и т. д.; наш завхоз, который был приглашен в качестве инструктора и помощника членам хозяйственной комиссии(самоуправления. – Б. Б.) в организации нашего быта и, главным образом, питания, завхоз этот превратился в материально – ответственное лицо и мог, ссылаясь на инструкции, вводить свои порядки, рационы и т. п. и тем самым ограничить роль членов комиссии. Это и еще многое другое(! – Б. Б.) грозило совсем свести на нет роль нашего самоуправления, весь дух самостоятельности, инициативы и ответственности, царившие в коллективе, стимулировавшие его на преодоление различных трудностей и составлявшие, так сказать, его „изюминку". Как сохранить этот „дух", эти устоявшиеся традиции, как их сочетать с новыми сложившимися условиями? На первых порах нам помог, чувствительно смягчая его остроту, тот беспорядок, та несусветная административно – управленческая неразбериха, которая царила во всех углах и закоулках Наробраза. Искусно лавируя в лабиринте разноречивых директив, указаний и пр., мы продолжали жить по нашему укладу, стараясь выиграть время, чтобы приспособиться к новым условиям».
Погодите, вскоре соперником самоуправления станет молодая и агрессивная комсомольская организация, а за нею и партийная. Кстати: из 310 стандартных машинописных страниц «Очерка» глава «Партийная организация» занимает две с половиной. Комментировать эту сдержанность нет смысла.
Впрочем, подлинная катастрофа Еврабмола началась не с учреждения партийной организации, не с ревизии учебных планов, программ или даже педагогических стратегий. Она – совершенно по – марксистски и материалистически – началась с экономики: школу передали какому‑то тресту металлообработки, а тот стал превращать ее в «производственное предприятие». Очень просто. Самодостаточное единство самоуправления и материального суверенитета, немыслимое и нестерпимое для власти, было взорвано.
В моем изложении трагические интонации начинают, кажется, брать верх. Это деформация.
Включенный в начале 1920–х годов в становящуюся систему, Еврабмол неизбежно терял некоторую долю своей уникальности, но не был полностью интегрирован. Он сохранил существенную часть первоначальной созидательной свободы. Впереди были счастливые годы педагогических импровизаций и человеческих радостей. В двадцатые годы слава Еврабмола гремела по всей Украине. Еврейские мальчишки и девчонки из дальних углов каким‑то чудом добирались до Одессы и обивали пороги городского наробраза до тех пор, пока не выпрашивали «направление», подкрепленное личным звонком Моисею Борисовичу должностного лица. И становились еврабмольцами.
«Как мы творили, Моисей Борисович, как мы творили!» – воскликнула в одном из поздних писем отцу Енета Семеновна Гликсберг. Почти полтора десятилетия блистательного творчества, сотни выпрямленных подростковых судеб – совсем немало.
Не буду дальше пересказывать – там, в «Очерке», все есть.
* * *
На старости я сызнова живу.
Минувшее проходит предо мною…
Отец помнил добрую половину «Бориса Годунова» наизусть, возможно, эти строки он не раз повторял про себя, вспоминая, восстанавливая, записывая концепцию и историю Еврабмола.
Увы – тогда это мало кого интересовало. Практически законченный, отредактированный текст очерка «На заре» остался у меня. Я понимал, что в семидесятые годы XX века в Советском Союзе его никто полностью не опубликует. Но хоть часть, хоть что‑нибудь. Отобрав некоторые существенные и драматургически выстроенные самой историей эпизоды, я перепечатал их набело и привез в Москву, в редакцию журнала «Советише Геймланд». Редактор Вергелис жил в горних пространствах, но секретарь редакции Бейдер меня обнадежил. Из месяцев получались годы, когда я еще раз навестил редакцию, за столом секретаря сидел другой человек, молодой и излучавший энергию. Он считал, что публиковать воспоминания надо обязательно. Правда, есть технические трудности: некому перевести текст на идиш. Но он будет об этом думать.
Так и осталось.
Недавно в местной (я имею в виду Соединенные Штаты Америки) русской прессе промелькнуло сообщение, что господин Бейдер живет в здешних палестинах. Вряд ли он может что– нибудь сказать о судьбе фрагментов, захороненных среди вековых редакционных отложений.
В минувшем году я передал текст «Очерка», бумаги, документы, фотографии Моисея Бернштейна в Нью – Йорк, в архив Института еврейских исследований (YIVO Institute for Jewish Research),где он будет доступен для ознакомления и изучения.
А там – кто знает, может быть, найдется, кто отряхнет от хартий пыль веков.
* * *
Сегодня, 28 июля 1997 года, в городе Пало Алто, штат Калифорния, в обществе, где не все были знакомы между собой, немолодой мужчина обратился ко мне. Он сказал с долей смущения: извините, скажите, пожалуйста, имя Моисея Борисовича Бернштейна вам ничего не говорит?
Михаил Абрамович Биберман потерял отца еще в 1920 году, а когда в 1927–м умерла его мать, осталось трое сирот. Дядя, брат матери, замечательный детский еврейский поэт Лев Квитко, убитый впоследствии Сталиным, определил младших сестер в харьковский детский дом, а Михаила – через одесский наробраз – в Еврабмол.
Семьдесят лет миновало.
Он услышал, как назвали мою фамилию, и ему показалось, что я похож на Моисея Борисовича.
Такой подарок. Только ни отцу, на которого я стал похож, ни учителям и выученикам Еврабмола об этом уже не рассказать.
В школе Столярского
Было в моем отрочестве недолгое время, когда на вопрос, где я учусь, я отвечал, что учусь в таком‑то учебном заведении, и это название неизменно провоцировало стандартный ответ: «А, в школе именимене».
«Именимене»в устах одессита означало: Музыкальная школа – десятилетка имени профессора П. С. Столярского при Одесской Государственной Консерватории. Школа была имени живого, совершенно живого, талантливого и полного энергии человека, он сам и был ее художественным руководителем. Такое в тридцатые годы прошлого века никого не смущало: в стране Советов городам, весям, заводам и фабрикам, колхозам, совхозам, улицам и площадям, университетам и детским садам предпочитали присваивать имена живых людей, ушедшим доставались немногие недопереименованные остатки.
В Одессе словесный блок «имени профессора П. С. Столярского» упростили. По городу ходила легенда, будто профессор, хорошо владевший идиоматикой одесско – русско – еврейской речи и не знавший, как справиться с длинным названием руководимой им школы, решал проблему прямолинейно. Домашним он якобы сообщал без затей: «Иду в школу имени мене». Насколько легенда отвечала историческим реалиям, значения не имеет, ибо достоверней мифов ничего нет – вся Одесса знала, что великий Столярский выражался именно так.
А школа его имени была замечательная.
В этом году ей исполнилось 70 лет. То есть, она была основана в 1933 году.
Синхронное зрение придает истории некоторую объемность. В том году Гитлер стал германским канцлером, Сталин только недавно наказал Украину чудовищным голодом, а тем временем для музыкально одаренных детей города Одессы открыли специальную школу. Каждое из этих событий имело далеко идущие последствия, отчасти переплетенные между собой: одни – для всего мира, другие – для успехов колхозного движения, третьи – для судеб одесских детишек. Некоторым из них суждено было стать большими музыкантами. Отдельный интерес для повествователя представляет тот частный факт, что в новооткрытую школу поступила девочка по имени Фрида Приблуда, с Большой Арнаутской. Хаотическая мозаика событий и поступков задним числом выстраивается в ясную логику причин и следствий. Что Фрида станет прекрасным музыкантом, мастером – ну, на это еще можно было надеяться, но другое судьбоносное следствие ее поступления предвидеть было невозможно. Спустя шесть лет в эту же школу поступил некий одесский мальчик, который стал впоследствии ее мужем и остается им до сих пор, он сейчас пишет эти строки. Собственно, о школе должна была бы написать она, свидетель с самого начала. Но она не любит писать. Она поможет мне вспомнить.
Петра Соломоновича Столярского мы за глаза звали запросто – Пиней. Не знаю, как другие, а я боялся его смертельно – с той самой минуты, как я пришел на вступительный экзамен, сел за инструмент, а Пиня, стоя прямо надо мной и опираясь локтем на угол рояля, велел мне сыграть самую отвратительную из минорных гамм – ту, где на самом верху надо было подменить палец. Я на роковом месте, разумеется, споткнулся, даже не потому, что не знал, как это делается, а от страха.
Он был невысокого роста, длинные, совершенно белые, но помнившие о рыжине волосы он стриг «под горшок» – а может, в те времена это считалось артистической стрижкой, не знаю. Сильные очки бликовали, скрывая глаза. Я плохо понимаю, как он все успевал. У него был свой класс в консерватории. У него был свой класс в школе, туда были взяты самые яркие: Артур Зиссерман, Миша Унтерберг, Рафа Брилиант, Сарра Грунтваге, Мира Фурер, Нюся Пелех… (я, естественно, вспоминаю ребят нашего поколения). Его ассистенты (которыми он руководил) занимались с другими – там тоже мерцали, как окажется, будущие звезды: Миша Вайман, Оля Каверзнева, Эдик Грач, Дина Шнейдерман, Роза Файн… Кроме того, Пиня руководил школьным симфоническим оркестром, был его воспитателем и дирижером. Кроме того – перед концертным выступлением (а мы были обязаны выступать на публичных ученических концертах по нескольку раз в год, концерты происходили еженедельно!) Столярский прослушивал всех: ни один ученик, начиная от крох – виртуозов первоклассников и кончая старшими артистами, не мог выступить прежде, чем было получено добро художественного руководителя школы. Всего учеников было человек 200–250, значит – по меньшей мере 500 раз в течение учебного года он слушал чужих учеников, потом он слушал их на концертах, и это – не считая вступительных и переходных экзаменов!
Однажды весной он неожиданно вошел в наш класс во время урока физики. Важно отметить, что старшие классы располагались на самом верху, на четвертом этаже. Дверь открылась, на пороге стоял сам Столярский, учитель физики, блистательный Александр Григорьевич Брахман, несколько смешался, мы вскочили, как полагается, с большим грохотом, Столярский сделал знак, чтобы мы сели, и тихо прошел на заднюю парту. Тут была какая‑то загадка, интрига: Пиня и физика в нашем сознании никак не связывались друг с другом. Урок продолжался, а когда раздался звонок, художественный руководитель знаменитой школы своего имени подошел к столу учителя и сказал нам короткую речь.
– Дети, – сказал Пиня, – приближаются весенние каникулы. Так вот, имейте в виду, надо будет играть каждый день. Потому что если день не поиграешь, за два не догонишь. Это закон физике. Вот ви учите физике, так знайте, это закон физике!
И для этого он забрался на четвертый этаж и терпеливо просидел половину урока!
Он был окружен славой. К тому времени имена его учеников гремели: Натан Мильштейн, Самуил Фурер, Давид Ойстрах, Наум Бронфман, Лиза Гилельс, Миша Фихтенгольц, Борис и Михаил Гольдштейны… Казалось, что он способен превращать детей в лауреатов, как фригийский царь Мидас превращал все в золото – одним своим прикосновением. И одесские мамы приводили к нему все новых ушастых мальчиков и девочек со скрипочками, а после прослушивания спрашивали замирающим голосом – ну, как мой ребенок? Еще одна легенда из бесконечной одесской Петриады: ах, говорил Столярский, ничего особенного, обыкновенный гениальный ребенок…
Глядя из будущего, я должен признать, что был, видимо, на редкость обыкновенным гениальным ребенком и попал в школу поздно, в восьмой класс, в 1939 году. А год был, как мы помним, не рядовой. В конце августа был подписан пакт Молотова – Риббентропа, нацистская Германия напала на Польшу, начав тем самым вторую мировую войну, в сентябре в обреченную Польшу с тыла вторглись советские войска, поделив страну с Гитлером; на картах, опубликованных в газетах, мы увидели новые границы страны социализма, а за ними на запад простиралось неопределенное пространство, на котором было написано: «Область государственных интересов Германии». Из чего можно было понять, что там у Германии просто свои государственные интересы, ничего особенного. Мы же протянули руку помощи братьям из Западной Украины и Западной Белоруссии, освободив их от невыносимого гнета. Одесские остроумцы дополнили официальную версию: «Мы протянули им руку помощи, чтобы они надели на нее часы». Наручные часы и вправду были вознаграждением освободителям, вожделенным и справедливым вместе.
В истории школы Столярского это тоже был переломный год.
Первые несколько лет школа была только музыкальной, общее образование ученики получали в разных городских школах. В том году было закончено постройкой специальное здание, спроектированное группой архитекторов под руководством Ф. Троупянского, – неподалеку от Сабанеева моста, наискосок от Дома ученых. Там все слилось – музыкальные и общеобразовательные дисциплины были сведены в одно учебное заведение.
Новый дом бы удобен и великолепен, все вместе.
Тогда я не очень понимал, какой интерес он будет представлять для будущего историка советской архитектуры; теперь мне виднее. Проект был выполнен тогда, когда конструктивизм и функционализм, справлявшие свои оргии в архитектуре 20–х и начала 30–х годов, получили суровый отпор свыше: оказалось, что их концепции не отвечают основным принципам социалистического реализма в архитектуре. Возвращение к классическим традициям набирало силу, спустя десяток лет каждая захудалая железнодорожная станция будет похожа по меньшей мере на захаровское Адмиралтейство, а украсившие Москву высотные здания будут похожи уж и вовсе неизвестно на что. Фольклорная мудрость окрестит этот стиль «ампиром во время чумы».
Ну так вот, дом школы Столярского возник на переломе архитектурных эпох, и эта переходность отразилась на его лице. Главный фасад школы предлагал глазу соблазнительную игру симметрии и асимметрии. Мощный ризалит – портал в центре имитировал гигантскую, на три с лишком этажа, триумфальную арку, декорированную коринфскими колоннами. Ему отвечали два узких ризалита по углам. Первый, вернее – цокольный этаж, как бы сдавленный тяжестью верхних этажей, был покрыт рустикой, намекающий на мощь цоколя; окна следующего этажа, по всем классическим правилам, дышали свободней на фоне гладкой стены, а декор окон третьего этажа был максимально облегчен. Но это все происходило на левом крыле здания, если стоять к нему лицом. А на правом – второй и третий этажи образовали некое целое, о чем сигнализировали огромные, на два этажа, окна с арочным завершением. Если же зайти несколько сбоку, справа, то там первый этаж закругляла великолепная полуротонда, украшенная теми же коринфскими колоннами соответствующего размера.
Конечно, тут архитектура заговорила старинным языком символических форм: общая композиция несла на себе отпечаток классической гармонии, а господствующая надо всем триумфальная арка прямо указывала на минувшие и еще более – на будущие триумфы советской музыкальной культуры. Зато асимметрия окон не менее внятно говорила о функции: за большими окнами правого крыла находился просторный, высокий концертный зал, а полуротонда облекала единственный в своем роде дворцовый класс самого Столярского.
Внутри все было рационально, удобно и торжественно вместе. От просторного вестибюля расходились два коридора первого этажа, в левом размещалась дирекция, учебная часть и всякое такое, а в торце – класс Столярского. Это был красивый и интимный зал, внутри он оказывался полной ротондой. Окна полуротонды веером раскрывались на спуск, мост, а за мостом – гавань и море. На сцене стоял очень хороший рояль. Пол был покрыт огромным ковром серо – сиренево – голубого цвета – в Одессе с ее французской наследственностью такой цвет назывался «перванш» – перед сценой, по стенам была расставлена музейная мебель и главное кресло, в котором сидел сам профессор.
Если вернуться в вестибюль, то в центре его поднималась парадная лестница; там, где она разбегалась на два марша, мир отражало огромное зеркало во всю стену. Такие же зеркала были между другими этажами. Перед залом было просторное фойе, где находился и школьный буфет, очень приличный по тем временам. В фойе можно было посидеть и поболтать после уроков, там бывали ученические вечера, там же вывешивали школьную стенгазету, в которой старшеклассники демонстрировали народу свое остроумие. В одной из них, помню, было напечатано расписание радиопередач, начало было такое:
«6.00. Передача для грудных младенцев. У погремушек – Зингер». Марк Зингер, профессор, доктор искусствоведения, сейчас обучает скрипачей в Чикаго.
Зал был хорош: высокий, светлый, с хорошей акустикой и с разумными деталями; артистическая была в первом этаже, это был класс Столярского, оттуда на сцену вела крутая лестница: перед выступлением можно было разыграть руки, не мешая концерту, наверху ничего не было слышно. В зале постоянно звучала музыка, много музыки. Там все репетировали перед концертами, а ученические концерты, как я сказал, бывали каждую неделю. Там Столярский работал со школьным симфоническим оркестром. Наконец – что самое замечательное – бывшие выученики наших профессоров, тогда уже известные музыканты, приезжая в Одессу, непременно приходили в школу и играли для нас, щедро, прямо днем, после уроков: Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Яков Зак…
После концерта Зака его учительница, профессор Старкова, крупная, грузная женщина, поднялась на сцену и под наши аплодисменты обнялась и расцеловалась со своим блистательным учеником. Вслед за нею на сцену поднялся и сам Петр Соломонович. Он тоже расцеловал пианиста, а после повернулся к залу и воскликнул:
– Дети! Ви видите, чего достиг ваш товарищ! Он занимался, и он этого достиг. Дети! Я вас призываю преследовать его примеру!
Столярский ни на минуту не забывал о своей воспитательной миссии. Надо заниматься, дети, надо заниматься!
И мы занимались.
У нас было несколько прекрасных учителей по общеобразовательной части. Завуч по наукам Яков Рымалис, заглядывая в конспект, очень логично излагал нам экономическую географию; он обладал умением, которое нас приводило в восторг, – не оглядываясь попадать указкой в нужное место на карте! Мы его побаивались, даже называли «Яков Грозный», но в общем отношения были хорошие. На каком‑то ученическом вечере наша одноклассница Песя Папиашвили, игриво заглядывая завучу в глаза, спела специально для него переиначенную песенку:
Яша, ты помнишь наши встречи В приморском парке, на берегу…
Грозный не обиделся. Характер небольшой привилегированной школы располагал к некоторой патриархальности.
Прекрасным, увлеченным учителем русского и литературы был Василий Дзедзинский – вместо того, чтобы терзать нас классовым анализом и разбирать положительных и отрицательных героев, он приучал нас к ощущению живого слова: мог стать среди класса и великолепно, артистично прочесть наизусть «Песню о купце Калашникове». Химию нам преподавала моя двоюродная сестра Надя; я химию никак не мог понять и полюбить, но она не была в этом виновата, она была очень толковым педагогом, тут вся вина – на мне.
Я уже назвал физика Брахмана – в сильных очках, за которыми видны были неестественно уменьшенные глазки, с глубокими вертикальными морщинами на щеках, он выглядел свирепо, а объяснял свою физику точно, понятно и весело. Брахман был дьявольски остроумен, никто из старшеклассников – чемпионов не мог его переострить… Казалось, что после урока Брахмана учить нечего, все ясно. Впрочем, это была всего лишь иллюзия.
Как‑то ко мне обратилась соученица, виолончелистка Рита. Боря, попросила она, объясни мне физику. Мы спустились в буфет, сели за столик с блестящим стеклянным покрытием, и я принялся за дело. Мои старания стоит оценить, я до сих помню тему: тело на наклонной плоскости. Сначала я объяснил ей «по Брахману»; в качестве тела он брал самую крупную и круглую девочку в классе, Ию Иванову, виртуально клал ее на наклонную плоскость, затем выстраивал параллелограмм сил, выводил равнодействующую, потом стирал ставший ненужным параллелограмм, приговаривая вслед за Тарасом Бульбой – «я тебя породил, я тебя и убью»… Рита слушала меня как зачарованная, но по ее коровьим глазам было видно, что она как‑то еще не поняла. Тогда я взял несколько подручных предметов, устроил наклонную плоскость, поместил на нее круглую ручку, напомнил, что земная гравитация тянет прямо вниз, но ручка туда падать не может, плоскость мешает… Волоокая Рита преданно смотрела мне в рот. Я начал снова…
Наконец, она меня остановила.
– Боря, – сказала она, – ты очень интересно рассказываешь. Но теперь ты мне скажи – как ему сказать?
Рита, дорогая моя однокашница! Если бы я мог, я бы тебе поставил памятник. Ты произнесла великую фразу – фразу, полную глубокой жизненной мудрости. Разве кого‑нибудь интересует суть дела? Кому, кроме оторванных от реальности и объективно опасных мечтателей, требуется понимание? Главное – знать, как ему сказать, это знание и есть смазка фундаментальных механизмов культуры и социума. А уж социалистического социума (как интересно звучит, не правда ли?) – и подавно. Там знание как ему сказатьрешало все проблемы. Увы, Рита не поняла, что она сказала великую фразу: она была глуповата, как сама поэзия, и не заметила, что чуть не стала пророком умения, основанного как раз на непонимании.
Как она управилась с телом на наклонной плоскости, я не помню. Но вообще‑то успевала плохо, что очевидно. Неочевидно другое – что эта неуспеваемость по всяким там предметам не имела для человека особого значения. Не имела она значения. Решающей была, в сущности, одна отметка – в графе «специальность». Все дело было в том, как ты играешь на скрипке, флейте, фортепиано или арфе, прочее относилось к маргиналиям. Рафка Брилиант, сын консерваторской уборщицы, вор, сквернослов и хулиган, публично хватавший при случае девчонок за стыдные места, учился из рук вон плохо, ну – никак. Но когда он на ученическом вечере сыграл концерт Бетховена, у Столярского, сидевшего, как всегда, в первом ряду, из‑под очков поползли слезы. Мы это видели.
Вот оно, главное.
Я был все‑таки очень обыкновенным гениальным ребенком, даже слишком. Обманувшись, видимо, моей игрой на вступительном экзамене, меня взяла в свой класс Берта Михайловна Рейнгбальд, учительница Гилельса, профессор – орденоносец, как тогда принято было писать. Вскоре она убедилась, что ошиблась. Я тоже чувствовал, что она ошиблась. В классе было принято приносить на урок к профессору не просто хорошо разобранную, но вчерне выученную вещь. И какую вещь! Дима Тасин, на два класса меня младше, разыгрывал концерт Листа, слегка подскакивая на стуле при выполнении бурных октавных пассажей, как и полагалось виртуозу. Вскоре он должен был выступить в филармонии с симфоническим оркестром Советского Союза. Нора Левензон, из моего класса, сразу играла (небось летом выучила) концерт Шопена, весь. А Люся Майская, а Вера Хорошина, а Циля Райхштейн! Да что, крохотная Генечка Мирвис из какого‑то там третьего или четвертого класса, и та… А я приносил едва разобранное и, спотыкаясь, мямлил что‑то на профессорском рояле; Берте Михайловне я быстро стал неинтересен – и она отдала меня «на подтягивание» своему молодому ассистенту, Зигмунду Ильичу Зильбергу.








