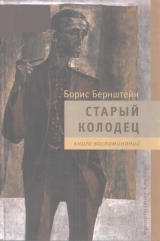
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Но, как следует из сказанного ранее, во многих местах существовали группы и институции, сильно удаленные от принятой точки отсчета. В Москве я бы назвал первым делом Институт искусствознания, принадлежавший когда‑то Академии наук, а позднее, когда Академия наук стала освобождаться от гуманистики, переданный в ведение Министерства культуры. Там, несмотря на неизбежные трудности, всегда оставалось место для научной порядочности и человеческого достоинства – не случайно искусствоведческие секторы этого института были вечной мишенью интриг и атак Академии художеств. Кафедра истории искусства Московского университета, где атмосферу создавали большие ученые: В. Лазарев, Б. Виппер, Д. Сарабьянов, В. Гращенков, – была другим таким местом. Некоторые коллеги в поисках профессиональной независимости укрывались в институтах истории и теории архитектуры, технической эстетики и даже – в Институте истории рабочего движения (!), где, кажется, можно было заниматься почти чем угодно.
В Ленинграде совсем неплохой оазис образовался под крышей Русского музея, где был создан не имевший музейной функции отдел теоретического искусствознания, сотрудникам которого (М. Герман, Б. Сурис, Л. Мочалов, Л. Карасик, А. Боровский) платили зарплату за то, что они думали и писали, не особенно оглядываясь или вовсе не оглядываясь на официоз. В Средней Азии (Г. Пугаченкова, Л. Ремпель, Л. Айни) и в Закавказье (Г. Чубинашвили, В. Беридзе, Л. Бретаницкий) сложились свои серьезные исследовательские школы, их штудии по богатейшей истории искусства этих ареалов полностью сохраняют свое значение для мировой науки.
Разумеется, музеи – Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей имени Пушкина – делали свою исследовательскую, атрибуционную (тут были существенные открытия) и экспозиционную работу; Пушкинский музей устраивал элитарные «Випперовские чтения», куда приглашали сливки независимо мыслящей гуманистики, – душой этих конференций была И. Данилова, заместитель директора по науке.
Немногие художественные журналы выстраивались по той же шкале: самым темным и наглым был журнал Союза художников России (и Академии художеств) «Художник», толстый журнал «Искусство» был безликим, но печатал достаточно обширные научные статьи, свободнее был облик «Творчества», наиболее независимую позицию занимал журнал «Декоративное искусство», камуфлируясь спецификой предмета. С начала 1970–х гг. стал выходить ежегодник «Советское искусствознание», а вслед за ним – целое соцветие других ежегодников; эта библиотека может быть монументом создателю и руководителю редакции ежегодников в издательстве «Советский художник» Юрию Овсянникову…
Пора остановиться – нет никакой возможности, у меня во всяком случае, описать или оценить в нескольких абзацах итоги работы многих искусствоведов, которые вовсе не были нивелированы или раздавлены режимом.
Правда, глядя отсюда, я не могу не заметить, что долгая изоляция, усиленная трудностями изучения языка и чтения кириллицы, обусловила расхождение в способах думать, плохое знание на Западе всего того, что заслуживает знакомства, с одной стороны, и закомплексованность мысли в странах, бывших недавно Советским Союзом, – с другой. Это, однако, слишком серьезная и тонкая тема, чтобы обсуждать ее мимоходом.
– Мои типологические штудии… Тут я должен назвать некоторое обстоятельство, не имеющее научного объяснения. Боковая ветвь «типология культуры» – от только что названного ствола. Размышления о методологических проблемах искусствознания не могли обойтись без учета их функциональной стороны. Далее, нетрудно было заметить, что многие места и эпохи обходились без искусствознания вообще – не было ни функции, ни самой деятельности. Группируя во множества различные случаи и культурные ситуации, нетрудно было прийти и к некой обобщенной исторической типологии, а она – в свою очередь – задала вопросы о месте и функционировании самой пластической деятельности, самих артефактов в своем историческом контексте. Как раз в это время западное искусствознание переживало очередной методологический переход от ориентации на текст (формалистические методологии) к ориентации на жизнь текста в контексте. Однако ни работы Т. Кларка начала 1970–х годов, признанные первыми манифестациями «новой истории искусства», ни первая формулировка «институциональной теории искусства» Д. Дикки мне тогда не были доступны и даже не были известны. Логика собственных рассуждений и желание освободиться от традиционного для советского марксизма упрощенного социологического подхода вынудили меня двинуться в сходном направлении.
Не знаю, стоит ли резюмировать эти сочинения – они опубликованы, это во – первых, а во – вторых – сюжет не закрыт, напротив, он становится все более интригующим: продолжение следует…
Изменились ли мои точки зрения? Ю. Лотман как‑то напомнил грустную истину: идеи – товар скоропортящийся. В общефилософском плане это вопрос о кумулятивности знания (или хотя бы гуманитарного знания) вообще. В персональном смысле это вопрос о том, как долго вам кажутся съедобными – без глубокого замораживания – собственные высказывания. Для некоторых моих статей известным консервантом может служить такое их свойство, что они не содержат радикальных идей, не предлагают революционных стратегий, но только описывают, селектируют и упорядочивают имеющиеся практики. В общем – я продолжаю верить в продуктивность принятых подходов, хотя беспощадно переписал бы многое наново, вооруженный иного формата эрудицией, опытом обдумывания и чувством внутренней свободы, граничащей с интеллектуальной безнаказанностью, – если бы не ленился разогревать вчерашний обед. Но я намерен продолжить обсуждение, и мне грезятся достаточно интересные результаты.
– Семидесятые и восьмидесятые… Каждый Ваш вопрос просится на хорошую монографию. Отвечая на предыдущие вопросы, я невольно затрагивал семидесятые и восьмидесятые годы. К тому же восьмидесятые, как известно, надо разделить на два, так как с середины десятилетия начался обвал.
Стагнация – термин сначала затертый, а затем полузабытый, так как быстротекущая история нуждалась в более энергичных словах. Но он хорошо описывал положение вещей. После хрущевских импровизаций, грозивших раскачать систему, и постхрущевского аппаратного контрудара наступила пора некоторого равновесия. Иногда кажется, что консервация наличного положения вещей заботила систему больше всего. Было неявно институционализировано даже «подпольное искусство» – подполье давили и преследовали, но задавить не могли, так и остановилось дело на полпути: организовали московский «профсоюз графиков» или как там он назывался, туда собрали «неофициальных» художников, чтобы следить, если нет сил уничтожить, в мастерские допускали прогрессивных и просто денежных иностранцев: покупайте, пожалуйста, только платите в советскую казну, – как говорил мой друг, художник – диссидент, абстракционист, бунтарь и Герой Советского Союза Алексей Тяпушкин, за доллары у нас разрешалось фотографировать даже пытки. Кстати о диссидентах – при Сталине хватило бы одного дня, чтобы диссидентское движение исчезло, как рассветный туман. Дряблая власть на это уже не решалась.
Соблюдение традиции часто носило ритуальный характер, а выродившийся ритуал оборачивался пародией: где‑то в семидесятых годах появилось постановление ЦК о художественной критике; в отличие от классических постановлений ждановской поры, запускавших гильотину, этого никто, кроме подхалимов и функционеров, не заметил. Давление власти то более энергично, то относительно вяло осциллировало вокруг некоторой условной оси: в Эстонии было можно то, что было бы невозможно в Ленинграде или Киеве; если М. Лейс, или П. Улас, или Р. Меель выставляли свои работы дома, то это входило в сложившийся порядок, но если они без разрешения посылали свои работы за рубеж, куда‑нибудь в Краков, Любляну или, упаси Боже, в Венецию, то выходил скандал и следовало наказание, мерзкое, но не смертельное.
Институционализация «прибалтийской витрины» имела для нас еще и то значение, что, в отличие от оттепели и разнонаправленных прорывов к свободе в шестидесятые годы, синхронизация движения эстонского искусства с западным стала гораздо более последовательной: вслед за запоздавшими отблесками поп – арта, гораздо плотнее к образцам появились гиперреалисты, неоэкспрессионисты, тут же, вслед за ними – первые эклектические почки постмодернизма… К началу восьмидесятых годов словесный блок «эстонское советскоеискусство» потерял остатки смысла.
Большая выставка эстонского искусства в Москве, последняя в роли «искусства союзной республики», состоялась в ту пору, когда пластическим искусствам оказалось практически «все позволено». Московские коллеги были полны воодушевления: им сдавалось, что выплеснувшийся отовсюду поток творческой активности нуждался в регулятивных, образцовых моделях пластической культуры – и эстонская выставка такие модели показывала! Издательство «Советский художник» тут же предложило мне приготовить альбом, съемку начали на месте, немедленно, в залах Дома художника на Крымском Валу. Общую вводную статью написал по моей просьбе Яан Кросс, я сочинил специальное введение… Прививка пластической культуры, правда, не состоялась: пока созревал альбом, Эстония перестала быть союзной республикой, во – первых, а во – вторых – проблема пластической культуры быстро и бесповоротно перестала быть актуальной…
– Художественный институт? Этот дом на углу Тарту маантее в течение десятилетий был моим вторым домом. Поэтому о нем рассказать ненамного проще, чем о первом. Во всяком случае – не могу в нескольких строках. Попробую потом, но обязательно более подробно…
– Сиюминутные проблемы искусствознания… Вот что я позволил бы себе в тезисной форме сказать по этому поводу. Это отчасти банальности, но без них не обойтись.
Современный комплекс вещей, событий, процессов, слов, объединяемых названием искусства, настолько отличается от классического – в широком смысле – набора, что попытки объединить их в некой общей теории можно считать безнадежными. Традиционная эстетика, поставившая категории эстетического и художественного во взаимодефинирующую зависимость, становится историческим документом и свидетельством, ее объясняющая способность исчезает на глазах.
Искусствознание в роли критики реагирует на эту необратимую качественную трансформацию первым делом. Поскольку лингвистическая деконструкция добралась до молекулярного уровня и каждое высказывание художника выполнено, как правило, на особом языке, созданном для этого и только для этого текста, – критик становится толмачом, предлагающим россыпи более или менее адекватных и доступных переводов. Все чаще, естественно, он передоверяет эту работу автору – и критическую статью вытесняет интервью. Такой ход оправдан, поскольку многие артефакты рассчитаны на мотыльковый век, и самое прочное, что от них остается, это вербальная пыльца. В конечном счете, расширенная биография художника как мифологизированная последовательность актов становится главным, если не единственным «произведением».
Далее, эстетические или, тем более, этические критерии теряют всякий смысл, сама новизна, которой, казалось бы, суждено аксиологическое бессмертие, сильно скомпрометирована, и потому генеральным критерием может быть – и становится – этически бесцветный успех любого сорта, хотя бы только коммерческий. (Недавно Джордж Сорос заметил, что общество, где главной ценностью стал успех, обречено на нравственную деградацию. Интересно было услышать это из уст человека, заработавшего прозвище современного Мидаса. Хотя мой доход существенно скромнее соросовского, я с ним согласен.) О роли критика – куратора, критика – организатора, критика – квазихудожника, критика – коммерческого агента, словом – критика как универсальной закваски всего художественного и околохудожественного брожения сказано достаточно. Где прекрасная заря времен Лафона и Дидро, где сияющий полдень критик Бодлера или Аполлинера?
Но история искусства, которая никогда не могла уберечься от современности, сегодня стоит на пороге самой грозной, но – может быть – и самой продуктивной трансформации. Утрата предмета, или, если хотите, утрата границ предмета изучения, о которой столько сказано («всеобщая история чего?»), вынуждает историю искусства достойно принять вызов. Взгляд, не затуманенный традицией, все лучше видит, как очертания «искусства» теряют отчетливость не только сейчас, но и с противоположного, условно говоря, конца. Иначе говоря – история искусства, не как описание, а как предмет описания, растворяется в многообразии и разнообразии ролей, которые поручались артефактам в истории и в топологии культуры. История искусства, если она хочет строгости, должна ограничить свой объект несколькими эпизодами, несколькими столетиями из всемирной истории артефактов. Если же она, поступаясь своей спецификой, сохранит за собой весь майорат, от палеолита до завтрашней Документа, то ей придется стать интереснейшей и трудной междисциплинарной культурологией. Нефиксированное, плавающее место пластических артефактов в культуре вынудит нас дрейфовать вместе с объектом – протеем.
В конце концов, это судьба искусствознания всякий раз, когда оно отказывается от претензии на полную методологическую автономию и, следовательно, на формальный изоляционизм, описание абстрактной жизни форм. Такова имплицитная интенция Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, иконологии или социологизирующей «новой истории искусства». Мы уже сказали А, остается сказать Б – или не сказать ничего.
Бебеля, 12 Частное введение к Еврабмолу
У бедняков нет генеалогического древа, это капризное растение требует тучной почвы и хорошего ухода.
История рода Бернштейнов плохо различима в негустом, клочковатом тумане семейных преданий.
Мой прадед со стороны бабушки, Хаим Оберштейн, исполнял в городе Балте малозаметную, но необходимую роль – он развозил воду. Память о нем в устной традиции лучше сохранила его функциональное имя – Хаим – Воссерфирер. Кроме этого я, как ни стыдно, ничего рассказать о нем не могу.
Другой прадед был кантонистом и николаевским солдатом, родом, я полагаю, из польско – литовских краев. Отслужив «под барабаном» положенные ему четверть века, он получил право поселиться где угодно в пределах империи: в балансе человеческих прав, обязанностей и качеств честно исполненный долг перед царем и отечеством в течение половины жизни искупал – до некоторой степени – органический дефект мальчика, рожденного в иудейском вероисповедании. Он мог стать мещанином Рязани, Царевококшайска или Самары, да что там – Москвы и даже самого Петербурга. Прадед выбрал малозаметный городишко Балту. Некогда, в золотые дни солдатчины, он вместе со своим полком квартировал в этих местах, балтские пирожки запомнились ему на всю жизнь.
Легенду о поселении предка в Балте многие толковали поверхностно – в его выборе видели знак неудовольствия высшего разума, наказавшего род геном тупости. Оценивая этот факт из будущего, с точки зрения его дальних последствий, я нахожу такую позицию несправедливой. Ничтожные обстоятельства и, казалось бы, нелепые поступки экзистенциально определяют судьбы многих поколений: если бы не чары балтских пирожков, нам бы не удалось посетить сей мир в его минуты роковые, да и в другие минуты тоже. В некотором метафизическом смысле возвращение в Балту исторически оправдано. Психологически осуждение прадеда тем более неверно. Предок из кантонистов вряд ли мог стать другим: двадцать пять лет солдатчины, начатой в нежном возрасте, должны были полностью подавить сопротивляемость организма к искушениям балтской кухни, а заодно и способность провидеть будущее.
Далее для меня какая‑то неясность: в документах говорится, что мой дед, сын царского солдата, юридически считался «гродненским мещанином»; что бы это могло значить?
Так или иначе, но дед Борух (а если совсем официально, то Берко Овший Мордкович) Бернштейн, женатый на Соре, был классическим местечковым неудачником: предприимчивый «мой брат Эля» из «Мальчика Мотла» (Шолом – Алейхема, молодые люди, Шолом – Алейхема!) мог быть списан с него, требовалось лишь небольшое художественное сгущение, которое не противопоказано классическому реализму. Одно время он держал прачечную, позднее – мелочную лавку. Или сначала лавку, а потом уж прачечную. Последовательность не имеет существенного значения, тем более – в наши цинические дни, когда наиболее прогрессивные теоретики полагают историю всего лишь содержанием сочинений историков, которые – сочинения, а не историки – принадлежат, по их (теоретиков, а не историков) мнению, скорее к области литературы. Важно, что дела шли плохо, крах следовал за крахом. Изо всех разрешенных или даже поощряемых библейской моралью инициатив деду хорошо удавалась одна: дом стихийно – планомерно заполняли все новые младенцы. Дора, Моисей, Полина, Рахиль, Матвей, Ида, Абрам, Фрида… Дети помогали в прачечной, но поедали съестное из фамильной лавки, тормозя тем самым развитие капитализма в России.
Когда вся семья собиралась за обеденным столом, предприимчивый дед Берко Овший любил повторять, горестно оглядывая прожорливую молодую поросль: «филе штиб мит идиотн».Эта идиома могла бы стать девизом нашего герба, если бы нынешнее Дворянское Собрание, или Президент Страны, или, скажем, сохранившиеся наследники Престола пожаловали Бернштейнам потомственное или, пусть, ладно, личное дворянство; пока что историческая фраза остается семейным motto.Полезное в качестве самокритического дезодоранта и уместное во многих отношениях, оно не во всем справедливо. Про деда, автора фразы, которая ставит его в один ряд со знаменитыми Людьми Фразы, чьи изречения записаны золотыми буквами на скрижалях: «И ты, Брут», «Государство – это я», «После нас хоть потоп», «Мы пойдем другим путем», «Хотели как лучше, а получилось как всегда» и т. п., – я знаю не больше, чем здесь написано.
Когда дети встали на ноги, они перебрались в Одессу и забрали отца с собой. В семейном архиве хранится справка о том, что дед служил курьером в отделе кладбищ. Справка от 28 июня 1921 годаудостоверяет, что он был уволен с 1 февраля 1921 годапо приказу от 25 февраля 1921 годаза № 11. Даты показывают, что время в подотделе кладбищ одесского горкоммунхоза было дезорганизовано, как и полагается в непостижимом, узком, как лезвие, почти двухмерном мире на грани бытия и небытия.
Такова была последняя, с мрачноватым оттенком, фаза его трудной и деятельной жизни.
* * *
Дети Берко Овшия, Боруховны и Боруховичи, не заслужили суровой отцовской оценки, если говорить о ее прямом смысле. Это были способные и порядочные люди.
Они дышали воздухом времени. Жизненные перспективы, которые открывал перед ними традиционный балтский уклад, казались им бедными, незавидными и унизительными. Они не знали, что сотню лет спустя местечко, штетл,разделяя судьбу многих исчезнувших культурных сообществ, станет предметом романтической идеализации. Если бы они чудесным образом получили такую вот – окутанную серебристым ностальгическим туманом – картину собственной Балты, если бы она выглядела голографически правдоподобной, вряд ли их выбор стал бы другим. Проживать и вспоминать – экзистенциально разные вещи. Образование и эмансипация сулили другие горизонты, другие, куда более достойные возможности, нежели бочка водовоза Хаима, жалкая лавка Боруха Овшия или, пусть, хрестоматийный коровник Тевье – молочника. Вот почему гимназическое, если не университетское, образование, равно как и политическая левизна были эмблематическими признаками поколения.
Тут нет ничего нового: не стоило бы об этом упоминать, если бы не метания идеологий и причуды философской моды, лишенной инерционного ядра. Неонеоконсерватизм, взращенный на почве шоковой ментальности авангарда, странная помесь памяти и забвения, прокурорской непримиримости к грехам предшественников, за которой скрывается ощущение собственной вины, мешает понять жизнь отцов и дедов.
По темным историческим преданиям, в России конца XIX века действовала процентная норма. Как царская тюрьма и каторга по отношению к социалистической пенитенциарной конструкции, так процентная норма была неумелой любительской репетицией будущей мудрой национальной политики коммунистической партии – своего рода интернационалистской affirmative action,имевшей своей целью защиту коренного населения от дискриминации со стороны национальных меньшинств и справедливое выравнивание образовательных и других возможностей.
В этой связи пора извлечь из неизвестности город Ананьев. В Ананьевской гимназии к евреям – экстернам относились с либерально – интеллигентской, неосмотрительной, как показала история, благожелательностью. Поэтому туда не зарастала тропа, по которой еврейские мальчики устремлялись к вожделенному свету учения.
В свидетельстве № 2506 сказано, что:
«Предъявитель сего мещанин Мошко Борухович Бернштейн. на основании Высочайше утвержденных, 22 апреля 1868 года, 13 декабря 1894 года и 11 декабря 1895 года мнений Государственного Совета о специальных испытаниях по министерству народного просвещения, подвергшись сокращенному испытанию в педагогическом совете Ананьевской мужской гимназии и выдержав оное удовлетворительно, удостоен звания учителя начальных училищ, для обучения своих единоверцев.
В удостоверение чего дано ему это свидетельство за надлежащим подписанием и с приложением печати канцелярии Ананьевской гимназии».
Среди оценок, выставленных ананьевскими учителями, действительно, преобладают тройки. Трудно сказать, по какой причине гимназический документ Моисея, в отличие от его инженерского диплома, выглядит неблестяще. Думаю, что его дистанционное гимназическое учение было отрывочным, надо было зарабатывать на хлеб. Ананьевский аттестат был завоеван, когда соискателю было за двадцать. Отец был наделен глубоким и гибким умом, а также волей и умением организовать себя и других – но эти качества не должны быть точно отражены в экзаменационных отметках.
У него были отличные способности и прекрасная память. Когда я, на исходе первого курса исторического факультета, искушаемый мелким бесом тщеславия, стал вставлять в свои письма к отцу латинские изречения, он – разумеется, по памяти – поправлял мои ошибки. Его латынь была исключительно ананьевско – экстернального происхождения и не обновлялась по меньшей мере лет сорок, поскольку последующие его занятия и интересы были далеки от классической древности; не думаю, чтобы он открывал учительские советы своей школы или факультетские деканаты Промакадемии им. Сталина хрестоматийными цитатами, наподобие Quousque tandem, Catilina… – или, на худой конец, О tempora, о mores! – или, на совсем уж плохой, – Ave, Caesar, morituri te salutant…Нет – нет, такого не могло быть, поверьте моему слову. Хотя поводы были.
Социалистические увлечения тоже не миновали детей Берко Овшия. Среди фотографий, сделанных в балтском фотосалоне начала века и непостижимыми путями добравшихся до Калифорнии к концу века, по меньшей мере одна могла бы служить – в зависимости от всемирно – исторического контекста – либо уликой, либо охранной грамотой. Моя старшая тетка Дора, ее ближайшая подруга Ида Луммер и другие девицы в блузках и сильно перетянутых в талии длинных юбках – отблеск угасающего югенда – запечатлены в качестве активисток российского социал – демократического движения. Композиционный, смысловой и политический центр группы – молодой человек, стриженный ежиком, с небольшой бородкой, в демократической косоворотке. Это знаменитый революционер, большевик. Вспомнить имя, данное ему при крещении, я не могу, требуются специальные разыскания. Но его партийная кличка известна каждому сознательному одесситу.
* * *
* * *
Молодой бородач был сам Дед Трофим, в честь которого революционно названа одна из улиц Одессы. Насколько я знаю, после увековечения Деда ее ни разу не переименовывали. Это верное свидетельство идейно – политической неуязвимости героя, которая лучше всего обеспечивалась биологической уязвимостью: самым надежным путем к топонимическому бессмертию была преждевременная смерть от руки классового врага или от сыпняка. «Преждевременная» означает в нашем случае – имевшая место прежде времени его, удачливого покойника, идейно – политического перерождения и разоблачения, практически неизбежного, как показала позднейшая судьба его более живучих соратников.
Впрочем, и ранняя трансгрессия из бытия в ничто не всегда уберегала героя от номинативной кары в мире его бывшего присутствия. Вспомним горестную комедию ошибок с переименованиями Дерибасовской улицы. Как известно, основатель города, чужеземный аристократ и генерал в русской службе, вынужден был уступить улицу имени себя Фердинанду Лассалю, основателю Всеобщего германского рабочего союза, который, по оценке самого Ленина, превратил рабочий класс Германии из хвоста либеральной буржуазии в самостоятельную политическую партию. Казалось бы, не самый худший кандидат для поднятия подмоченного престижа славной некогда Дерибасовской. Недолго, однако, тень немецкого вождя тешилась своим незримым присутствием там, где зримо прогуливались одесские пижоны (на тогдашнем диалекте – жоржики), красавицы и иностранные моряки. Хотя Фердинанд Лассаль покоился в могиле с 31 августа 1864 года, его оппортунистические шатания и уступки философскому идеализму гегельянского толка не остались незамеченными. Когда все эти дела, хоть и с опозданием, стали достоянием широкой общественности, улицу пришлось передать выдающемуся пилоту Валерию Чкалову. Но не навечно. Жизнь, как говорится, внесла свои коррективы.
В ходе войны с нацистской Германией прояснилось значение национальных патриотических традиций, героических фигур прошлого и их деяний. Волна обоснованного энтузиазма почему‑то захватила и принесла на пенном гребне заслуженного француза (вообще‑то, он был португалец, но в народной памяти все основатели Одессы – французы) – улице вернули имя де – Рибаса. Незапятнанный Чкалов не мог быть ущемлен, ему отдали легендарную Большую Арнаутскую, которая уже давно называлась улицей Леккерта. За что наказали Леккерта, я сказать не берусь, к тому времени он был, конечно, мертвый революционер, но что‑то небось за ним числилось, хоть бы фамилия. Без причин бы не переименовали, в деле исправления ошибок у нас тогда не ошибались.
Столько о Деде Трофиме.
Но раз уж зашла речь об археологии имени, нельзя не сказать, что улица, на которой повествователь начал познавать мир, тоже имела некоторую номинативную стратификацию. Я родился и вырос на улице Бебеля, в доме, стоявшем посередине квартала, между Пушкинской, сохранившей древнее имя, и Кангуна, бывшей Польской. Девичье имя улицы Бебеля было еще реакционней, с течением времени его непроизносимость ощущалась все более остро, почти болезненно, в нем было некое свойство, которое ставило его ниже площадной брани. Это был опасный языковый кентавр: непристойности сейчас принято квалифицировать как «ненормативную лексику», а слово, сделанное некогда именем улицы, принадлежало к нормативной лексике, но по своей угрожающей постыдности ее далеко превосходило.
Наблюдатели российской духовно – политической сцены не устают удивляться и негодовать по поводу флирта с церковью, очевидно показного и лживого, руководителей страны, не успевших сносить башмаки из цековских или обкомовских каптерок. Русский христианский живописец Илья Глазунов вполне мог бы написать серию исторических картин: «Причащение мэра Лужкова / генсека Зюганова…» и т. п. – лица заменяемы, композицию и одухотворенные глазуновские глаза можно сохранить. Если вдуматься, однако, это видимое притворство не так уж противоестественно, воцерковление коммуниста как способ поведения логично, привычно, рутинно, пуристов может смущать лишь смена церкви.
В свое время один теоретик успешно защитил диссертацию, где была научно показана антирелигиозная сущность социалистического реализма. Диссертация так и называлась: «Антирелигиозная сущность социалистического реализма». Автору, разумеется, нужна была не столько истина, сколько ученая степень. Тем не менее нельзя не воскликнуть: сколько иллюзий! Ничего антирелигиозного в социалистическом реализме не было, точно так же как и в практике реального социализма. Другая религия, другие каноны, другая церковь, другая инквизиция, другая цензура, другое ханжество, другие святыни, святые, мученики… Если уж говорить об антирелигиозном эффекте советского опыта, то он – благодаря своей одноприродности и своему структурному подобию – мог бы стать пастеровской прививкой от религиозности. Но и этого не случилось. Вакцина должна быть ослабленной культурой, а советская церковь – в своей наглядной гротескности и анахроничных преувеличениях, в своей смертельной серьезности – только подавляла иммунную систему. Спора религии и атеизма не было, была битва церквей. Антицерковность советской системы была всего лишь эвфемизмом, плохо скрывавшим смысл неравного противостояния церквей и вер, из которых одна была одновременно и властью, и государством.
Это обширная тема, из которой сейчас интересна лишь та ее часть, которая касается образа и слова. Откуда такое специфически советское отношение к слову и имени? Истоки его нетрудно найти в древних мифах о сотворении мира через слово – от древнейшего египетского и до библейского, в магии и мистике слова, в суровом Моисеевом запрете произносить имя Божие, в теологической лингвистике, возводившей связь между словом и называемой вещью к Первотворцу. Труды товарища Сталина по вопросам языкознания…
При царском режиме улица называлась Еврейской.
Нет, нет, никто никогда не посмеет обвинить меня в чувстве или, еще хуже, пропаганде какой‑нибудь там национальной исключительности, в указании на особую судьбу, качества и предназначение некоторого этноса. Любая улица, в имени которой звучала национальная нота, подвергалась в те времена назывательному исправлению. Так было, как мы видели, с Польской и Большой Арнаутской, но так было и с Малой Арнаутской (этого еще не хватало, две улицы имени одной загадочной нации!), Греческой улицей и площадью (опять!)…
Если я позволил себе как‑то выделить трудное ономастическое прошлое улицы Бебеля, то оправданием для такого отличия может быть ее интересное будущее.
* * *
* * *
Заколдованное слово, надежно погребенное, казалось бы, под прочным слоем уличного новояза, демонстрировало редкую живучесть и проступало сквозь покровы – пусть частично, но очень заметно, хотя бы в одной точке, вот там, в середине квартала между вечной Пушкинской и доисторической Польской, впоследствии Кангуна. Там, под номером 12, стоял жилой дом, выстроенный в самом начале века по проекту известного в Одессе архитектора В. Прохаски – настолько известного, что его имя было высечено на мраморной дощечке, вмурованной в стену дома навсегда. Эстетский снобизм ему был чужд – Прохаска не был поклонником упадочных форм модерна, он развивал в своем творчестве лучшие традиции Ренессанса. Так считают специалисты, авторы комментария к альбому об Одессе. Это указание, изложенное на научном языке своего времени и места, не следует понимать буквально: дом не был похож ни на флорентинские палаццо XV века, ни на собор святого Петра. «Лучшие традиции» означает «про – грессивные»; в некотором смысле историк одесской архитектуры прав.








