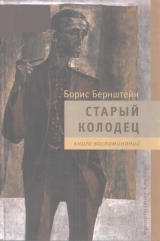
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц)
Немецкий солдат замечает, что этот русский – такой же, как он. Русский военнопленный замечает, что не «все они» – немецкие солдаты – изверги. Я не знаю, как был настроен немецкий пленный, которого я накормил супом. Он мог быть таким же не – нацистом, как Рольф Байер, а мог быть напичкан гитлеровской пропагандой и знать, что «все они» – евреи – недочеловеки и враги человечества. Тогда, может быть, мой суп хоть на йоту поколебал это знание. А может, не поколебал. Достаточно того, что суп открывал такую возможность. Хотя, повторяю, я не собирался очищать от навета еврейскую нацию. Я действовал импульсивно, Кант скорее всего счел бы мой поступок автоматическим исполнением категорического императива.
Тема увлекательная, и я готов многое сказать по этому поводу. Но тут у нас воспоминания, и потому рассуждения отложим до подходящего случая. Пока что договоримся об одном: «все они…» я попрошу в моем присутствии никогда не произносить.
* * *
В деревушке офицерского резерва делать, кроме как есть и спать, было нечего. За окном тянулась гнилая померанская зима, сырость, дожди со снежком. У капитана, спавшего на соседней койке, был трофейный аккордеон. Это дело. Немного терпения – и можно овладеть нехитрым инструментом. Но невозможно играть на аккордеоне все время.
В городе есть Дом офицеров – библиотека, пианино, и не одно, показывают кино… Нужно только прошлепать десяток километров по вязкой дороге, но что это для младого младшего техника – лейтенанта. В библиотеке я менял книги, а в салоне – садился за фортепиано и вспоминал, как на нем играют. Вот там однажды меня застал какой‑то капитан. Он отрекомендовался начальником армейского ансамбля песни и пляски и пригласил меня у него играть. Ты свободный, говорил он мне, а нам позарез нужен нотныйпианист. В том смысле, что слухачу нас есть, хорошо играет, но нот не знает. А нам нужно.
Я сказал, что подумаю. Вообще‑то надо было соглашаться, но я был совестлив не по разуму. Незадолго до того к нам в деревню занесло директора школы – русской, советской школы для детей военнослужащих. Прослышав, что я знаю музыкальной грамоте, он пригласил меня пойти, покамест я в резерве, к нему – учить детей музыке. Словом, я как бы уже обещал. Поэтому несколько дней спустя, когда были решены какие‑то формальности, я переехал в город и поселился в школе, в большой комнате, на пару с завучем.
Директор школы, как оказалось, был туповат. Он полагал, что я буду учить музыке всех учеников школы – их было около трехсот. Поскольку эта нагрузка казалась ему недостаточной, он поручил мне оборудовать спортплощадку. Это мне—το! Неужели по мне не было видно, что я окончил военное училище с пятерками по всем теоретическим и практическим предметам, но слабо успевал по основным – строевой и физической подготовке? Что все детство и юность мои прошли в оранжерее, поскольку у меня в результате всех мыслимых и немыслимых детских болезней было больное сердце и мне запрещено было бегать, прыгать, плавать, бывать на солнце? Что сердце выздоровело ровно к моменту призыва в армию? Что первый в военном училище лыжный кросс на десять километров я, одессит, только начал на лыжах, а оставшиеся девять с половиной, вдохновляемый матом Прохорова, пробежал пешком, увязая в снегу, потому что пешком получалось все‑таки быстрее? А ведь взводу засчитывали время по последнему! Что медленней меня прибегал обычно к нужному месту только печально – пучеглазый курсант Гольдберг, который на матерные (а то какие же!) угрозы Прохорова посадить и растерзать отвечал философски – ну, товарищ техник – лейтенант, кто‑то же все равно должен быть последним, так я буду последний, какая разница, что вам жалко?
Словом, со спортивной частью нагрузки я медлил, зато музыкальной стороной занялся со свойственным мне прилежанием. Я проверил слух и чувство ритма у всех трехсот. Я выяснил, кто из них когда‑либо учился музыке. Я узнал, у кого дома есть инструмент. Словом, тут была проведена необходимая подготовительная работа…
И вдруг выкликает меня в отдел кадров артиллерии этот самый капитан Манохов! Он не без злорадства сообщает, что получена телеграмма из Лигница: младшего техника – лейтенанта Бернштейна направить в распоряжение штаба артиллерии Северной Группы Войск для прохождения дальнейшей службы.
Так. Теперь я им понадобился. А проходить дальнейшую службу у меня, как известно, желания уже нет. Я отправляюсь к директору школы и прошу его задержать меня тут на педагогической работе. Директор не хочет. Боится. Нет, говорит он, это надо с командующим артиллерией генералом Щегловым, он человек суровый. Нет, не могу, езжай послужи.
Вот тут я вспоминаю про капитана из ансамбля, которому нужен был нотный пианист. Иду в дом офицеров, нахожу капитана и со всей возможной откровенностью описываю ситуацию. Если задержите, говорю, отдаюсь с потрохами, буду нотно играть в ансамбле. И капитан тут же, не отходя, снимает телефонную трубку и звонит прямо суровому генералу Щеглову. Товарищ генерал, врет он напропалую, тут у нас младший техник – лейтенант Бернштейн, его вызывают в Лигниц, а ведь приближается 23 февраля, день Советской Армии, праздничный концерт, у нас на нем вся программа держится!
Такой уж был капитан Чемезов, Иван Иваныч. И генерал что‑то там ему разрешает.
Теперь я должен сделать себя гвоздем программы.
Я сажусь за инструмент и сочиняю некую фантазию на темы вальсов Штрауса. Это был удачный выбор. Фильм «Большой вальс», шедевр музыкально – биографического жанра, с шармантной колоратурой Милицей Корьюс в главной женской роли, был для нас моднейшей новинкой – мотивчики из «Прекрасного голубого Дуная», «Сказок Венского леса» и «Летучей мыши» были у всех на слуху. И я из них сделал эдакий салатоливье или, по – благородному, парафраз – с пассажами вверх и вниз, с роскошными октавными каскадами – и постарался тщательно выучить собственное изделие, проводя часы на сцене полутемного зала дома офицеров. Больше я никак в программе не участвовал.
И вот – 22 февраля, вечер, праздничный концерт. Зал полон, сверкают генеральские погоны и лампасы, море офицерства, дамы, дамы, дамы… Мой номер. На сцене, это я уже хорошо знаю, убогое и глухое пианино, в набитом битком зале меня будет плохо слышно. Чтобы лучше несло звук, я снимаю переднюю крышку и обнажаю благородное фортепианное нутро – позолоченную деку, молоточки, струны толстые и тонкие, они выстроились параллельными рядами, их группы пересекаются под углом, радуя своими порядками строевой глаз.
Виртуоз ударяет по клавишам, пальцы бегают как ненормальные, молоточки с невиданной скоростью бьют по струнам и отскакивают на место, демпферы опускаются и поднимаются целыми волнами, в зал несутся, кружа головы, зажигательные звуки знаменитых вальсов: па – па – па – па – пам, пам, пам! Музыка и зрелище вместе, художественное событие переживается аудиовизуально, возбуждены важнейшие сенсорные центры! Никогда и ни при каких обстоятельствах я не переживал большего триумфа. Меня вызывали без конца! Я не мог ничего сыграть на бис, ибо ничего не было. Нет, кое‑что я помнил, но сыграть кусок из первой части концерта Баха ре – минор или из концерта Бетховена до – мажор было бы артистическим самоубийством. В конце концов, как учил Эмиль Гилельс, никогда не следует уходить со сцены под стук собственных ботинок. Я удалился под бурные аплодисменты всего штаба 43–й армии.
Жил я все еще в школе, и потому утречком 23 февраля, встав ото сна, мы с завучем и еще каким‑то учителем приступили к празднованию. Приняли по первой, после первой не закусывают, приняли по второй, закусили, хорошо пошло… И тут, ни к селу ни к городу, кто‑то стучится в дверь, и на пороге появляется неизвестный солдат.
– Младший техник – лейтенант Бернштейн тут живет? – спрашивает он казенным голосом.
– Это я.
Голос неизвестного солдата становится еще более абстрактным, статуя Командора какая‑то, судьба стучится в дверь, бум– бум – бум – бум:
– Вас вызывает к себе командующий артиллерией гвардии генерал – лейтенант Щеглов!
Хмель мгновенно выдыхается, быстро – шинель, затягиваю ремень, расправляю складки и бегом в штаб артиллерии. Это такой добротный большой двухэтажный особняк на берегу озера, какой‑нибудь немецкий буржуй себе строил, когда было его время. Хм. Штаб, однако, закрыт, кроме дежурного офицера никого нет, потому что праздник. Дежурный выдвигает абсурдное предположение, будто генерал вызывал меня к себе домой. Хотя такого быть не может, я все же справляюсь, где генеральский дом. Надо проверить все гипотезы. Дом вон там – вон, тоже на берегу озера, такая себе вилла. (Другого, небось, буржуя, подсказывает классовое чувство.) Отправляюсь к генеральской вилле. Ее охраняет солдат, который меня ждет! Он вежливо впускает меня в облицованную темным дубом просторную прихожую. Сверху по лестнице спускается генерал – сначала красные лампасы, затем китель, потом седая голова, стриженая ежиком.
– Товарищ генерал, младший техник – лейтенант гав – гав – гав– гав – гав – гав! – докладываю я по всей форме.
– Здравствуйте, товарищ Бернштейн, – как‑то по – штатски отвечает генерал и протягивает мне руку! – Раздевайтесь, заходите!
И я снимаю шинелку. И захожу в обширную и недурно обставленную гостиную. И генерал подводит меня к пианино марки «Ибах». Это была хорошая фирма.
– Я хотел бы вас послушать.
Вот где пригодилась моя приличная музыкальная память. Тут пошла в ход и соната Грига, и ре – минорный Бах, и то, и се… Но главное, оказывается, впереди. Генерал ставит передо мной ноты, вокальные. Читал я с листа из рук вон плохо, четыре года армейской службы без чтения с листа тоже давали себя знать. Но в моем положении и не такой, как я, заиграл бы. И я играю. А генерал начинает петь. Он поет вполне профессионально, хорошо поставленным баритоном! Другая пьеса, третья… Он правильно, хорошо поет!
За пением следует беседа. Оказывается, генерал окончил Одесскую консерваторию по классу вокала. Окончил вечернее отделение, когда командовал Одесским артиллерийским училищем в чине полковника. Жена генерала – пианистка. Дочь тоже учится игре на фортепиано – в музыкальном училище. Но жена и дочь сейчас в Союзе, генерал один.
Наслушавшись и попевши, генерал говорит мне главную фразу. Вам, говорит он, надо учиться. Так, товарищ генерал, говорю я жалобно, вот требуют в Лигниц… Да, отвечает генерал, именно поэтому я вас уволить сейчас не могу. Но мы сообщим, что используем вас на месте, переждем, забудется, а там и демобилизуем…
Так ровно 23 февраля 1946 года, в день Советской Армии, началась моя дружба с генералом Щегловым.
* * *
* * *
Изменив школе, я не мог более пребывать на школьной территории. Как артисту ансамбля, мне выделили небольшую комнатушку на третьем этаже дома офицеров; туда влезли диван, письменный столик, пианино и шкаф, что еще требуется для счастья? На втором этаже была ванная и душевые общего пользования. Питание – в офицерской столовой, в полутора кварталах от главного центра армейской культуры.
Индивидуальные занятия и репетиции – можно сказать, дома.
Именно туда, дежурному по дому офицеров, время от времени, примерно раз в неделю – полторы, звонил генерал и просил меня к телефону. Он вежливо справлялся, не занят ли я сегодня вечером. Я оказывался свободен. К вечеру за мной приезжала генеральская трофейная машина – черная, лоснящаяся, квадратных очертаний, которые должны были извещать всех и вся, что обтекаемые формы – для тех, кто торопится на работу, а нам при нашем положении спешить некуда. И шофер не спеша вез меня к вилле, которая находилась вообще‑то неподалеку, ногами дойти – раз плюнуть. Но так – все видят, едет генеральский пианист.
Вечер бывал посвящен музыке, мы с генералом занимались вокалом и беседовали о соотнесенных с ним материях. Затем мы ужинали вдвоем. Генералу был положен персональный повар. А может, это был искусный денщик, я не исследовал. Так или иначе, но готовил он отменно. Часть ужина генерал готовил сам. Настаивать водки он не доверял никому, алкогольная алхимия была его личной монополией. К каждому ужину полагалась другая настойка. А главная тонкость была в том, что генерал страдал язвой желудка и пить ему было никак нельзя. Так что все эти водочные кружева полагались мне одному. Художник наслаждался своим творением посредством персональной аудитории из одного: я вкушал, генерал справлялся – ну, как? – и я подробно описывал наслаждения нёба и гортани.
После интеллигентного ужина с подробной дегустацией неторопливый барский автомобиль был и вправду необходим.
Щеглов был моим первым генералом, но не единственным.
Однажды мне было сообщено, что меня вызывает к себе заместитель командующего 43–й армией генерал – лейтенант Пархоменко. Этот вызов был по – простому, в главное здание штаба, в служебный кабинет, который мог бы служить небольшим стадионом. Другой стиль – и я испытываю определенные трудности в выборе техники его описания. Я обещал, что ненормативной лексики не будет. Но если ее изгнать совсем, образ заместителя командующего в моем изложении останется бесцветным. Остановимся на компромиссном решении – лексики не будет, но необходимые лексические единицы будут репрезентированы короткими тире. Одна единица – одно тире.
– А, пришел,! – дружелюбно поднялся мне навстре чу коренастый генерал. – Понимаешь тут какое дело, – . Из Союза дочка приезжает, Так надо ее, – , музыке учить, она уже занималась. Так может, ты, – , возьмешься, а? Поезжай на трофейный склад на —, посмотри, выбери там пианино, а то я в этом ни – не понимаю…
По всему видно было, что генерал несколько смущен собственной просьбой, но деваться ему было некуда, дочка, – , приезжает.
Эту дочку, позднее дитя, он обожал. Уроки происходили на дому, где грозный генерал и классный матершинник превращался в добродушного семьянина и трогательного отца. Девочке было лет одиннадцать – двенадцать. Худенькая, бледненькая, хрупкая, она была странным отпрыском крепкого, коренастого, седого отца и крупной, раза в полтора выше мужа, полной соков мамы. Девчушка действительно уже училась музыке, но музыкальные ее данные были посредственные и продвигались мы неторопливо. А вот общение с ней было удовольствием, ибо ученица была наделена – ко всем несходствам в добавление – редким душевным изяществом. Интересно, что стало с нею потом? Сейчас, надо полагать, она уже вполне сложившийся человек лет семидесяти с небольшим.
Так я, можно сказать, музыкально двух генералов накормил. На подходе был третий.
Служила на какой‑то штабной работе у нас еврейская девушка, Ривочка, родом из Белоруссии. Весной, в мае, к ней приехала погостить ее сестра Миррочка. Ривочка спаслась тем, что была в армии, Миррочка партизанила всю войну. Я смотрел на эту девушку из белорусских лесов с восхищением, снизу вверх, хорошо различая героическое гало. Случилось так, что Ривочке пришлось выехать на несколько дней в поле, на маневры, и она просила нас, ее приятелей и приятельниц, развлекать сестру. В тот воскресный день я был свободен и увез Миррочку куда‑то за город, вернулся часам к семи. На пороге дома офицеров стоял бледный майор Смолов, начальник Дома. Он ждал меня.
– Где тебя носит! – кричит он страшным голосом и добавляет еще несколько неконвенциональных слов:!!
Тебя командующий ищет!
Вот оно. Меня разыскивает Командующий 43–й армией, Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета, генерал– полковник Попов. Я ему нужен.
Наскоро почистив сапоги, я бегу к самой большой, трехэтажной генеральской вилле на берегу озера. А сам быстренько соображаю, зачем я ему понадобился. Я выбирал его в Верховный Совет и потому знаю генеральскую биографию. Он в Красной Армии с 1919 года, пению не учился. Детей нет. Ага, кажется, у него молодая жена, говорят – опереточная актриса. Может быть, ей хочется петь? Или у него просто гости и надо поиграть под танцы?
Последняя версия кажется правдоподобной – все окна виллы ярко освещены, мелькают тени и слышатся праздничные клики. Чертог сиял. Захожу. Действительно, гости, праздник – и генерал просит поиграть. Ну, мы, младшие техники – лейтенанты, – люди негордые, можем и под генеральские танцы кой– чего изобразить. Если еще Командующий вежливо просит.
Когда праздник стал увядать, генерал велел мне не уходить. Проводив последнего, он подсел ко мне – и с другой просьбой! Не в пошлых танцах, оказывается, дело было, это так, повод… И опереточная жена не при чем. Выясняется, что до судьбоносного ухода в Красную Армию в 1919 году он учился в духовной семинарии! Недаром и фамилия и него такая. В семинарии, кроме прочих наук, обязательно учили музыке: в будущем приходе надо быть мастером на все руки, и хором руководить, так что извольте владеть инструментом, скрипочкой. В Красной армии Попов музыкальными делами не занимался. Но вот сейчас, война кончена, можно расслабиться, да тут и скрипка трофейная есть, и соблазняет как‑то…
– Товарищ генерал, – говорю я честно, – я на скрипке не умею. Ни играть, ни учить.
– Это ничего, – властно возражает Командующий. – Будешь мне наигрывать мотивчик, а я буду по слуху подбирать. Первый урок завтра, в тринадцать часов.
Ну, вот и завтра наступило. Тринадцать часов. Я наигрываю для начала нехитрый мотивчик, Командующий пробует его поймать. Фальшиво. Он слышит, что фальшиво, пытается нащупать верную ноту. Почти поймал! Нота уже приблизительно верная, и мы можем перейти к следующей! Нет, не то. Не то. Совершенно не то. Ага, вот тут! Ну, примерно в этом районе… В других случаях человеческое упорство в движении к цели вызывает уважение и даже восхищение. Но когда при этом смычок, как кажется, зажатый в кулаке, елозит по струне…
Нет, я положительно в сорочке родился! И мама мне говорила, что в сорочке: у генерала сохранилась способность к самокритике, в том числе и музыкальной. Он слышит, что получается. Ему становится неловко.
– Что‑то у меня пальцы как сосиски стали, – говорит он решительно, отложив скрипку в сторону. – Пойдем лучше чаю попьем. Эй, Ванька, Манька, кто там! Чаю лейтенанту!
И мы, Командующий и я, чинно пьем чай с вареньем.
– Хочешь, – спрашивает он вдруг, – я тебе свой парадный мундир покажу?
Командующий обязан быть психологом и угадывать тайные желания своих подчиненных.
– Хочу, товарищ генерал.
Попов был высокий, крупный, широкий в кости мужик. И молодая его жена была здоровенная собой. И в спальне вся мебель соответствовала – как у Собакевича. Генерал достал из циклопического шкафа парадный мундир – весь, от шеи до стыда, в орденах и медалях, отечественных и иностранных. Как в броне.
– Ну что, хорош?
Мундир был и вправду хорош, ничего не скажешь. А демонстрация была не без повода. В тот день Попов получил еще два польских ордена, которые пришлось привинтить уже совсем внизу. Ну, хотелось хоть кому‑нибудь показать. Все‑таки. Простим ему эту слабость – тем более что уроки скрипичной игры этим и завершились. Мне случалось еще приближаться к дворцу командующего, но по другим поводам.
* * *
В ансамбле песни и пляски 43–й армии имелось все необходимое и достаточное для такого рода художественных коллективов. Был начальник, Иван Иваныч Чемезов, капитан, тот самый, который, не зная меня, стал защищать мои интересы и выпросил меня у генерала Щеглова на 23 февраля. Он был добрый и славный человек, и ансамбль под его крылом существовал спокойно и достаточно благополучно. Костяк составлял группа музыкантов – два – три скрипача, контрабас, разного рода духовики, ударник, аккордеонистка, всё прожженные профессионалы, на все руки мастера. Собравшись на репетуху,спрашивали, чего лабаем,a cлaбаmьумели что угодно. Был замечательный, на грани гениальности, джазовый пианист, тот, который не знал нотной грамоте, слухач,Жора Иоанисян. Он лaбάлджаз как дьявол; я подсмотрел у него множество секретов. Был небольшой, но достаточно слаженный хор с грамотным руководителем. Были солисты. Исполнительница русских народных песен имела низкое и хрипловатое этнографическое контральто и необходимого формата бюст, который полагается подпирать вручную во время исполнения. На одном из наших концертов, в момент, когда я был не занят и был в зале, сидевший рядом поляк, увидев ее на сцене, побледнел и зашептал мне в ухо: «Если я правильно помню, это по – русски называется грудь колесом, да?» Был парень, Володя Рожнятовский, которого природа наградила сильным баритоном и прекрасным слухом. Он был музыкально неграмотен, но быстро схватывал мотивчик и выучивал слова, мы с ним занимались регулярно (вот где сгодился нотный пианист!) и успешно выступали в шаляпинском репертуаре – от русской удали до куплетов Мефистофеля. Володька был маленького роста, коренаст, сильно курнос, с низким лбом и маленькими глазками – такими древние греки изображали сатиров и подобных им существ низшего ранга. Чтобы довершить сходство с мифическими обитателями лесов, природа преподнесла ему еще один дар, вполне сатирического свойства. Об этом даре ходили легенды – и несколько оголодавшая женская половина населения Щецинка, независимо от гражданства и национальной принадлежности, не давала Володьке прохода. Мужичок он был крепкий, но случались утра, когда он еле держался на ногах.
Да, разумеется, имелась танцевальная группа, без этого невозможен «Ансамбль песни и пляски43–й армии». Так вот, о пляске.
Еще в те дни, когда я на сцене пустого офицерского зала готовился к своему первому выступлению, я заметил однажды, что из закулисной тьмы меня стали разглядывать чьи‑то глаза. Это была балерина – балетмейстер – постановщик ансамбля, Ольга Николаевна Ракитяньска – Деплер. Лет ей было этак 27, но за спиной была сложная биография. Она начинала свою карьеру на сцене одесского оперного театра. Начинала, видимо, успешно, ибо спустя/некоторое время стала примой – балериной оперного театра в Харькове. Там ее застала война – и то ли нечаянно, то ли как, но бежать из Харькова она не успела. Танцевала в оккупированном Харькове, а затем то ли ее увезли, то ли сама уехала в Германию, где тоже танцевала, так как больше ничего делать не умела. Видимо, там она вышла замуж и родила дочку. Может быть, она вышла замуж еще в Харькове – и там родила дочку. Я подробно не расспрашивал. Ее нашли советские войска и освободили в лагерь, вместе с дочкой и свекровью. Муж пребывал где‑то в Германии, его судьба проступала в ее рассказах неясно. В лагере ее разыскали власти – и привлекли в ансамбль. То есть, числилась она за лагерем, но, будучи специалистом редкой квалификации, жила и работала в Щецинке, как бы на вольных хлебах. В лагере, для верности, оставалась маленькая дочурка с бабушкой. Каждый раз, когда Ольга съедала что‑нибудь вкусное, она вздыхала: ах, моя бедная крошечка…
У Ольги был друг – бравый майор, адъютант командующего. Это было красиво, более того, это было правильно: у главного генерала – красавец адъютант, у адъютанта – любовница балерина. Для Ольги это тоже было полезно, ибо как‑то укрепляло ее неясный статус.
Как только состоялось знакомство, Ольга стала меня расспрашивать о событиях культурной жизни на родине, которой она как бы несколько изменила. Рассказывая о том о сем, я не мог миновать недавний конкурс музыкантов – исполнителей. Когда я назвал имя Святослава Рихтера, Ольга всплеснула руками и воскликнула: Светик!
Светик был влюблен в нее, когда она танцевала в одесском оперном театре, отец Светика служил там органистом. Это правда. Узнав про Рихтера, она захотела немедленно ему написать. Я посоветовал ей послать письмо на адрес Московской консерватории. Рихтер отвечал ей длинными теплыми письмами, одно она дала мне прочесть.
Ольга жила там же, в доме офицеров, этажом ниже, мы оба трудились в ансамбле и дружили. Этого было достаточно, чтобы население советской колонии нас заподозрило. Я вообще‑то, вопреки модному поветрию, не собираюсь разговаривать на подобные темы. Но сейчас надо сделать исключение, поскольку без необходимых разъяснений дальнейший рассказ может быть неверно понят. Так вот, ничего такого не было и быть не могло. Во – первых, Ольга была старая – ей было, как я сказал, лет 27, а то и все 28. Кроме того, она была балерина и потому, или еще почему‑то, у нее заметно выдавались косточки на ногах, у основания большого пальца. Это уж и вовсе пресекало любое искушение. Все, сюжет исчерпан.
Я как генеральский пианист пользовался известными послаблениями. Нам, советским офицерам, настоятельно не рекомендовалось вступать в контакт с местным населением. Я на эти рекомендации не обращал внимания, но меня никто не наказывал за это и даже не предупреждал.
Одним из моих местных знакомых оказался пан Гурвич. Панство Гурвич уцелело, потому что успело бежать в советский тыл. Но оставаться там им не захотелось – и после войны они немедленно вернулись в Польшу, на западные земли, где все было ничье и можно было развернуться. Пан был человек тучный, с очень большим животом, и сильно напоминал капиталиста с советских плакатов 20–х годов. Он и был капиталистом: ему принадлежала большая «кавъярня», т. е. кофейня, и примыкающий к ней «Огрудек Адрия», то есть сад «Адрия». Капитализм Гурвича был диалектическим – в согласии с духом времени, ибо перспективы социального устройства послевоенной Польши были туманны. Поэтому огрудек с кавъярней были записаны на пани Гурвич, ну – на всякий случай, а сам пан скромно служил в государственном учреждении, кажется – в мэрии, и к годовщине свободной Польши получил орден.
Пан Гурвич, естественно, размышлял о способах увеличения доходов своей жены. И тут ему пришла в голову интересная мысль. Огрудек у них был обширный, в центре была сооружена сцена с защитно – акустической раковиной. И он предложил мне устроить сольный вечер. Клавирабенд в саду. Это было увлекательно, но непонятно юридически. Пришлось справиться в политотделе, может ли офицер Советской армии давать сольные концерты для местного населения. Выяснилось, что может, но не в военной форме. В штатском – можно. Штатского, правда, не было, но удалось кое‑что собрать у людей, у кого пиджачок, у кого даже и галстук. Другая проблема – с репертуаром, на два отделения получалось как бы жидковато, а учить новое было некогда. Я решил пригласить Ольгу – пусть станцует что‑нибудь сольное в первом отделении и что‑нибудь еще – во втором. Заодно заработает малость, ей уж точно не помешает, пошлет гостинец своей бедной крошечке.
Все слажено, установлена дата, по всему городу развешаны большие, типографским способом исполненные афиши. Одну такую я привез с собой и гордо хранил еще лет двадцать – пока она не потерялась при очередном переезде с квартиры на квартиру. В городе, естественно, оживление, последний фортепианный вечер тут был, вероятно, когда Щецинек был полноценным Нойштеттином, и людей, которые его слышали, тут давно уж нет… Я усиленно занимаюсь, срепетировали танцы с Ольгой, все готово.
Так. Наступает назначенный апрельский вечер, собираются тучи и начинает накрапывать мелкий дождик. Народ отважно покупает билеты, толпится под зонтиками – но дождик продолжается… Что делать – находчивый пан Гурвич приглашает всех пересидеть непогоду в кафе. Конечно, концерт откладывается, будет объявлено особо, но пока что – «запрашамы панство до локалу». Так это звучит. Кафе имело в тот вечер недурной доход. Нас с Ольгой, естественно, принимают за хозяйским столиком, кофе, пирожные, ликер, коньячок… Тем временем дождик прошел – и для оставшихся, в качестве премии, был исполнен фрагмент концерта. Правда, Ольга во время танца разок упала, но накладку можно было отнести за счет непросохшей сцены.
Стемнело. Ольга попросила меня проводить ее к ее майору. Он жил, разумеется, во дворце командующего, в первом этаже.
– Боря, – спрашивает она меня вдруг, – что вы думаете о майоре?
В возрасте двадцати одного года я был максималистом.
– Ольга, – говорю я, – он, конечно, эффектный парень, красивый и на виду, ничего не скажешь. Но он, по – моему, мало интеллигентен. Он что‑нибудь читает? У него хоть одна книга стоит где‑нибудь на полке? Вообще, о чем вы с ним разговариваете? Кроме того, как он за вами ухаживает?! По – моему, вы ему нужны только для удовлетворения животной страсти. Он вам когда‑нибудь сделал хоть какой‑нибудь, ну – символический, подарок? Букет цветов принес?
Так, беседуя о майоре, мы дошли до места, и Ольга юркнула в известную ей дверь.
Как выяснилось впоследствии – я говорю со слов самой героини, – дела в первом этаже приняли неожиданный оборот. Майор, в согласии со сложившейся поведенческой нормой, захотел было приступить к делу, но хватившая коньяку Ольга его остановила.
– Постойте, – сказала она твердо. – Мне кажется, что вы неинтеллигентны. Вы ничего не читаете! Когда вы прочли какую‑нибудь книгу? И потом, как вы за мной ухаживаете? Разве так ухаживают за любимой женщиной! Вам бы только удовлетворить животную страсть. Хоть один цветочек…
Возможно, обалдевший майор в конце концов получил свое. Про это Ольга не рассказывала. Но новый тон, как мы увидим, заставил его насторожиться.
* * *
В каком бы углу ты ни оказался, вокруг образуется паутина человеческих связей. Так и в Щецинке.
Профессор Рожанский был первый польский интеллектуал, с которым меня свели обстоятельства. Он не был полным профессором, в Польше, как оказалось, этим званием наслаждался даже гимназический учитель. Рожанский был музыкант, пианист, историк и теоретик, интересы были общие. Меня тогда восхищала его культура, профессиональная и гуманитарная эрудиция. Я не знал тогда, как высоко была поднята в Польше планка профессионального образования для исполнителей и музыковедов. Не могу вспомнить, как мы познакомились. Я любил бывать у него дома – он жил один, посреди главной комнаты стоял рояль, с которого он стирал пыль не каждый день. На рояле и кругом лежали ноты, книги. Мне было интересно там бывать. Он был для меня окном в мир польской, а в некотором смысле и западной или, скажем так, ориентированной на Запад образованности. Это важно. Рожанский отчасти отвечает за мое полонофильство.
Наш ансамбль обслуживал прежде и больше всего наши войска. Но были у него и другие задачи, не без политически – пропагандистской подкладки. К ним относились и концерты для польского населения. Вещь это была тонкая, не могли же мы, скажем, нагрянуть вот так себе, за здорово живешь, в какой‑нибудь польский город, объявить концерт, разумеется платный, и развлекать народ. Мы, напоминаю, – политотдельская часть.
Для такого дела существовал специальный общественно – политический механизм – Товажыство пжыязни польско – радзьецкьей, то есть Общество польско – советской дружбы. В Щецинке дружбой ведала энергичная и восторженная пани, имя которой я силюсь вспомнить вот уже который день. Она не только организовывала наши выступления для местных, но бывала едва ли не на всех наших концертах, знала всех и всеми восторгалась. Иногда она приносила цветы особо ценимым советским солистам. Было видно, что дело польско – советской дружбы находится в надежных руках. С таким человеком всегда приятно было побеседовать на польско – русском диалекте.








