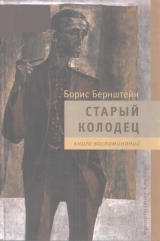
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Вернувшись в Таллинн, я передал машинописный экземпляр археологического сочинения академику. Когда я позвонил ему некоторое время спустя, он сказал, что только начал читать, там есть ошибки, он их исправляет по ходу чтения, и попросил дать ему время. Я дал ему время, но передержал – позвонив в другой раз, я услышал, что начался полевой сезон, академик на раскопках. Впрочем, он оставил мне пакет. В пакете была рукопись и отзыв. Первые страниц десять рукописи были испещрены поправками педантичного ученого, далее пометок не было. Зато в отзыве было написано, что править всю рукопись невозможно по причине обилия ошибок и нелепостей. Очевидно, на десятой странице терпеливый академик осатанел.
Я отправил рукопись и отзыв в Москву – без комментариев. Все было ясно. Следующий съезд редколлегии был посвящен уже другому тому – другие дела, другие страсти, другие события. Некоторые были настолько занимательны, что отодвигали в тень насущные проблемы истории искусства народов СССР.
Украину в редколлегии представлял видный человек – то ли зав. сектором, то ли директор соответствующего академического института, сейчас уже точно и не помню, – Турченко по фамилии. Крупный, чернявый, с крепкой шеей, он выделялся даже на фоне Академии художеств своей идеологической прочностью. Говорил он всегда весомо, неторопливо, авторитетно, партийная точка зрения была очерчена ясно и неколебимо, – казалось, мы слышим голос самого Центрального Комитета. В деликатных случаях он выражался с неменьшей определенностью, указывая, что тут партийный взгляд еще окончательно не установлен, надо обождать. Между тем, отстаивая везде и всегда партийную позицию, он гармонически сочетал общественное и личное. Сотрудничество с Научно – исследовательским институтом Академии не прошло даром – вскоре он защитил там докторскую диссертацию. Затем, спустя недолгое время, на него пала полугодовая или годовая, тоже не вспомнить, стипендия ЮНЕСКО, он провел ее в Соединенных Штатах, разыскивая там следы американо – украинских художественных связей. Сотрудничество с ЮНЕСКО тоже не прошло даром: вскоре он был назначен на должность руководителя отдела музеев этой организации – с местом пребывания в Париже. Не знаю, каков был его музейный опыт, но положенный срок ссылки вдали от родины, добрых пять лет, он там отбыл. Понятно, что, ведая музеями мира, он уже не мог участвовать в работе нашей скромной редколлегии – его заменил другой коллега.
И вот однажды, когда очередной раз в бывшем щукинском дворце собралась редколлегия, москвичи тихонько, шепотом, стали пересказывать приезжим удивительный слух: говорят, что по окончании каденции Турченко не пожелал вернуться, но, как тогда это называлось, выбрал свободу. Украинский коллега полностью подтвердил все сведения: да, Юрий Яковлевич в последний день вежливо попрощался со своими сотрудниками в ЮНЕСКО, а на другой день исчез – и вынырнул в облике человека, не согласного с культурной политикой советской власти, а если по – нашему, то в качестве невозвращенца, клеветника и предателя. Более я о Турченке не слыхал, боюсь, что в свободном мире его ученая карьера не задалась.
Естественно, что новость о метаморфозе Турченки оттесняла на второй план будничные заботы историков искусства народов СССР. Но как‑то случилось, что я вспомнил о первобытном искусстве народов Прибалтики и спросил у главы редколлегии – он же заведующий соответствующим сектором, – как обстоит дело с текстом, который был беспощадно отрецензирован эстонским академиком. Знаете, сказал мне с прощающей улыбкой Борис Владимирович, замечания академика Моора были столь точны, что мы их учли, и теперь все в порядке.
Так и напечатано. Академика Моора давно нет в живых, а том этот, по моему глубокому убеждению, никто из специалистов не читает. Полагаю, что из неспециалистов тоже.
Государственная премия не была получена. Последний том вышел году в 1984–м, генеральные секретари ЦК умирали один за другим, замешательство было велико, издание получило медаль Академии художеств, и ладно. Досталось ли что‑либо наиболее продуктивным авторам – не знаю, да кому теперь это интересно?
Между тем, у первобытной интриги был второй план. На одном из заседаний редколлегии, в перерыве, меня как‑то незаметно пригласила в свой кабинет заместительница директора Института, она тоже была членом редколлегии. Закрыв плотно дверь, она рассказала мне интересную историю. Оказывается, бойкая коллега и провидица премий еще перед обсуждением ее продукта решила обезвредить возможного оппонента, который когда‑то пресек ее домогательства. Она отправилась к самому президенту Академии художеств, куда, очевидно, была вхожа, поскольку, начиная с тех самых пор, беззаветно верила Партии. Там она живо изобразила, какую вредную позицию занимает представитель Эстонии, известный распространитель трех основных ересей – формализма, ревизионизма и буржуазного национализма, и предложила походатайствовать перед властями республики об удалении его из состава редколлегии. Я к памяти того президента отношусь плохо, но не могу отказать ему во многих умениях. Он понимал, что давление на власти прибалтийской республики, в своем роде витрины декоративного либерализма, – вещь деликатная, и потому ввязываться не стал. Он поручил тонкую операцию директору научно – исследовательского института, известному борцу за чистоту принципов соцреализма. Директор в свое время деятельно участвовал в пакостях, направленных против меня персонально, но, уловив в поведении президента некую ноту, велел заняться Бернштейном своей заместительнице – той самой, которая мне рассказывает сейчас, как было дело. Заместительница не могла не исполнить распоряжение, но по возможности испортила первоначальный замысел. Она позвонила в центральный комитет эстонской компартии и с кем‑то там переговорила. Но как влияет на ход дел формулировка вопроса и интонация исполнителя! Она сообщила партийному начальнику, что от Эстонии в редколлегии такого‑то издания республику представляет такой‑то. На таллиннском конце провода приняли к сведению это сообщение. Тогда Москва спросила, есть ли у Комитета возражения против такого положения вещей. Тогда Таллинн ответил, что возражений нет. Тогда директору Института было доложено, что сделать ничего нельзя, ЦК эстонской компартии поддерживает кандидатуру Бернштейна…
Атмосфера в Академии художеств была удушающая, в Институте, который издавал заранее обреченную «Историю», – тоже. Но, как видим, везде бывают порядочные люди.
Впрочем, порядочность давалась трудно. Об этом – последний эпизод.
Порядок работы редколлегии был такой. Когда были готовы или почти готовы тексты очередного тома, их рассылали членам редколлегии для изучения, а затем уж все съезжались в Москву на обсуждение. Порядок издания отдельных томов не был обусловлен хронологией и, соответственно, нумерацией. На то были высшие соображения. Скажем, седьмой том увидел свет в 1972 году, а шестой – в 1981–м. Да и то сказать, седьмой опоздал, по замыслу ему следовало выйти в 1970–м. Я готов предоставить читателю возможность угадать, почему был необходим именно такой порядок. Ну, подумайте. Ну, еще одна попытка. Не получается? Даю наводку – седьмой том содержал описание искусства народов СССР от Великой Октябрьской Социалистической Революции до 1941 года. А шестой рассказывал о второй половине XIX и начале XX веков. Теперь понятно? Не совсем?
Мне тоже была не вполне понятна эта инверсия в далеком 1966 году, на начальном собрании редколлегии, – пока председательствующий, расцветая в счастливой улыбке, не напомнил нам, что приближается Пятидесятилетие и Столетие. Так и сказал: Пятидесятилетие и Столетие. Он не сказал – чего, само собою разумелось – чего. Но мне, в моем эстонском далеке, похоже, выпавшему из реальности, не сразу стало ясно, о чем это он. Потребовалось специальное усилие, чтобы в конце концов сообразить, что близятся нешуточные даты – пятидесятилетие Великой Октябрьской, а затем – столетие со дня рождения ее Вождя. К пятидесятилетию было никак не поспеть, но выложить на стол революционный том к столетию – такова была историческая необходимость. В нужный момент, правда, положить на стол самый главный том все равно не удалось, но телегу впереди лошади поставили.
С шестым томом предстояли трудности – именно там следовало осветить начало XX века с его нестерпимым для академического сознания русским авангардом. Поэтому введение к тому взялся писать сам заместитель директора Института по научной работе, ученый, стоявший тогда на прочных соцреалистических позициях. Статья была набором самых что ни на есть затасканных штампов с добавлением бьющей в глаза лжи. Автору было важно защитить реалистическую репутацию русского искусства. Увлекшись, он вовсе забыл, что это история искусства народов – народы вообще не были упомянуты. Словом, на соборе редколлегии мне было что сказать. Помимо расхождений по общим вопросам, у меня были еще и частные основания: автора введения я недолюбливал лично, поскольку он однажды поступил не вполне элегантно по отношению к одному моему другу, а позднее воздвигал гонения на другого. Я не хотел отказать себе в удовольствии, хотя понимал, что моя критика мало что изменит. Правда, я был не одинок, у меня была замечательная союзница, Лутфия Айни, прекрасный искусствовед и яркий человек, другой enfant terrible в более или менее гармоническом редакционном хороводе.
Заседание почтил своим присутствием сам замдиректора, он же автор обсуждаемого введения. Пока я отводил душу, терзая его текст, автор – сидя отдельно в почетном углу – что‑то чиркал на бумажке. Я полагал, что завтра он будет растирать меня в порошок. Такова была мера моей наивности и институционального невежества. Я не знал, что механизмы борьбы идей работали на основании других принципов. Назавтра он вовсе не пришел. Меня растирали в порошок другие лица, его подчиненные, – начиная с главного редактора и кончая неизвестным мне научным сотрудником сектора, весьма, надо сказать, интеллигентного вида [37]37
Впрочем, моя критика имела известные последствия – в окончательном варианте введения появились народы, а некоторые формулировки были отредактированы. Скажем, в исходном варианте было ясно сказано, что пока западное искусство – в первые десятилетия XX века – разлагалось и загнивало, русское искусство сохраняло неколебимую верность принципам реализма. В отредактированном тексте эта мысль звучит более, как бы это выразиться, диалектично, вот так: в странах Западной Европы «…в начале XX века появились один за другим фовизм и экспрессионизм, кубизм и абстракционизм, дадаизм и сюрреализм и другие модернистские течения, нанесшие искусству серьезный ущерб. В России же влияние модернистских явлений было не столь значительно; они всегда оставались на втором плане художественной культуры и поэтому не могли расшатать ее прочные реалистические традиции» (История искусства народов СССР. Т. 6. М.: Изобразительное искусство, 1981. С. 15). Все‑таки, хоть и на втором плане, а помянул…
[Закрыть].
Поскольку не все подлежащие обсуждению материалы успевали рассылать на места, приходилось кое‑что дочитывать в Москве. Вечером, в гостинице, я развернул очередную пачку. Среди разных текстов там была и глава о русском декоративно – прикладном искусстве второй половины XIX века. Превосходная, надо сказать, глава – компактная, логично организованная, мускулистая! Вот так надо писать для общих трудов, подобных нашему. Имя автора мне ничего не говорило. Утром, на очередном заседании, я высказал все хорошее, что думал об этом разделе. Когда был объявлен перерыв и все разбрелись по коридорам, ко мне подошел тот самый интеллигентного вида сотрудник, который вчера деятельно участвовал в процедуре стирания меня в порошок. Он сказал буквально следующее:
– Большое спасибо за добрые слова о моей работе. Простите за то, что я вчера говорил. Я так не думаю. Мне приказали, я не мог уклониться…
Не знаю, требуются ли здесь какие‑либо пояснения. Надо ли напоминать, что он, возможно, был членом партии и это было партийное задание? Или просто административное распределение ролей? А не сделаешь – выгоним, куда пойдешь? Словом, у меня нет ни малейшего намерения осуждать этого человека, скорей напротив. Нехорошее чувство я испытал тогда, отголосок его, вспоминая, слышу сейчас, но и тогда, и сейчас – не по отношению к нему. Вот что система и ее ретивые агенты могут сделать с человеком. А это ведь далеко не худший случай – так, скорее рутинный.
Я понимаю, что эти два эпизода – о заместительнице директора и интеллигентном сотруднике, – поставленные рядом, взывают к философствованию на тему свободы отдельного человека в тоталитарной системе. Известно, где нет свободы выбора, там нет и ответственности. Если ситуация отсутствия свободы затягивается, наступает необратимая трансформация – духовный орган ответственности вырождается и отмирает от неупражнения. Если мне память не изменяет, это, кажется, ламаркизм. В биологии идея, может, и устарела, но если посмотреть на новейшую историю освободившейся России… [38]38
Я об этом писал еще на разгоне горбачевской перестройки. Оказывается (нехорошо хвалиться, но перегибать палку стыдливости тоже не следует), в статье было нечто пророческое – ну, не пророческое, а прогностическое. Впрочем, предсказывать было нетрудно, помощь Аполлона не требовалась. См.: Шутовской колпак и фонарь Диогена // Таллинн. 1988. № 5. С. 85–91.
[Закрыть]
Однако и при тоталитарном режиме, ввиду его несовершенства, у каждого был свой сектор свободы, где кое‑что зависело от нас. Даже сама угловая величина этого сектора. И, вероятно, у каждого из нас есть за что с себя спросить. У меня – несомненно.
…Еще одна маленькая хитрость.
Все дела, связанные с «Историей искусства народов СССР», никак не оплачивались. Никаких гонораров. И это было хорошо.
Это было хорошо, поскольку удобно вписывалось в плановые рамки преподавательской работы. Не знаю, как сейчас, а в советском высшем учебном заведении царил продуманный плановый порядок. Если, скажем, ты старший преподаватель, то ты должен выработать, к примеру, 1400 часов в год. Если доцент – 1200. Из них половину составляет академическая нагрузка – лекции, консультации, экзамены, руководство чужой научной работой – курсовые сочинения студентов, диссертации аспирантов и докторантов. Другая половина – твоя собственная научная работа, за которую (внимание!) в случае публикации ты гонорар получать не должен, так как она оплачена твоей зарплатой. Такая работа называется плановой: ты ее заранее вписываешь в официальный план и затем, в конце года, отчитываешься за ее выполнение. Измерение научной продукции требовало количественного выражения и потому не могло учитывать качество. Наука, измеренная в часах, выглядела так: один авторский лист ученого текста стоит, скажем, 200 часов. Конечно, находились умники, которые упоминали гениальные научные открытия, изложенные в коротких текстах. Но эти рассуждения только запутывали дело.
Естественно, если ты нормальный человек, ты не станешь вставлять в план работу, за которую можно получить гонорар. Следовательно, плановая работа – это работа гонорарно безнадежная, никто тебе за нее платить не будет. Если выразиться более резко – ломаного гроша не даст. Известны были и другие способы заполнения научной нагрузки, но их мы сейчас обсуждать не будем. Мое разностороннее участие в издании «Истории искусства народов СССР» было постоянной плановой работой. Хватило на добрый десяток лет.
* * *
* * *
Тайное влечение к теоретизированию никогда меня не покидало. К тому же я с самого начала стал читать курс эстетики – марксистско – ленинской, понятное дело, другой в пятидесятые годы и быть не могло. Следовательно, я должен был следить за событиями в этой области – и эта обязанность не была мне в тягость. Напротив, меня манили владения королевы Квинтэссенции с их темными ущельями и сверкающими ледяными пиками. Во второй половине пятидесятых годов стало возможным некоторое движение эстетической мысли. Еще совсем недавно она демонстрировала признаки клинической смерти.
Я почему‑то до сих пор помню, как после выхода в свет трудов т. Сталина об экономических проблемах социализма в СССР в ведущем философском журнале появилась статья – помню имя автора: В. С. Кеменов, – где была показана незыблемая объективность законов эстетики. Напоминаю, что т. Сталин настаивал на объективности экономических законов, при социализме – особенно. Даже мне, в те времена нафаршированному марксизмом, но пребывавшему внутри экономики социализма, последний тезис показался забавным. В. Кеменов с присущей времени поворотливостью перенес идею вождя из плоскости экономики в эстетическую, и это был верный ход – ибо любое частное замечание вождя обладало мощью последней универсалии. Но я, как ни старался, мысль толкователя усвоить не мог, хуже того – просто не понимал, о чем это он толкует, какие это такие законы эстетики имеет в виду и в чем неумолимая объективность их действия. Правда, сам Маркс в одном рассуждении обронил замечание о творчестве по закону красоты. Рассуждение было как раз темноватое – и жрецы оракула могли толковать его многообразно. Я и сам было пытался. Но не будем об этом. Если меня уже тогда смущала законообразность красоты, то объективность законов искусства вызывала еще большие сомнения. Между тем, у этой объективности впереди было славное будущее.
В середине пятидесятых годов стали ощутимы новые веяния. Надо помнить, что мировая эстетическая и искусствоведческая мысль была для нас закрыта [39]39
Изредка где‑нибудь в Издательстве иностранной литературы находились отважные люди – и тогда появлялись редкие переводы; в 1962 году, например, был издан томик трудов Романа Ингардена – с необходимой идеологической прививкой в виде предисловия. Была даже издана небольшая антология зарубежной эстетики с загадочным названием «Современная книга по эстетике», вышла она с грифом «Для научных библиотек», – это означало, что в продажу выпущена не была и в библиотеках не каждому смертному была доступна. Заодно уж вспомню, что во второй половине восьмидесятых, на заре перестройки, я попал в книжный магазин захолустного городка в Словакии; там, в темном углу, я нашел изданный в Москве сборник переведенных на русский статей дерзкого постпозитивиста Пола Фейерабенда (Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986) – с тем же бессмертным грифом.
[Закрыть]. Там свирепствовал идеализм, разносимый «дипломированными лакеями буржуазии», как любил выражаться Ильич. Марксисты, в которых на Западе не было недостатка, и те, как правило, ошибались, нередко – грубо, и указом для нас быть никак не могли. Потому первые попытки элементарного движения мысли можно было предпринимать только изнутри сморщенной и отвердевшей в этом виде доктрины, самоходом.
Так, одним из незыблемых законов искусства было определение его сущности как способа познания мира. Из так называемой «ленинской теории отражения» следовало, что искусство – в числе прочих умственных отправлений – отражает и познает окружающий мир, а отличие его от науки в том, что искусство плоды познания демонстрирует в образах, тогда как наука – в понятиях. И вот в середине пятидесятых увидела свет книжка, в которой автор, никак не подвергая сомнению основы, позволил себе задаться вопросом, в чем отличие самого предмета художественного познания от предмета научного, – и назвал этим предметом человека [40]40
Буров А. И. Эстетическая сущность искусства. М., 1956. Эта антропологическая позиция получила продолжение и дальнейшую разработку в многолетних исследованиях моего друга и сокурсника, петербургского искусствоведа Роальда Рабиновича.
[Закрыть]. Тот факт, что эта книжка стала событием, сам по себе достаточен для характеристики интеллектуальной атмосферы тех лет. Чуть позднее, к концу десятилетия, разгорелась эстетическая дискуссия – я хотел было написать «настоящая», но вовремя одумался. Она могла бы быть настоящей, если бы в качестве генерального фона не выступала незыблемость доктрины. Важнейшими аргументами в спорах были обвинения в отходе от марксизма или, напротив, доказательства верности марксизму. Тем не менее сам факт спора, сопоставления различных позиций, в ходе которого никого не уничтожили, хотя кое – какие доводы выглядели скорее политическим доносом, был симптомом наступления других времен. Вскоре эта дискуссия была окрещена «спором природников и общественников»: природники, представляя себя в качестве истинных марксистов, защищали наиболее дремучие позиции – по их мнению, эстетические свойства так же присущи природным предметам, как их физические или химические характеристики. Тут всепокоряющая объективность праздновала свои наиболее впечатляющие победы. Общественники не отвергали самое объективность – этого еще не хватало! – но утверждали ее социальную, а не естественную природу. За что и получали тяжкие обвинения в субъективизме, т. е. в разработке и пропаганде еретического учения. Безусловным лидером общественников был мой друг с университетских времен Л. Н. Столович, который в своей первой книге – «Эстетическое в действительности и в искусстве» (М., 1959) – в пределах возможного внутри советского сознания второй половины пятидесятых нашел много остроумных соображений в обоснование своей позиции. Никакая серьезная история эстетики в Советском Союзе не будет полной без описания того эпизода и главной роли Леонида Столовича в тогдашних спорах.
«Внутри советского сознания»– выражение, которое кажется двусмысленным, и справедливо. Его можно понять так, что конфигурации сознания были навязаны силой и их ревизия была невозможна под страхом наказания. В результате являлся хорошо известный феномен двуязычия: думаю одно, говорю/пишу/поддерживаю другое. Но его можно понять и так, что этот тип сознания был органически усвоен и переживался как организующая группа персонального опыта. И это тоже будет верно по отношению ко мне и многим моим современникам и друзьям пятидесятых годов. Человек находился столько же внутри советского сознания, сколько советское сознание находилось внутри него. Теперь, задним числом, я замечаю, что в таком состоянии умов было своего рода удобство и даже определенный интеллектуальный уют.
Голландские жанристы XVII века любили писать интерьеры чисто прибранных зажиточных домов, где происходили вещи повседневные, незначительные, чья рутинность как раз и была залогом их великой жизненной ценности – залогом спокойствия, порядка и благополучия. Хорошо одетые по моде своего времени женщины читали письма, писали письма, беседовали с кавалерами, пригубливали бокал вина, вязали, хозяйничали, давали указания служанкам, музицировали в одиночку или в небольших компаниях… По обычаю тех времен, комнаты непременно были украшены картинами; современники сообщали, что картины висели даже в крестьянских домах. Однако картина в квартире и картина в картине – вещи разные: живописец отбирал для своей картины такие картины, которые были соотнесены с ее сюжетом.
Нередко на картинной стенке можно увидеть марину – парусный корабль в бурном море. На холсте Вермеера «Любовное письмо» (из Амстердамского Рийксмузеума) картина за спиной служанки изображает парусник, который носится по волнам; на картине Габриэля Метсю «Дама, читающая письмо» (из собрания Бейт в Ирландии) служанка разглядывает похожую марину, пока хозяйка читает только что доставленное любовное письмо… По мнению знающих интерпретаторов, картины блуждающего по морям корабля должны были служить аллегорией тревог и превратностей любви. Но помимо аллегорических обозначений есть еще и другие, зрительно переживаемые смыслы. Вид неспокойной морской стихии и утлого парусника, носимого по волнам, мы невольно соотносим со спокойным, упорядоченным и законченным в себе мирком чистого, теплого, светлого, прочного бюргерского дома и улавливаем заложенный в этом сопоставлении контраст. Тут, внутри, в доме, все четко отграничено, осмысленно, разумно упорядочено, все на своих привычных местах – и все противостоит ненадежному движению корабля в разомкнутой и хаотической безмерности моря.
Примерно так чувствовали себя мы в выметенных интерьерах марксистской доктрины. Не могу сказать, что мы были вовсе идиотами или фанатиками идеи. Мы прекрасно понимали, насколько мерзки сталинские идеологические уловки, насколько убоги его марксистские философствования, – а между тем «развитие марксизма» прямо входило в функциональный комплекс вождя мирового пролетариата; мы представляли себе истинную цену и цели идеологического и культурного террора тех первых послевоенных лет, когда происходило наше духовное формирование, нам более или менее ясен был смысл неизбежной метаморфозы пришедших к власти революционеров в консерваторов, ретроградов и охранителей. Все это так.
И тем не менее марксистская доктрина была нашим домом. Тут все было упорядочено. История обретала смысл и цель. Наша принадлежность к универсальному движению была установлена, и чувство причастности нас не оставляло. В нашем распоряжении был надежный ключ к раскрытию загадок истории, и больше того – мы чувствовали себя обладателями метода, который все раскладывал по местам и всему находил верное место. Мир мысли был организован просто и с максимально возможным удобством: тут все истинно и все целесообразно расположено, тогда как вне стен доктрины – открытое море, где без руля и без ветрил носятся суденышки немарксистских идей. Напрасно хранители наших душ не допускали нас читать немарксистскую литературу и даже просто зарубежных марксистов, которые иной раз забредали невесть куда, – напрасно: мы умели их читать правильно.
Игорь Семенович Кон, известный ученый – философ, социолог, сексолог – рассказывал мне однажды, как он писал свою докторскую диссертацию, будущую толстую книгу, посвященную критике «буржуазной» философии истории. Человек серьезный, он читал все, что было необходимо для его темы, но читал особым способом – можно сказать, врожденным, или, если угодно, привитым так, как прививают дерево, чтобы получить нужных свойств плод. Я, говорил он, автоматически был настроен на то, чтобы видеть их ошибки, заблуждения, отсутствие у них объективно верного взгляда на вещи, а то и злобное отрицание материалистического марксистского подхода. Все прочее, о чем говорили подвергнутые разбору авторы, было просто незамечаемо – так уж была изогнута линза хрусталика. Поэтому и читать их было не обязательно, мы и без них, и куда лучше их, знали, как подойти к делу.
Дальнейшее развитие эстетической мысли, если таковое было необходимо, могло и должно было происходить внутри стен доктрины – в уже обставленном и прибранном доме [41]41
Во второй половине восьмидесятых годов я получил книгу, которую моя добрая московская знакомая, Эльна Александровна Орлова, представила в качестве докторской диссертации. Конечно, я готов был написать отзыв, и потому, а также по причине природной любознательности немедленно стал ее читать. Поскольку я хорошо знал автора, меня поразила одна странность. Э. Орлова – не только блестящий социолог, но социолог хорошо образованный и ориентированный в зарубежной литературе, я знал это по нашим московским беседам, – в своей книге ссылалась почти исключительно на отечественных, то бишь советских, авторов. Отзыв я написал – разумеется, положительный, но однажды, беседуя с нею после всех событий, я деликатно осведомился по поводу такой странности. Э. А. объяснила, что издательство поставило ультиматум: прежде чем ссылаться на зарубежных социологов, следовало написать специальную главу с критикой буржуазной социологии. Но на дворе были восьмидесятые годы – и, в отличие от пятидесятых, о которых с юмором вспоминал И. Кон, Э. Орлова предпочла убрать ссылки, но критиковать не стала. Нечто подобное случилось в восьмидесятые годы и с одним моим собственным сочинением: это были главы для коллективного труда по истории художественной культуры, который готовился под эгидой Ленинградского тогда еще университета. Рукописи полагалось отдавать на рецензию – так вот, рецензент, известный питерский философ, профессор и доктор наук, поставил мне в вину, что я в своих разделах слишком часто ссылаюсь на иностранные источники. Предполагалось, что если иностранные, то, значит, врут против марксизма. Ну, и непатриотично так себя вести. Упрек рецензента удалось не заметить.
[Закрыть].
Я подозреваю, что в интеллектуальной жизни современной России все еще сказывается глубоко укорененное стремление к привычно упорядоченному интеллектуальному жилью. У одних оно получает вид другого, внемарксистского исторического финализма – это еще не самый трудный случай. Другие противопоставляют опасной текучести аксиологических контуров незыблемые основания всеобщих познавательных, нравственных и эстетических ценностей – и их можно понять. Третьи – им нет счета – несколько меняют дизайн интерьера, сохраняя общую планировку: советско – марксистская обстановка выбрасывается и на ее месте располагается мебель православная или, еще того лучше, – православно – патриотически – самодержавная. Так удается сберечь матрицы исторической целесообразности, исторического мессианизма, закрепить двоичное деление мира на наше и чужое, удается замкнуться в обжитых комнатах дома, на глухой стене которого – в поучение, назидание и предостережение – повешена картинка ужасного плавания в свободном и безбрежном море независимой мысли, сопряженного с интеллектуальным риском, скепсисом, сомнением, зыбкой множественностью выбора, относительностью ориентиров, неизбежностью крушений [42]42
Лешек Колаковский, блестящий аналитик марксизма, писал как‑то, что одной из причин популярности марксизма среди образованных людей был тот факт, что в своей простой форме он очень легок; даже Сартр отмечал, что марксисты ленивы…
[Закрыть].
В начале шестидесятых несколько событий в гуманистике – во всяком случае, в моем поле зрения, – имели наибольший резонанс. На редкость несхожие по весу и по способу вхождения в интеллектуальный обиход, они, тем не менее, каждое по – своему, сыграли освобождающую роль для отечественной мысли и оставили в ней глубокий след. Я вижу их такими еще и потому, что они, так или иначе, касались моих интересов.
С одной стороны, в философские и эстетические рассуждения было введено понятие ценности, к тому времени повсеместно принятое в зарубежной гуманистике. Там оно давно стало элементарно необходимым рабочим инструментом, здесь – оказалось философической новинкой. Понятие ценности и вся область сопряженной с ним проблематики осваивались привычным способом: просто выяснилось, что поле аксиологической теории совсем не чуждо марксизму, напротив, входит в него как неотъемлемая составная часть. В конечном счете, не так важна была сервировка, куда интересней были новые пространства для эстетических рассуждений. На самом‑то деле теория ценностей была эффективным лекарством против тотальной объективности всего и вся – объективности, которая была сделана всесезонным марксистско – материалистическим заклинанием.
Тем временем, в 1964 году, вышел первый том «Ученых записок Тартуского университета» в серии «Семиотика» – это была книга Юрия Михайловича Лотмана «Лекции по структуральной поэтике». В отличие от теории ценностей, тут не было никакой идеологической мимикрии. Напротив, помимо прямого введения в гуманистику нового направления, у книги, как и у последующих изданий, было побочное, скрытое значение, можно сказать – небывалое: она была декларацией принципиальной независимости от казенной доктрины. К сожалению, в моей библиотеке нет этого тома «Трудов», но я сейчас перелистал следующий выпуск, изданный год спустя, с единственной целью – найти там ссылки на Маркса, Энгельса или Ленина, ну, на худой конец, – Плеханова или Грамши. Я наперед знал, что ничего не найду, и без риска мог бы пообещать, что если кто‑либо из участников сборника сослался, я должен буду съесть собственную шляпу. На 350 страницах издания не нашлось ни одной [43]43
См.: Ученые записки Тартуского государственного университета, выпуск 181. Труды по знаковым системам. II. Тарту, 1965.
[Закрыть]. Для сравнения я снял с полки более позднюю книгу Ю. М. Лотмана [44]44
Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
[Закрыть], с аналогичной целью. Там слова «марксистско – ленинская эстетика» встретились мне однажды – в предпосланном тексту книги профилактическом введении от редакции. У автора упоминаний о т. наз. классиках марксизма – ленинизма нет нигде [45]45
Я не хочу сказать, что Ю. М. Лотман был вне рамок марксистской методологии с самого начала – такое для нашего поколения вряд ли было возможно. Передо мной оттиск статьи, опубликованной в начале 60–х гг. (с греющей душу авторской дарственной надписью) – «Истоки „толстовского направления“ в русской литературе 1830–х годов» (Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 119. Труды по русской и славянской филологии. V.) Перечитав эту блестящую, как всегда, работу, я сейчас вижу, что она, решительно ревизуя одномерные советские схемы литературного процесса, подрывала советскую парадигму, так сказать, изнутри. Структурно – семиотические штудии с самого начала находились принципиально вне ее.
[Закрыть].
Вместе с собственно семиотическими штудиями быстро входила в обиход очищенная от подозрений теория информации, рядом с нею – общая теория систем. Каждая из них снабжала гуманистику новыми стратегиями и новыми надеждами. Одной из самых ослепительных была надежда на сближение с точными науками и естественнонаучными подходами или, хотя бы, на худой конец, с гуманитарной наукой, обладавшей наиболее строгим аппаратом, – лингвистикой. Не случайно лозунгом дня стали «точные» или «строгие методы», которые вызывали воодушевление у сторонников прогресса и раздражение у ретроградов.
Я был среди тех, у кого они вызывали воодушевление. Но некая ретроградность при этом мне не была чужда – и я не примыкал ни к какой определенной школе. Попробую объяснить – прежде всего себе самому – почему так получалось.
Ближайшие соблазны предлагала так называемая тартуская (или московско – тартуская) школа, ставшая ныне легендой. Вот она, тут рядом, и ее душа – Юрий Михайлович Лотман. Мы были знакомы семьями, а об открытости этого дома людям и говорить не приходится. Точно так же были открыты знаменитые встречи на базе университета в Кяярику и в самом Тарту. Я присутствовал, кажется, на двух таких – и очень жалею, что не был на других. Но вряд ли мне удалось бы влиться в это блистательное сообщество – я не был готов примкнуть, и это сразу в нескольких смыслах.
Прежде всего – мои занятия за письменным столом, если не считать чтения, в те годы были далеки от семиотической проблематики. Читать‑то я читал, как можно было не читать эти труды, где, помимо света независимой мысли самого по себе, увлекала новизна идей, высказанных, как правило, блестящими учеными. Но сколько писал – писал о другом. Затем, правду сказать, мне хотелось сохранить независимую позицию по отношению к семиотическому направлению. Мне чудилось там нечто сектантское. Теперь часто говорят о том, что особый язык авторов «московско – тартуской школы» был намеренно затруднен и специализирован – чтобы охранники вянущего казенного учения и профаны не совали туда свой нос, чтобы сразу было видно, что, по польской поговорке, «не для пса колбаса». Это верно лишь отчасти. Сам Ю. Лотман был увлеченным пропагандистом направления, и упомянутая только что его книга «Структура художественного текста» была адресована любому интеллигентному читателю.
Но основной корпус работ был написан на специальном научном диалекте, я полагаю, далеко не только в целях конспирации. Сама идея «строгой» гуманитарной науки требовала терминологически четкого, однозначного и приведенного в единую систему языка, а он столько же манил, сколько и отпугивал человека со стороны. Наконец, кооперация со школой предусматривала приложение ее методов к собственному профессиональному полю. И тут возникали две трудности: первая касалась методов, вторая – особенностей поля.








