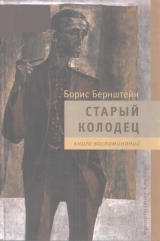
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Московская практика
Летняя «ознакомительная» практика по истории искусства была украшением нашего учебного курса. Рутинные лекции, читаемые по ходу учебного года, мы были вынуждены сопровождать показом репродукций, по большей части тоновых, из монографий и альбомов, которые хранились в нашей скудной библиотеке. В 1961 году в Праге, в Академии художеств, чешские коллеги завели меня в аудиторию – амфитеатр и показали, как специальный аппаратик проектирует на белую стену цветные слайды. Зрелище было невиданное и заставляло задуматься, почему у них имеются такие чудеса – тоже ведь социалистическая страна… Спустя годы проекционное чудо достигло и наших краев. Министерство высшего образования, беспокоясь о наших нуждах, весною обычно присылало адресованное нашей кафедре письмо с запросом – сколько цветных слайдов потребуется нам в будущем учебном году для обеспечения высокого качества учебного процесса. Мы, глядя в потолок, отвечали, что требуется для начала пять тысяч слайдов, поскольку кафедра пока не имеет ни одного. Весною следующего года вместо слайдов приходил следующий запрос министерства.
Наши ознакомительные разъезды, персональные и групповые, причиняли кураторам из министерства не меньшую головную боль. С той же весенней почтой неизменно приходил запрос относительно потребностей кафедры в зарубежных поездках. Кто‑то из министерских был либо законченным идиотом, либо доставлял самому себе невинное развлечение. Мы подхватывали шутку и весело импровизировали, называя в качестве необходимых точек командирования и поездок со студентами Италию, Францию, Испанию, Грецию, Англию, Голландию, Бельгию, Германию – Восточную и Западную, Египет, Иорданию, Индию, Мексику и другие историко – художественные места.
Все это с нашей стороны было недостойным шутовством – в Советском Союзе было достаточно насыщенных искусством пространств: хочешь, езжай в Москву, а хочешь – в Ленинград, а хочешь – в Вильнюс или Львов, а то – через Петрозаводск на самые Соловки! По этим местам мы вольно разъезжали с нашими студентами. Словом, летняя практика была окном в мир живой истории искусства. На две недели мы выбирались из привычного Таллинна, чтобы перед глазами студентов предстали реальные произведения разных эпох и народов.
В тот год мы поехали в Москву.
Судьба мне ворожила. Мы провели день в Коломенском, осмотрели все, что было возможно, даже до церкви Иоанна Предтечи в Дьякове дошли, перебравшись через неудобный овраг. Я, совсем, видимо, обезумев, написал заявление директору Третьяковской галереи с просьбой разрешить нам осмотреть искусство русского авангарда, сокрытое в запасниках. И директор разрешил! Право же, честно, году в 1965–м мы со студентами осматривали это.В доказательство правдивости моих слов я приведу детали, которые не может знать человек, не посетивший запасник. Первое – искусство духовной нищеты, упадка и разложения хранилось… Да – а-а, люди новых поколений вряд ли догадаются, где могли быть надежно упрятаны все эти Ларионовы, Малевичи, Кандинские, Бурлюки, Шагалы и проч. Среди нынешних много талантливых людей с ярким воображением, но у тогдашних фантазии было больше. Картины хранили в бывшей церкви Николы в Толмачах, конца XVII в., присоединенной к новопостроенным залам галереи в 1932 году. Пространство храма святителя Николая разделили на несколько ярусов, ярусы заполнили стеллажами, на стеллажи густо упаковали картины. Все добро не влезало – скажем, огромные холсты с росписями Еврейского театра, исполненные Марком Шагалом, лежали на полу, намотанные на валы. С яруса на ярус вели крутые деревянные лесенки…
Так были наказаны сразу обе стороны – и храм, и искусство русского авангарда.
Запасник оберегали научные сотрудницы пожилого возраста. Они обрадовались нам, как родным. Видно было, что на доски этих функциональных перекрытий редко ступала нога человека. Обрадовались – нет, это сказано не вполне точно, они были счастливы! Счастливы, что могут показать кому‑то доверенные им опасные сокровища. Пожилая хранительница поднялась с нами по крутой лесенке и стала вытаскивать из гнезд спецхрана классику.
– А Гончарову хотите?
– Пиросмани показать?
Мы хотели всего, но нашей алчности был положен предел – в тесный запасник впускали понемногу, другая половина группы терпеливо ждала внизу, в залах дозволенного народу искусства. Я как руководитель группы повторил тур. Другой раз старушка – хранительница не стала с нами подниматься: дыхания не хватило. Вместо нее нас сопровождала сотрудница низшего ранга, по – тогдашнему «техничка». Оказалось, что она разбирается в русском авангарде ненамного хуже своих ученых коллег и относится к нему с неподдельным воодушевлением. Техничка успешно продолжила акцию эстетического развращения моих студентов. Студенты были в восторге, я тоже.
Возбужденный успехом, я решился на новую импровизацию.
– Вот что, – сказал я вечером, расставаясь с народом. – Завтра рано утром мы поедем автобусом во Владимир. У меня там нет связей, не знаю, сможем ли где‑нибудь переночевать. Если не найдем ничего, к ночи вернемся. Участие добровольное, кто не склонен к авантюризму – остается в Москве и знакомится с искусством по своему усмотрению.
Лучшие люди прибыли на автобусную станцию вовремя.
Владимир нас встретил залитыми солнцем Золотыми воротами. На главной улице – как ее звали, не помню, но готов поспорить, что это была улица Ленина, – оказалась гостиница. Известно, что в советских гостиницах свободных номеров не бывало по определению. Гостиницы существовали для того, чтобы там не было свободных номеров, кто же этого не знал. Но мы уже побывали в запасниках Третьяковской галереи, куда тоже нельзя. Я пробиваюсь в кабинет администратора. Понизив голос до конфиденциального уровня, я произношу:
– У меня тут группа художников из Эстонии.
Я знал, что в советской школе преподавание истории и географии поставлено скверно. Тем не менее реакция администратора была для меня сюрпризом. Администратор еще не выучил, что Эстония – это просто советская республика. Поэтому каждый, повторяю – каждый из нас, получил по отдельному номеру с персональным туалетом и душем.
Смыв дорожную пыль, мы устремились во Владимирский кремль.
Дмитриевский собор с его белокаменной резьбой, Успенский собор – главный, некогда отдававший княжество под покровительство Богородицы. Скудные остатки фресок Рублева. Успеваем осмотреть музей, который почему‑то рано закрывался… Длинный летний день в разгаре, мы можем еще посетить Боголюбово.
На автобусной станции картина привычно удручающая. В согласии с принципом социалистической экономии, автобусы не должны ждать людей, – это люди должны ждать автобусов. Сотни людей, разморенных жарой, с корзинами и мешками, ждут, когда подадут нужный номер. Не исключено, что они везут яйца, булки, крупу или колбасу из самой Москвы. Ибо, как известно, схема распределения сельскохозяйственной продукции такова, что плоды со всей страны доставляют в Москву, а оттуда народ распространяет еду самовывозом. Но так мы с нашими духовными потребностями и до ночи не попадем куда надо. Ну что же, я отправляюсь к начальнику, пробиваюсь…
– У меня группа художников из Эстонии, – говорю я вполголоса, где‑то в малой октаве, глядя автобусному боссу прямо в глаза.
– Пройдемте, товарищ.
Мы пробираемся в кассу через потайную дверь, мне отматывают необходимое количество билетов, выходим через заднее крыльцо, начальник, скрываясь от народного гнева, ведет нас тылами к пустому автобусу, относительно которого только ему одному известно, что через пятнадцать минут он отправится в сторону Боголюбова. Минут через сорок мы на месте.
По легенде, великий князь Андрей Юрьевич вез однажды из Киева в Суздаль драгоценную икону Богородицы, греческой работы. Верстах в одиннадцати от Владимира телега с иконой стала. Кони ни под каким видом не желали идти дальше. Это был знак. На месте остановки князь поставил монастырь, замок и церковь. Замок, укрепленный на западный манер, стал любимым домом князя. Нынче от времен Андрея Боголюбского осталось немногое – стертые валы укреплений, часть башни и ворота двенадцатого века, украшенные неведомо как забредшей сюда с Запада романской аркатурой. В этой башне, когда понадобилось, и прикончили князя родичи – заговорщики.
Место, указанное лошадьми по велению свыше, было выбрано удачно. Замок с одной стороны красиво вознесен над обширным, уходящим вдаль низким, плоским лугом, на котором там, вдали, вырисовывается другая церковь, посвященная Богородице, – одинокий белокаменный кристалл Покрова на Нерли. Туда мы и отправились. Освещенная закатным солнцем целомудренно белая, благородных пропорций церковь хорошо завершала этот не зря прожитый день.
Далее мы позволили себе не спешить. Уютная речушка Нерль искусительно журчала в наступивших сумерках, и – парни налево за кусты, девушки направо, за церковь! – все омылись в прохладных исторических струях.
Поздний обратный автобус, впрочем, вернул нас в плотные и потные слои бытия. Приближаясь к гостинице, мы вспомнили, что ничего не ели с утра, разве что на автобусной станции кое‑кто успел пожевать купленный в будке жесткий тещин язык, запивая теплой газировкой. Мы бросились к гостиничному ресторану, но не тут‑то было.
– Всё, товарищи, мы закрываемся, закрываемся…
– Девушки, – говорю я, – это художники из Эстонии!Мы с самого утра голодаем!
Я знаю, чего вы ждете. Вы ждете, что волшебное слово на этот раз не сработает. Потому что у них рабочий день кончился. Натоптались, хватит. Вовремя надо приходить. Ездят тут всякие, порядка не знают. Официантки и поварихи тоже люди. Завтра приходите – получите. Так вот, ничего этого не было. В заколдованном Владимире летом шестьдесят пятого года еще жива была российская всемирная отзывчивость. Утомленные официантки, поварихи и буфетчицы впустили нас в опустевший и уже прибранный ресторан, заперли двери изнутри – и минут эдак через двадцать на длинном столе стояли закуски, бутылки с грузинским вином, дымилось фирменное мясо в горшочках, – Боже, какое это было мясо! Сами труженицы, уж совсем патриархально, не побрезговали нашим обществом.
После пиршества мы долго гуляли под среднерусским звездным небом.
Наутро мы перебрались в Суздаль и уплатили заслуженную дань суздальской старине. Среди дня, ближе к вечеру, понадобилось отобедать.
– У меня тут группа художников из Эстонии, – начал было я… Увы, в Суздале цивилизация уже распустила свои железные цветы. В порядке общей очереди, граждане. И мы прождали на солнцепеке добрых полтора часа, чтобы вкусить от изделий тамошнего кошмарного общепита.
Ночной поезд повез нас назад в Москву. Наш вагон был почему‑то почти пуст. Спать никто не хотел, все сбились в одно купе ради беседы. А меня повело на рассказы о тех недавних временах, которые для меня были прожитой и пережитой реальностью, а для этих молодых ребят – уже историей. И то – группа состояла, если я верно помню, из одних эстонских студентов. Ну, может, еще был кто‑то из литовцев или латышей. Это важно, поскольку ментальность другая. Конечно, нетрудно подсчитать, что двадцати – двадцатипятилетние эстонские ребята учились уже в советской – или перекроенной на советский манер – школе и вообще вступали в сознательную жизнь при советских порядках. И тем не менее я рассказывал об истории, которая, хотя и обрушилась на них, не была ихисторией. Невидимая преграда делала для них этот опыт чужим. Тем интересней было слушать свидетеля.
Говорили о Сталине и сталинских временах. И я, к месту, вспомнил рассказ, который тогда передавался лишь в устной форме. Позднее, в постперестроечные времена, его, помнится, где‑то опубликовали – с вариациями, которые неизбежны при трансляции фольклорных текстов. Я приведу его здесь, как слышал и излагал тогда. Мы уже уговаривались однажды, что степень истинности значения не имеет.
Быль эта была о Поскребышеве, многолетнем секретаре Сталина.
После смерти хозяина, который, кажется, прогнал его еще при жизни, Поскребышев пользовался надлежащими и необходимыми для коммуниста его уровня благами – ну, там, пристойное жилье, дача, машина, кремлевские пайки и обслуга, кремлевская медицина, барские санатории… И вот, заслуженный человек отдыхает в Барвихе. Но времена хрущевские, и другие высокопоставленные коммунисты, во избежание ненужных разговоров, несколько сторонятся верного сталинского пса. А он, оказывается, живой человек, он травмирован таким отношением, граничащим с изоляцией. И однажды, не стерпев обиды, говорит соседям по обеденному столу, что вы, мол, не хотите со мной дела иметь. А хотите знать, как мы при Сталине жили? Я вам расскажу.
И рассказывает.
Я, говорит, приходил на работу рано, раньше Сталина. Когда Сталин появлялся в своем кабинете, он обычно вызывал меня к себе, вручал мне список и говорил: оформыть! Это был его личный список тех, кого надлежало немедленно посадить. Я брал список и оформлял как надо.
Однажды он так вызывает меня к себе и дает мне лист бумаги, почти чистый, там только одна фамилия. Я еще подумал, что вот какой он добрый сегодня. Выхожу, сажусь за стол, читаю. А там написано: Поскребышева, Бронислава Соломоновна [29]29
Жена Поскребышева Бронислава Соломоновна была сестрой жены Седова, сына Троцкого. Чего еще можно хотеть! Она провела три года в тюрьме и затем была расстреляна за шпионаж.
[Закрыть].
Что делать, думаю. Пойду, буду его умолять. Захожу в кабинет, падаю на колени, ползу к нему. Товарищ Сталин, говорю, со слезами говорю, пощадите, жена моя… А Сталин говорит – оформыть!
И я оформил.
Ночью пришел в пустой дом.
На другое утро Сталин вызывает меня к себе, смотрит на меня так сочувственно и, прежде чем вручить список, спрашивает:
– Что это ты, Поскребышев, сегодня такой грустный, а? Нездоровится, что ли?
– Так, товарищ Сталин, – говорю, – ведь моя жена…
– А, жена? Большое дело – жена! Ничего, не огорчайся, мы тебе другую жену найдем. Еще лучшую. Работай спокойно…
Когда я вернулся с работы, на кухне у меня хозяйничала незнакомая женщина.
Тут Поскребышев умолк.
– Ну, а что дальше? – спросили соседи по столу.
– Что дальше? Да ничего… Я с ней живу до сих пор.
Такую историю, среди прочих, я рассказал в ту ночь студентам.
Утром, приехавши в Москву, я объявил свободный день: отсыпайтесь, бродите сами как угодно. Назавтра встречаемся там‑то – в утренней программе у нас будет Новодевичий монастырь, Новодевичье кладбище…
* * *
Перед смертью все равны, но кладбища врозь. Новодевичье – для высших и лучших. Они, высшие и лучшие, тоже смертны, и элитарное кладбище постепенно переполняется. К тому времени, когда мы его посетили, оно уже выплеснулось за прежнюю ограду. Сейчас, возможно, возведены новые ограды – так и Москва постепенно выходила из себя: Кремль, Китай – город, Белый город, Скородом, окружная дорога… Мы, естественно, начали с внешнего кладбища, относительно нового.
Бродим от одной более или менее знаменитой могилы к другой. Снова пересечение двух историй: для меня это история, причастная моей биографии, для них – чужая. Объясняю, кто есть кто, если знаю. Рассказывая об одном, с упреждением оглядываю ближайшие окрестности, чтобы заметить следующую могилу известного мне лица. И так, блуждая взглядом, натыкаюсь на сравнительно недавнее захоронение, как бы еще не вполне завершенное. Увядшие цветы не убраны, но поверх уложены свежие. Немолодая женщина, не без труда склонившись, пробует навести порядок. Скромное, но достойное надгробие. Подойдя чуть поближе, я различаю надпись:
Поскребышев Александр Николаевич 1891–1965
К счастью, я могу разговаривать со своими студентами на языке, который понимает примерно пятнадцать стотысячных населения Земли, риск быть подслушанным невелик. Lapsed, говорю я, tulge siia ruttu, то есть – ребята, быстро сюда! Вот эта женщина, которую секретарь Сталина нашел у себя дома на другой день после ареста его жены! Вот его сталинская жена! Вот она убирает цветы на могиле назначенного ей некогда мужа!
Всего лишь такая себе старушка. Но – оттуда.
Для группы художников из Эстониивремена на мгновенье смыкаются. Чужая, далекая история предстает как мертвоживая повседневность.
И впрямь мне везло в то лето.
Ранняя разминка
О смерти Владимира Ворошилова я узнал 10 марта 2001 года из сообщения радио «Свобода». Автор и создатель популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов, сказал диктор, скоропостижно скончался сегодня на даче в Переделкино. Причина смерти 70–летнего телеведущего – сердечный приступ.
Володя Ворошилов был моим студентом.
В те времена, в пятидесятые годы, многие ребята из России и других республик приезжали в Таллинн за высшим художественным образованием. Причин было несколько. Первая была та, что в наш институт поступить было легче, чем в московский Суриковский или ленинградский Репинский. Секрет был простой: в Эстонии не было в то время художественного училища, а из России приезжали со средним специальным образованием; при этом главное на вступительных экзаменах тогда было одно – уметь хорошо рисовать, и жесткая муштра российских училищ тут была как нельзя кстати. Эстонцам трудно было конкурировать с приезжими. Другая причина – по российским училищам бродили темные слухи, что в прибалтийских институтах больше свободы. Словом, в институте были большие группы студентов из России, позднее потянулась молодежь из других республик; одно время была крупная украинская колония, позднее – молдавская.
Володя Ворошилов был в одной из первых русских групп, которым я преподавал длинные курсы истории искусства и эстетики; всего учебы было шесть лет – шестой год был дипломный, а пять лет подряд студенты вынуждены были слушать меня по разу, а то и по два в неделю. Так что мы с Володей встречались часто. Этим я вовсе не хочу сказать, что своей образованностью он обязан мне. Напротив, я в этом сомневаюсь. Я даже помню, что на экзамене по искусству XIX века Володя кое – чего не знал, не из искусства, а из самой истории, да еще такое, о чем в великой игре спрашивать стыдно, засмеют…
Нет, нет, своей образованностью он был обязан себе.
За долгие годы преподавания мне попадались студенты самого разного характера и качества. Иных я не смогу вспомнить даже под пыткой. Были одаренные художественно, и это хорошо, но мне, не только критику, но историку и теоретику, интересны были еще и умники. Таких за все годы было немного, их—το я помню, а с некоторыми переписываюсь до сих пор. Володя был один из умных и способных, все вместе. И специальность он выбрал самую интеллектуальную: театральную декорацию – сценографию, если по – нынешнему, – где одной живописью не обойтись. Вид занятий был по мерке личности.
Трудно вспомнить его курсовые работы – прошло скоро полвека, не требуйте от меня невозможного. Хорошо хоть, что я помню его дипломную работу и скандал, сопровождавший ее защиту.
Он представил на защиту эскизы декораций и костюмов к спектаклю по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». В те времена уже это было вызовом – хрущевская оттепель растопила только кромку ледника. Западная пьеса, восемнадцатый век, – все это выглядело сомнительно и пахло намеренным уходом от актуальных проблем советской современности, не говоря уж об интеллигентском снобизме. Почему было не взять полноценную пьесу Вирты или там Корнейчука?
Председателем Государственной комиссии в тот год… Кстати, почему Государственной? Почему наш институт назывался Государственный художественный и т. д., почему я кончал Государственный университет, посещал Государственную филармонию и Государственные академические театры? Разве с ними конкурировали частные, или хотя бы кооперативные, или межколхозные университеты? Католические художественные институты или православные консерватории? Я думаю, дело тут было не в смысле, указание на государственность в этом случае было очевидной бессмыслицей. Решающей была акустическая и тем самым эстетическая сторона дела: слово звучало величественно, державно, левитановски (я не художника имею в виду); вслушайтесь только в центральную группу «СУДАРСТВ» или, еще лучше, «УДАРСТВ», чего стоит хотя бы только Р после величественного А, вот это АРР! А взрыв четырех согласных подряд!
Для наибольшей объективности оценок, исключения жульничества и приписок (в чем подозревался каждый советской гражданин и каждая институция, и не зря) Государственную комиссию по приему Государственных экзаменов и защите дипломных работ в Государственных институтах должен был возглавлять посторонний авторитетный художник или ученый. В тот год когда Володя Ворошилов защищал диплом небо послало нам из Москвы скульптора С. Алешина, фигуру нешуточную: он участвовал еще в исполнении ленинского плана монументальной пропаганды в восемнадцатом – девятнадцатом годах, был упомянут во всех историях советского искусства и мог считаться сакральным объектом.
Итак, защита.
Расставив для обозрения стенды с эскизами и макеты декораций, Володя, как и полагалось, рассказал о своем понимании пьесы, о видении будущего спектакля и о процессе работы над дипломом. Я должен напомнить, что в те времена истолковывать старинные пьесы на современный манер было не принято, декорации и предметная среда должны были отвечать духу и стилю эпохи, а актерам полагалось выходить на сцену одетыми, это во – первых, и даже одетыми по моде того времени, к которому действие было отнесено автором. Сценограф должен был разбираться в этих вещах – ив своей вводной речи Володя показал, что разбирается превосходно. Но, говоря о костюмах, он допустил неосторожность. Что касается костюмов, сказал он, то я пересмотрел много материала, но когда я открыл альбомы с репродукциями Хогарта, я нашел там все, что нужно. Для верности, однако, он напомнил, что Хогарт был современником Голдсмита. Я же, тоже для верности, напомню, что Уильям Хогарт – один из величайших английских мастеров XVIII века и что в его картинах и гравюрах, нередко сатирических, развернута единственная в своей достоверности картина нравов тогдашней Англии.
После дипломника, как полагается, выступили руководитель и рецензент; оба высоко оценили работу. И тогда поднялся для выступления сам Председатель Государственной комиссии, знаменитый скульптор, чей проект памятника Карлу Марксу был удостоен критических замечаний самого Ильича. В этом месте своих слов у меня не хватает; я буду заимствовать: вид Алешина был ужасен, он был как божия гроза.
– Что же это такое! – загремел он. – Дипломник выполнил эскизы маслом! А кто ввел эту моду – писать театральные эскизы не темперой, а маслом? (В этом месте была выдержана трагическая пауза.) Художник – импрессионист Коровин, сурово осужденный советской общественностью! (Еще одна театральная пауза.) Как теперь по таким эскизам будут исполнять декорации?! (Риторическая пауза…)
Зал скептически замер. Художник – импрессионист Коровин, заодно с остальными импрессионистами, уже переставал быть идеологическим пугалом, а в Эстонии – и подавно. Кроме того, эскизы декораций делаются не для технических исполнителей, а для фиксации общей пластической концепции спектакля; исполнители же в эскизы не смотрят, а получают специальные подробно проработанные образцы.
Да и вообще, в импрессионизме ли дело?
Первое, что пришло мне в голову, не имело касательства ни к какому направлению в истории искусства. Чтобы объяснить эту догадку сегодня, требуется еще одно отступление: я должен буду опубликовать некое известие, несмотря на сомнения, которые меня при этом одолевают.
Дело в том, что…
Ну, как бы это сказать поделикатней?
Эээ…
Ну, словом, вот так – в студенческие годы фамилия Володи была не Ворошилов, а Калманович, вот. Студент Владимир Калманович. В Эстонии в те годы – а поступал он к нам году в 1953–м или 1954–м – носителей такой фамилии принимали в Государственные учебные заведения, было, было такое. А героическую фамилию на «-ов» он взял к концу учения; кто‑то объяснял, что это была фамилия жены. И вообще, фамилия эта не от полководца произошла, а от глагола «ворошить». Да и выбора, вероятно, не было.
Если кто‑либо собирается задним числом осудить Калмановича за то, что он стал Ворошиловым, то на мою поддержку он рассчитывать не должен. Способы борьбы с абсурдным и беспощадным режимом были столь же разнообразны, как были разнообразны цели. Великая цель взорвать режим мало кому приходила в голову в пятидесятые годы, а если приходила, то в идеальной форме, поскольку планы реализации идеи были абсурдны сами по себе. Я полагаю, если еврейский юноша ставил себе цель выжить и реализовать себя, то это само по себе уже было вызовом власти, которая ставила себе относительно юноши противоположную цель. Каждый использовал подручные средства, то есть те, которые были под рукой. Вот и все [30]30
В 1973 году толстый московский журнал заказал мне статью об эстонских графиках, Алексе Кютте и Кальо Пыллу. Их выставка незадолго до того была в Москве; журнал пожелал на нее откликнуться. Я статью написал. Спустя некоторое время мне позвонил по телефону заведующий редакцией. Он сказал, что статья журналу подходит, но есть одна проблема. Редактор просил узнать, продолжал он, стесняясь, нет ли у меня какого‑нибудь псевдонима, под которым я печатаюсь, скажем, в эстонской прессе. «Поймите меня правильно, – добавил он – специфика нашего журнала такова, что…» Я отвечал, что псевдонима нет, я выступаю с открытым забралом. Статейка появилась под дурацким заголовком, за который я ответственности не несу, но с моей подписью – невзирая на специфику журнала. Назывался специфический журнал так: «Дружба народов». Я вспоминаю эту историю, признаваясь тем самым, что я к столь простым средствам не прибегал. Но я не готов осуждать тех, кто боролся за себя более наступательно.
[Закрыть].
Но бьют, как известно, не по паспорту. В бумагах написано Ворошилов, а лицом чистый Калманович, да и поведением тоже: хочет показаться умнее других, и вообще – выделывается; все не как у истинно советских людей…
Таковы примерно были мои предположения о причинах гнева исторического скульптора.
Между тем, председатель Госкомиссии продолжал громить.
– Вот, дипломник поленился, не захотел изучить эпоху, костюмы, как полагается… Доверился какому‑то художнику!
Тут в зале произошло движение, а сидевший рядом с Алешиным наш молодой тогда ректор тронул его за рукав и стал что‑то шептать. Но председателя было уже не сбить.
– Тут мне говорят, что это знаменитый художник. Много нынче знаменитых развелось…
Это было, конечно, смешно: Алешин публично сел в лужу. Но и не смешно тоже. На бумаге не воспроизвести интонационную кривую последней фразы, вельможно – пренебрежительно – брюзгливо – брезгливую, с повышением голоса и растянутым ударением на первый слог – мнооога нынче… – настоящих‑то знаменитых мы знаем, небось, сами оттуда.
Нелепость и безграмотность обвинений, мерзкое барство, а пуще всего – очевидная жидоедская подоплека алешинской выходки придали мне духу. Я оказался не один, за Володю заступился его руководитель, еще кто‑то стал возражать… Володя в ритуальном заключительном слове тоже огрызался. Словом, как говорили в те времена, «был дан отпор», и госкомиссия «не пошла на поводу» у председателя.
Володя успешно защитился, получил диплом и уехал в Москву. Мы потеряли его из виду.
Спустя годы на экранах появилась игра – и как‑то выяснилось, что ее затеял и ведет Владимир Ворошилов. Я говорю «как‑то выяснилось», потому что у нижеподписавшегося очень долго не было телевизора; народный аппарат появился у нас в доме поздно, где‑то в конце восьмидесятых, когда стало возможно смотреть передачи из Финляндии. Известие о Ворошилове принес мой коллега, у которого телевизор был.
Несколько игр, в разные времена, я видел. Этого мало, и то, что я решусь сказать, – не более чем замечания случайного прохожего, хотя и заинтересованного.
Взрослый и знаменитый Ворошилов – это игра, сейчас ее даже стали писать с большой буквы: Игра. Как только слышишь это слово, сразу на память приходят два классика XX века – Герман Гессе и Иохан Хёйзинга. Последний в своей непревзойденной книге, одной из самых гуманных, какие я знаю, представил образ беспорочно играющего человечества. Это он говорил, что игра есть добровольное действие или занятие по добровольно принятым, но совершенно обязательным правилам, с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое сознанием «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь.Нигде более сознание иного бытия не бывает столь острым, как на театре; неудивительно, что игру «Что? Где? Когда?» придумал человек насквозь театральный, а особый поворот ей придал человек насквозь интеллектуальный. Гессе рассказал, сколько жизни требуется, чтобы стать Магистром игры. Владимир Ворошилов явил себя народу уже готовым Магистром; как он себя готовил – я не знаю. Более того, он явил себя даже и не магистром, а кем‑то бесконечно большим: богом Игры. Он был ее создателем – и присвоил себе атрибуты Творца. Первым из них было божественное всезнание. Он знал все, совершенно все, не могло быть ничего такого, чего бы он не знал; он не был носителем знания, он был самим Знанием. Абсолютное знание ставило его вне мира играющих, вопрошающих, отвечающих, угадывающих, вспоминающих – что и было подчеркнуто его невидимостью. Это словно бы про него говорил Моисей: «Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас». Глас приходил извне пространства игры и был непререкаем – как гром.
Тут все было продумано и доведено до последней шлифовки. В отличие от других историй творения, Владимир Ворошилов сотворил совершенный мир. Это было столь же блистательно, как и опасно, поскольку его невозможно было улучшить. Мир игры мог либо деградировать, либо расти количественно.
Вырожденные формы мы увидели в многочисленных подражаниях и вариантах, где состязание в сообразительности уступило место более или менее успешным раскопкам в овощехранилищах памяти. Вообще‑то, иметь хорошую память полезно, но все помнить вовсе не требуется – надо знать, где искать. К тому же, подражания никак не могут состязаться с Игрой в отношении зрелищности.
Количественно обогащалась сама Игра – именно за счет пышного, тропического разрастания зрелищного начала. Театральный темперамент постановщика и декоратора переливался через край, и его собственная игра подтопляла берега главной Игры. Так мне показалось, когда я смотрел поздние передачи.
Так или иначе, а творение Владимира Ворошилова остается уникальным и нераздельно слитым с его личностью. Уход создателя означает конец Игры; они вместе только что стали историей.








