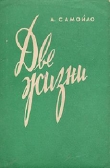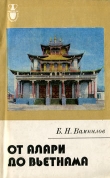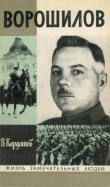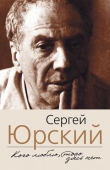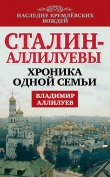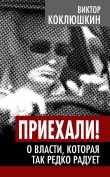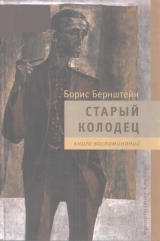
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
Желтое издание с человеческим лицом
Среди немногих раритетов в моей библиотеке хранится небольшая брошюра, вот ее данные:
И. Голомшток, А. Синявский. Пикассо. Москва: Издательство «Знание» Всесоюзного Общества по Распространению Политических и Научных Знаний, 1960. Цена 1 р. 85 к. С 1/1 1961 – 19 коп.
Игорь Голомшток – мой коллега, искусствовед, мы с ним познакомились в начале 50–х гг., когда он – в незавидной роли служащего Дирекции выставок и панорам – привозил в Таллинн всесоюзную выставку дипломных работ; я даже написал тогда рецензию, полагаю – чудовищную, это была первая или вторая проба моего критического пера. Несмотря на законченное высшее образование, я в живом искусстве не понимал ничего, ну – почти ничего.
Позднее, к моменту выхода книжки о Пикассо, Игорь уже работал в Музее им. Пушкина. Кто такой Андрей Донатович Синявский – объяснять не надо.
То, что такая девятнадцатикопеечная книжка увидела свет, было само по себе чудом. Никакое солидное издательство – ни «Искусство», ни «Изобразительное искусство», ни, тем более, процветшее к тому времени издательство Академии художеств – такую книжку бы не взялось печатать. Она вышла в маргинальном, незаметном для стражей доктрины издательстве – в легко уязвимой бумажной обложке, с серыми репродукциями, да и то, надо полагать, по инициативе и под покровительством Ильи Эренбурга, который снабдил книгу отрывком из своих воспоминаний о Пикассо. Упоминаний о прогрессивных взглядах художника, его членстве в коммунистической партии, о его участии в т. наз. борьбе за мир там предостаточно, без этого никакой разговор о Пикассо не был возможен. Но вообще‑то книжка была для своего времени серьезная и хорошо, умно и с тактом, вводила неискушенного и одураченного соцреалистической риторикой отечественного читателя в мир великого мастера.
Миновало несколько лет брежневского отката (назовем это так), и после пражской весны власти потребовались добротные политически – идеологические процессы. Когда готовился процесс Синявского и Даниэля, Игоря Голомштока пригласили куда требуется и предложили ему свидетельствовать на суде против своего соавтора и друга. Игорь отказался. Ничего худого ему не сделали – просто судили отдельно и приговорили к полугоду принудительных работ на месте тогдашней службы – в Институте технической эстетики. Когда в институте сокращали штаты, Игоря не трогали – он был приговорен. Выгнали потом, после отбытия шести месяцев, рассыпали набор книги, уже готовой к публикации в издательстве «Советский художник», лишили возможности где‑либо служить или печататься. Уморить человека можно разными способами, не обязательно жесткими. Помните, Гейне рассказывал о квартирной хозяйке, которая покушалась на жизнь Людвига Бёрне, отказываясь кормить его в долг?
Игорь написал еще одну книгу – о Иерониме Босхе. И тут на сцену снова является Юрий Овсянников – в качестве главного действующего лица. Овсянников к тому времени покинул журнал «Юность» и работал в издательстве «Искусство». Там он опубликовал книгу Голомштока, но под чужим именем. На титуле было обозначено вымышленное лицо [31]31
И эта редкая книга есть у меня, вот ее данные: Иеронимус Босх. Москва: Искусство, 1974. Автор текста и составитель альбома Г. Фомин.
[Закрыть]. А Голомшток получил гонорар, который отодвинул перспективу голодной смерти. Вскоре Игорь эмигрировал в Англию. Написанная там книга о тоталитарном искусстве сделала его знаменитым [32]32
Разумеется, с наступлением свободы она была издана и в России, в издательстве – наследнике того самого «Совхудожника», где был рассыпан набор его старой книги: Игорь Голомшток. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994.
[Закрыть]. А у Овсянникова начались неприятности: история с Босхом стала известна – и теперь лишился работы сам благодетель. Не знаю, состоял ли он в партии; если состоял, то выгнали и оттуда. Так или иначе, а два года он был без работы – по его слову, ел свою библиотеку. Библиотека была изрядная, хватило. Спустя десяток с лишним лет я попытался всучить ему в качестве дорогого подарка свою книжку о художнике Кормашове, только что вышедшую в Москве; он меня поблагодарил и отказался – второй раз не собираю, сказал он жестковато.
Наконец, его взяли на работу в «Советский художник».
Овсянников был выдающимся издательским деятелем. На это у него был особый талант, один из многих его талантов. В издательстве «Искусство» он задумал и осуществил несколько серий, которые пользовались необычайной популярностью: «Города и музеи мира», «Малая история искусств», «Дороги к прекрасному», «Жизнь в искусстве». В «Совхудожнике» он создал придуманную им особую редакцию, где стали выходить специальные ежегодники, первым из них стало «Советское искусствознание», а вслед за ним – аналогичные ежегодники, посвященные живописи, скульптуре, графике, прикладному искусству, позднее появился элитарно дорогой «Музей» и ставшая знаменитой «Панорама искусств»… Если «Музей» отмечен был благородной изысканностью, то первый ежегодник, «Искусствознание», невзрачный на вид, в бумажной обложке, был отмечен иного рода элитарностью – интеллектуальной.
Собирая материал для начала, он заехал в Таллинн и стал соблазнять меня написать что‑нибудь для первого выпуска. Увы, Юры уже нет – и я не могу сказать ему в глаза, что его голосом в тот момент со мной говорила судьба.
Первый выпуск «Советского искусствознания» вышел в конце 1973 года – небольшая книжка в белой бумажной обложке. Следующий том был крупнее форматом – и этот формат стал стандартом. С 76–го года он выходил в желтой обложке и получил новую нумерацию. Желтых «Искусствознаний» вышло 27, плюс три белых, всего Овсянников издал 30 томов, они занимают у меня целую полку, в два ряда. Это памятник Юрию Максимилиановичу, Юре, «Овсу» – так сокращенно его именовали на цеховом жаргоне. Ничего подобного в отечественной издательской практике тех лет не было.
Когда должен был выйти юбилейный – десятый – выпуск, Юра попросил меня что‑нибудь написать по этому поводу. Он, вероятно, думал о серьезном, а я, по легкомыслию, его не понял и послал ему персонально шуточный стишок. Всего, конечно, не припомню, а заключительные строки были такие:
Это желтое издание,
Что питается Овсом, —
Вертоград искусствознания
С человеческим лицом.
Это и вправду был вертоград, но особой планировки. Внимательный наблюдатель мог бы обратить внимание на некую мелочь, так, пустяк, – на контртитуле первых выпусков обозначена редакционная коллегия, имена идут в следующем порядке: В. М. Полевой, О. В. Буткевич, В. М. Зименко, Д. В. Сарабьянов, Г. Ю. Стернин. И так – до последнего выпуска: В. М. Полевой, М. Я. Либман, Д. В. Сарабьянов, Г. Ю. Стернин. Замечаете? – алфавитный порядок начинается со второго имени, первое – вне алфавита. Так некогда газеты писали: «В зал входит т. Сталин, товарищи Андреев, Буденный, Булганин, Ворошилов…» Конечно, можно было написать, что В. М. Полевой – председатель редакционной коллегии, но по некоторым тонким соображениям так не пишется. Но дается понять, кто здесь главный. Вадим Михайлович Полевой был идейно – партийным прикрытием: некогда, во времена оттепели, и затем, во времена новых заморозков, он служил прямо в ЦК партии, где ведал изобразительным искусством. Затем, покинув самый главный Комитет, он стал профессором Академии общественных наук; это учебное заведение было сугубо партийным, да и цековские связи не увяли. Словом, В. М. Полевой был партийно – идеологическим прикрытием. М. Я. Либман, Д. В. Сарабьянов и Г. Ю. Стернин – выдающиеся искусствоведы, чрезвычайно далекие от партийного официоза.
Структура редколлегии была как бы ключом к структуре сборников. Как правило, каждый том открывала барабанная статья, где очередной раз воспроизводилась навязшая в зубах идеологическая жвачка. Но после того как ритуальная соцреалистическая молитва была прочитана, можно было приступать к делу. В «Искусствознании» было опубликовано великое множество серьезных исследовательских и теоретических статей, обзоров, рецензий. Никакое другое периодическое издание не могло сравниться с детищем Овсянникова.
Когда наступили новые времена, нужда в камуфляже отпала, но традиционное место издания в научной жизни осталось. Вскоре ситуация изменилась. Издательство принадлежало к системе Союза Художников СССР, но когда не стало СССР, не стало и союзного Союза. Издательство оказалось на грани исчезновения, Юра ушел на другую работу. Ежегодников не стало. Но вскоре нашлась подвижница, которая – практически в одиночку! – спасла искусствоведческий ежегодник. Валентина Тимофеевна Шевелева добровольно взвалила на свои плечи груз, с которым справлялась целая, пусть небольшая, редакция, да еще при поддержке аппарата издательства. Благодаря ее энтузиазму и самоотверженному труду «Искусствознание», утратив прилагательное «советское», продолжает жить в том русле, которое определилось во времена Овсянникова; теперь это толстый, даже очень толстый, высшей авторитетности отечественный журнал. В бумажной обложке.
Мы встречались с Юрой часто и с радостью, каждый мой приезд в Москву – в редакции, в Союзе художников, разокдругой он приглашал меня пообедать в ресторане Дома литераторов. Однажды я сильно задержался, не помню уж как, в Москве немудрено потерять время в транспортных лабиринтах; Юра ждал меня к трем часам в знаменитом литературном ресторане, а я за десять минут до назначенного срока оказался в Охотном ряду. Такси нигде не было видно, зато перед зданием тогдашнего Совмина толпились черные волги. От отчаяния мне пришла в голову отчаянная же мысль: я подошел к одной из министерских машин и развязно спросил, не подвезет ли меня старик на Воровского, я уплачу. К моему удивлению, министерский шофер согласился. Сначала мы помалкивали, но еще задолго до Садового кольца возничий успел разглядеть меня получше.
– Слушай, ты еврей, да? – нежданно поинтересовался он.
Я подтвердил остроумную догадку.
– Так вот, ты мне скажи – почему все эти большие начальники и партийные боссы женаты на еврейках?
Хороший вопрос. Просветитель во мне умрет только вместе с плотью – тюрьмой духа. Остается удивляться моему неистребимому идиотизму: я стал объяснять министерскому водиле, по каким причинам евреи кинулись в революцию, чуть ли не министра Витте вспомнил, который предостерегал царя, что если евреев не уравнять в правах с другими гражданами, хуже будет… Он до поры слушал мои разглагольствования, но после Садового кольца, когда езды оставалось мало, не выдержал:
– Что ты там говоришь, это все мура. Теперь слушай, что я тебе скажу. Просто еврейки – они очень страстные, понимаешь? Горячие! Наша лежит как колода. А они стррастные! Я знаю, у меня в доме отдыха была одна, ну, не забыть…
За литературным обедом мы с Юрой смогли обсудить эту неисследованную грань истории революционного движения в России.
Как правило, однако, нас занимали другие темы. Приезжая в Москву, как сказано, я не пропускал случая навестить их гостеприимный дом неподалеку от метро Сокольники – там было тепло, атмосферу создавала жена Юры Ирина, наделенная редким женственным обаянием красавица и умница, на глазах вытягивался в длину и созревал их сын Максим… Мы успевали о многом побеседовать. Юра умел рассказывать и щедро вводил меня, провинциала, в курс подковерной столичной жизни. Но особенно хорошо умел он спрашивать и слушать. Возможно, в его вопрошании, слушании и схватывании твоей мысли была даже некоторая рисовка, ну да что с того? Интерес был неподдельный и понимание было точным. Это было живое и насыщенное общение.
На стол подавалось традиционное – столичная, селедочка, маслице, рассыпчатая картошка, Юра выпивал свою рюмку столько же со смаком, сколько и со страхом – язва не позволяла.
Боюсь, что язва и стала дальней причиной его ухода.
* * *
Приезд Овсянникова в Таллинн в начале семидесятых был судьбоносным. Я имею в виду самого себя. В конце концов, мемуарист имеет право и о себе напомнить. Юра явился со своей идеей ежегодника в то время, когда я чувствовал себя на перепутье – я имею в виду профессиональные занятия. По этому поводу можно вспомнить, чем я, собственно, занимался до того.
Смена профессиональных интересов началась в университетские времена. На первом курсе я понял, что буду египтологом. Вся ответственность за это решение лежит на Наталии Давыдовне Флиттнер, которая читала нам историю и искусство Древнего Востока. Маленькая, круглая, с седыми волосами, обернутыми валиком вокруг черной бархотки, обаятельно пришепетывая, она рассказывала нам удивительные вещи. Сейчас, задним числом – почти шестьдесят лет миновало, – мне кажется, что она не просто рассказывала, она как бы переносила нас туда, побуждая к необходимому для историка пониманию и, более того, инициируя чувство идеального проживания внутри древней культуры. Это чувство углублялось внимательным чтением Тураева, Брэстеда… Когда я в нашей крохотной десятиметровой комнатушке на Лиговке дочитывал последние страницы знаменитого «Египта» Гастона Масперо, Фрида разучивала фортепианную партию сонаты Франка; пряные декадентские звучания одного француза, накладываясь на слова другого, странно дополняли картину угасания некогда великой цивилизации – и я искренне печалился.
Словом, мы гурьбой кинулись в кружок, которым Наталия Давыдовна руководила. Тетрадь по иероглифике, память этих занятий, хранилась у меня до самого отъезда в Америку, но, честно признаться, позднее углубляться в нее не было случая. Я смотрю на фотографию нашего кружка и с поздним раскаянием замечаю, что мы все изменили Наталии Давыдовне и Древнему Египту. Не знаю, как другие, а я сохранил интерес к этой культуре, и до сих пор, хоть нерегулярно, листаю новую египтологическую литературу. Так оно и должно быть: первая любовь.
На втором курсе появились новые искушения.
Внезапно умер основатель и первый руководитель нашего искусствоведческого отделения Иеремия Исаевич Иоффе. На наших глазах разыгрывалась драма наследования. Я говорю о наследовании научном: заведование кафедрой перешло к профессору М. Каргеру, специалисту по искусству Древней Руси. Интрига состояла в том, кто станет преемником идей Иоффе именно в наших студенческих глазах. Конкурентами были два ученика Иоффе – Моисей Каган, который уже читал студентам курс эстетики, и аспирантка Геня Гуткина [33]33
Геня Гуткина была человек разносторонне одаренный и по меньшей мере неординарный. Ее жизнеописание, если бы за такое взялся серьезный автор, было бы обречено стать бестселлером. Талантливый искусствовед, наделенный недюжинным художественным чутьем, она безоглядно отдалась опасному, дерзко задуманному и артистически обставленному авантюризму. Она поддерживала художников – диссидентов, переправляла их работы за рубеж, где они странным образом исчезали, заодно за рубеж тайно пересылались другие художественные ценности; работала над этим дружная группа, при участии подкупленных таможенников и иностранных дипломатов второго плана. Ее судебный процесс был шумно разрекламирован и неоднократно показан народу по телевидению – еврейская пружина заговора была для властей слаще мирра и вина. Гуткину осудили на 11 лет заключения, но срок она не отбыла, умерла в лагере. Несколько ярких и точных строк посвятил ей один из лидеров питерского подполья, эмигрировавший в США, Алек Рапопорт, в своей книге «Нонконформизм остается» (СПб.: Издательство ДЕАН, 2003).
[Закрыть]. Наиболее значительным и признанным творением Иоффе была его книга «Синтетическая история искусства» – грандиозный опыт построения целостной истории всех искусств на основе марксистской доктрины. Поэтому Геня сразу же предложила создать студенческий кружок «синтетиков» – под ее руководством, разумеется. Каган же учредил кружок эстетики и соблазнял нас тем, что эстетика в конечном счете и есть дисциплина синтетическая, поскольку изучает общие для всех искусств закономерности. Силы были неравны, и охотники до синтетического теоретизирования собрались вокруг Кагана. В кружок эстетики приходили студенты с других факультетов – там мы познакомились с Леонидом Столовичем, философом, с которым нас по си поры связывает тесная дружба.
Но для меня существовала другая дилемма. Не знаю, откуда это повелось, но в те времена, да и позднее, в искусствоведческом быту существовало неприязненное отношение к эстетическому теоретизированию. Не думаю, что это было идиосинкратическое отторжение марксистских схем. Хотя такой элемент мог присутствовать подспудно, неприятие строилось на широком противопоставлении конкретного знания, дела, контакта с живым искусством – и пустого спекулирования, в лучшем случае – траты сил на вольные интеллектуальные пасьянсы с их совершенной необязательностью. Эта критическая позиция привлекала меня своей специфически цеховой чистотой, профессиональным аристократизмом (чтобы не сказать – снобизмом) и сдерживала природную склонность к безудержному конципированию. В кагановском кружке я был непременным участником, но уравновешивал эстетические влечения робкими опытами собственно исторических штудий.
Тут очередным искушением стали Средние века. Западноевропейское средневековье меня манило по многим причинам. Правда, первая приватная встреча с Михаилом Васильевичем Доброклонским, который читал нам курс средневекового искусства, завершилась постыдным фиаско. Я явился к нему с пустыми руками – ничего, кроме декларации о намерениях. Михаил Васильевич стал перечислять труды, которые следует прочесть для начала. Труды были на разных языках, а коварство состояло в том, что профессор диктовал, а я записывал.
Когда М. В. увидел, как я написал по – немецки «Byzantinische» через «i» – «Bizantinische», все было кончено. Спустя два года я набрался смелости и стал излагать ему свои идеи. На этот раз они имелись, да и сложились не на пустом месте, а в результате знакомства с подлинным материалом – французской книжной миниатюрой готической поры из собрания Публичной библиотеки. Они не были оригинальными, но, право же, кое‑как отвечали действительному положению дел. М. В. вежливо уклонился от обсуждения, сказав, что мы, т. е. они, искусствоведы старой школы, больше как‑то насчет формы, а тут… Не знаю, был ли этому причиной проклятый византийский игрек или что другое, но руководителя в моих студенческих средневековых занятиях у меня не было. К тому моменту, когда надо было выбирать тему дипломного сочинения, я уже довольно далеко продвинулся в изучении французских иллюминованных рукописей, но в те беспросветные времена защита диплома на западную, да еще средневековую тему была невозможна. Пришлось подбирать другую тему.
Формально я числился в семинаре Валентина Яковлевича Бродского, а он был специалистом по искусству Нового времени. В. Я. в ненавязчивой форме предложил заняться советской сатирической графикой, то бишь политической карикатурой. Ну, нет, спасибо, предмет был не для меня. Более конструктивен был М. Каган: он посоветовал заняться Александром Ивановым и наметил аспект – Иванов и русская общественная мысль его времени. Это было серьезно, и я решился. Так Иванов и его эпоха попали в поле моих интересов.
По окончании университета я отправился в Таллинн на ловлю счастья и чинов [34]34
Лермонтовская цитата появилась тут непроизвольно, но не случайно. Спустя год или два после того, как я осел в Таллинне, туда приезжал профессор Каргер; он вполне издевательски спросил, получил ли я уже звание «заслуженного» – имелось в виду почетное звание заслуженного деятеля искусств или что‑либо в этом роде. Это был «тонкий» намек на то, что я уехал в небольшую республику ради быстрой карьеры. Он не мог не знать, как меня оплевали на факультете, чтобы я – не дай Бог – не претендовал на аспирантское место, как в качестве работы по специальности предложили заведовать избой – читаль– ней в каком‑то колхозе на Украине. Михаил Константинович был серьезным ученым и очень хорошо учил нас, но его человеческие качества вызывали сомнения не только у меня.
[Закрыть]. Ибо после получения диплома меня немедленно прогнали в Ленинграде даже с той не самой завидной работы, которую я исполнял, будучи студентом. Работа в Таллинне, не без отчаянной борьбы, но нашлась. А тема Иванова не была оставлена. Началось с того, что университетская кафедра предложила мне переработать главу из диплома для кафедрального сборника статей. Я так и сделал, и статья была послана в Ленинград [35]35
Дальнейшая судьба этой статьи не лишена интереса. Планируемый сборник, кажется, так и не увидел света, но моя статья исчезла из обозримого пространства еще прежде, чем сборник увял, не родившись. Пропала – и все. Спустя недолгое время, в 1956 году, по случаю 150–летия со дня рождения Иванова, в толстом московском журнале появилась статья моего университетского однокашника – на эту же тему. Буквальных заимствований там не было, но совпадали и привлеченные материалы, и сам ход мысли…
[Закрыть]. Далее, все тот же М. Каган написал мне, что надо переработать и дополнить другие главы – и защищать их в качестве кандидатской диссертации. Мысль была недурна, и я начал проводить ее в жизнь с той основательной неторопливостью, которая отличала меня с самого детства. Отец называл меня кунктатором – и справедливо. Я за брался в архивы и сокрытые от праздных глаз музейные хранилища, дел оказалось выше головы, а между тем жил—тο я в Таллинне и в обеих столицах, где находились все материалы, мог бывать только наездами. Словом, диссертация не появилась. Но нескольких статей, которые были опубликованы тогда, в пятидесятые годы, я не стыжусь, там почти все в порядке, на них ссылаются до сих пор.
Последней моей «ивановской» работой была подготовка документов для многотомного издания «Мастера искусства об искусстве»; там буквально каждая строка была проверена по архивам и устранено много ошибок, которые по традиции странствовали из одной публикации в другую. Когда я сдавал весь материал научному редактору тома профессору Федорову – Давыдову, я не отказал себе в удовольствии показать ему наиболее занятные ляпсусы. В одном месте он, дернув себя за бороду, воскликнул: «Черт побери, я двадцать пять лет толкую студентам это место, говорю им о ранних царистских иллюзиях Иванова…» Действительно, в старой публикации было написано «Николай Первый», а в рукописи – «Николай Пуссен».
Федоров – Давыдов стал уговаривать меня совершить научный подвиг – издать полностью архив Иванова. Искушение было велико – по – настоящему подготовить все письменное наследие великого мастера, прокомментировать, привести ответы на его письма и другие документы значило поставить памятник не только ему, но и себе, после такого можно было всю остальную жизнь с чистой совестью ничего не делать.
– Я вас искушаю, как сатана искушал Христа, – упорно настаивал Алексей Александрович. – Христос ведь, подобно вам, был иудей…
На сей раз дело кончилось точно так, как это было в типологической ситуации: соблазнитель остался ни с чем. Для преподавателя, живущего в Таллинне и задавленного тяжкой лекционной барщиной, задача была непосильной [36]36
В 2001 году в Москве вышел основательный сборник, составленный И. А. Виноградовым: «Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях» (Издательский дом XXI век – Согласие). Это издание при обилии помещенных в нем материалов могло бы быть в высшей степени полезным, если бы не агрессивная самодержавно – православно – патриотическая интонация и направленность статей и комментариев самого И. А. Виноградова. Новая партийность, негатив старой, не способствует ясности исследовательского зрения.
[Закрыть]. Я оставил ивановскую тему, но сохранил к ней самый живой интерес; однажды, уже в девяностые годы, я даже к ней вернулся. Но тогда, в пятидесятые, я все больше внимания уделял искусству Эстонии, главным образом – современному.
О моих первых опытах в области художественной критики я предпочел бы не вспоминать. Они были ужасны, вот и все. Впрочем, эстонский контекст помогал мне быстрее освобождаться от соцреалистических наваждений, которые я привез с собой из университета; я уверен, что в Ленинграде мое отрезвление шло бы заметно медленней. Я имел случаи в этом убедиться на примере некоторых моих коллег. Трансформация Савла в Павла бывает мгновенной только благодаря вмешательству высших сил. Не имея такой поддержки, я довольствовался постепенным превращением. К концу десятилетия мои писания стали выглядеть получше. Это не только мое, неизбежно субъективное, мнение, можно привести оценки независимых экспертов: в руководящих инстанциях меня уже, случалось, квалифицировали как ревизиониста, позднее признанные аналитики из Академии художеств СССР четко определяли меня как формалиста и, конечно же, эстонского буржуазного националиста. (Националисты в те времена были только буржуазные, других быть не могло, социалистическими были патриоты. Сейчас все как‑то смешалось.)
Словом, к концу шестидесятых я довольно много написал об эстонском искусстве, вышла в свет книга об эстонской графике. То была дань моему интересу к живому искусству. И лишь изредка бросал я косые взгляды в сторону манящего теоретизирования. Впрочем, нет, я постоянно читал курсы эстетики и потому старался быть в форме, следил за событиями, посещал эстетические конференции и неформальные встречи, почитывал литературу – случалось, не только отечественную. Но вот, на рубеже десятилетий, мне показалось, что завершился какой‑то этап, пора оглянуться кругом и выбрать другое направление занятий. Может, что‑нибудь из теории? В одной беседе с приятелем и коллегой прозвучали слова «методология искусствознания». Мне послышалось тут нечто заманчивое. Время изменилось, изменился и мой способ думать; вместо изношенных клише о единственно правильном учении, которое и есть всеобщая методология всего, можно было начать наново задавать вопросы – и в некотором роде даже философские.
Пока я размышлял над тем, какие они должны быть и как должны быть поставлены, в Таллинн приехал Юрий Овсянников с идеей ежегодника. От него исходили энергетические разряды, кунктатор получил сильный возбуждающий импульс. В первом же выпуске «Советского искусствознания» появилась статья, которая стала началом моих новых занятий.
* * *
В дальнейшем русло окончательно раздвоилось. Я никогда не отрекался от критики, особенно в том ее повороте, где главное – понять и истолковать художника, сделаться его рефлектирующим двойником. Ну, если не сделаться, то хоть на шаг– другой приблизиться к такой идеальной позиции. Конечно, при условии, что мир этого художника каким‑то образом способен резонировать с твоим собственным.
В живом, сейчас возникающем искусстве есть обаяние, против которого трудно устоять. Самый вид мастерской, ее запахи, возможность осторожно взять в руки свежий отпечаток, обнюхивать, сантиметр за сантиметром, только что законченную живопись – все это провоцирует особого рода профессиональное возбуждение, предчувствие духовного события, неопределенный поначалу гул, возвещающий о приближении понимания. Не всякий раз понимание дается в руки сразу, мешают, застилают поле зрения прежние модели и прежние перевоплощения, надо сочетать верность себе с протеической способностью к переменам интеллектуальной и эмоциональной настройки. Этого рода критика может обойтись одной только профессиональной техникой, высоким – я ничего не хочу сказать плохого, да, высоким – ремеслом. Но если всерьез, то для нее требуется искусство раздвоения: оставаясь в зрительном зале, ты в то же время актерствуешь, играешь за художника – и это, если следовать известному разделению, актерство не столько представления, сколько переживания. Затем, уже за столом, надо собрать слова и выстроить текст.
Примерно так были сделаны книжки – альбомы о художниках, о которых можно сказать, что они стали в большей или меньшей степени моими, – о Виве Толли, Николае Кормашове, Пеетере Уласе, Гюнтере Рейндорфе, статьи – жаль, что не книжки – о Юри Арраке, Малле Лейс… Там есть достойные места.
Но реалии времени были жесткие, говорить только о лучшем было бы нечестно. Много жизни было потрачено зря, безо всякой пользы для себя и для кого бы то ни было. Почетное место среди дел этого рода заняло участие в издании многотомной «Истории искусства народов СССР».
Каким образом я стал представлять Эстонию в редакционной коллегии этого издания, как я туда попал – не могу вспомнить. Помню, как наш институт известили об этой идее, зародившейся в недрах Академии художеств СССР, как прислали для обсуждения проспект будущего издания, помню, как в Москве было созвано совещание для обсуждения проспекта – я там был и о чем‑то выступал. Скорей всего, наша кафедра, с которой сносилась Академия, поручила дело мне, поскольку я лучше всех других владел языком «межнационального общения». А далее – я уже там, со всеми обязанностями, проблемами и приключениями, которые из этого следовали.
Лучше бы эта чаша меня миновала. Но – что было, то было, а кое‑что, может, и следует сохранить, если не для поучения, то хотя бы для памяти и для пресечения возможного исторического вранья. Перефразируя коллегу Джорджо Вазари, любившего говорить красно, – чтобы вырвать хоть что‑нибудь из прожорливой пасти времени.
Замысел монументальной истории был абсурдным изначально. Будущие «народы СССР» принадлежали к различным культурным ареалам, некоторые сложились в этнокультурные общности раньше, другие позже, между ними в прошлом было иногда мало сходного, а то и вовсе ничего. Если бы культуры могли себя прогнозировать на века и тысячелетия вперед и предвидели в дальнем будущем свое вхождение в единое культурное целое «советский народ», как выяснилось – эфемерное, стрела их развития была бы ориентирована иначе. Но футурологическая прозорливость никогда не была сильной стороной культурного самосознания. В одном и том же XV в. в Самарканде возводили медресе Улугбека, в Москве Аристотель Фиораванти, проектируя Успенский собор, приспосабливал ренессансное пространственно – объемное мышление к требованиям владимирской архитектурной традиции, а в Вильнюсе поднималась позднеготическая церковь св. Анны. Ни подданные хана, ни подданные Ивана III, ни подданные Ягеллонов никак не могли предвидеть, что их дальние потомки станут народами СССР. «Искусство народов СССР» как некое историческое целое было очередным продуктом идеологического мифотворчества, у изобретенной истории на самом деле не было единого предмета. Она была обречена стать механической суммой рядоположных историй, каковой и стала.
Иначе говоря, тень советского единства была отброшена в прошлое – вплоть до каменного века. Но туда же были отброшены тени советских разграничений. Не было, кажется, ни одного заседания редколлегии, где не разгорался бы спор между представителями Литвы и Белоруссии – ведь надо было по справедливости разделить наследие тех времен, когда политическая и этническая карта этих мест выглядела иначе. Каждая республика перетягивала памятники в свою историю. Хорошо еще, что не были советскими республиками в те времена, скажем, Польша, или ГДР, или даже Австрия – в противном случае дележ был бы еще более драматическим.
Бывали сражения и другого рода. Когда дело только начиналось – и даль свободного многотомника была неясно различима, – в Таллинн приехала молодая и подающая надежды коллега, сотрудница того самого сектора искусства народов СССР, под руководством которого проектировалось монументальное сооружение. Дама эта в дни свободолюбивых иллюзий раннехрущевской поры занялась искусством Прибалтики, где ее привлекла созвучная времени доктринальная раскованность. Тем временем произошел скандальный визит Хрущева в Манеж, а за ним последовала кампания по перевоспитанию заблудших мастеров искусств. Время потребовало иного созвучия – и даме пришлось перенастроить духовный аппарат. Теперь она ходила по мастерским художников, которыми не так давно восхищалась, и со страстью указывала им, что они на ложном пути. «Я верю Партии!» – добавляла она с нужным придыханием.
Но главная цель ее приезда была иная. Поскольку я представлял в редколлегии Эстонию и отвечал за тексты об эстонском искусстве, ей необходимо было договориться со мной о некоторых деликатных замыслах. Деликатность замыслов сочеталась с простотой: даме хотелось писать самой многие разделы истории эстонского искусства, чем больше, тем лучше. Свои мотивы она не скрывала. «Вы понимаете, – втолковывала она мне, – возможны премии!» Некоторые люди умеют смотреть далеко вперед. Вот выйдет в свет десятитомный труд, полный советского патриотизма и правильно, т. е. телеологически, истолковывающий историю искусства нескольких культурных регионов, – так почему будет не дать ему Государственную премию, даже Первой степени, почему же нет! Ну – Второй. Но тогда ведь не всем дадут, авторов не счесть, дадут тем, у кого больше других написано. Значит, надо написать как можно больше… Требовалось мое согласие. Разумные вычисления коллеги, однако, на меня не произвели впечатления. Я сказал ей со всей твердостью, на какую был способен, что так дело не пойдет, что эстонские разделы будут писать те авторы, которые исследовательски занимаются соответствующими темами, их в Эстонии достаточно. Моя твердость мне впоследствии дорого обошлась. А поскольку дама сидела в Москве, в самом секторе, то ей время от времени удавалось урвать куски…
На очередном собрании редколлегии в Москве выясняется, что всезнающая коллега уже написала большой раздел – по археологии всей Прибалтики, он в первом варианте готов, пора его обсудить. Я признаю, что обсуждать такую тему я не в состоянии из‑за собственной некомпетентности; в отличие от московской дамы, я об этих вещах не осведомлен. Но могу предложить решение – в Эстонии работает крупнейший специалист по археологии Прибалтики, академик Моора, давайте попросим его дать отзыв. Со мной полностью соглашаются коллеги из Литвы и Латвии.