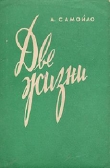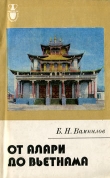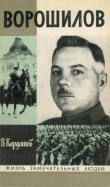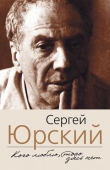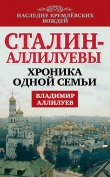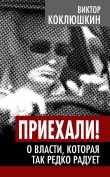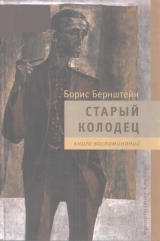
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Нам же пора вернуться к общей формуле поистине эйнштейновской простоты.
Итак, I=l/R, где, напоминаю, I – это Идиотически скрупулезное исполнение закона или правила, a R – это его Реальное значение. Иначе говоря, пунктуальность исполнения некоего закона или правила обратно пропорциональна его практическому значению. Строгое математическое выражение этого принципа особенно полезно, поскольку позволяет получить нетривиальный вывод.
Представим себе, что некое мероприятие X идеально бессмысленно, иначе говоря – значение R равно 0. Тогда значение I возрастет безгранично, или, как выразится математик, 1 = °°. Однако такой вывод абсурден: бесконечный педантизм может быть атрибутом абсолюта, который сам обладает свойством бесконечности. Но для тварной и даже атеистической советской системы такое состояние недостижимо. Как показывает опыт, она сама конечна и потому ее педантизм всегда представлял собой конечную величину. Следовательно, в нашу формулу приходится ввести дальнейшие ограничения: R, или практическая эффективность, в принципе бессмысленного мероприятия должна быть отлична от нуля. Она может быть незначительной, но не может быть нулевой!
Такова логика математических моделей, описывающих фундаментальные процессы в природе и обществе. В переводе на человеческий язык наш вывод звучит так, что власть всегда стремилась превратить, скажем, съезд художников (как и Съезд Партии) в безупречное, идеально бесполезное и бессмысленное советское мероприятие. С партийными съездами, там, где партия организовывала сама себя, эксперимент зашел так далеко, что цель была почти достигнута, помешала только высокая смертность среди генсеков, которую я рассматриваю как акт самозащиты высшего разума. Но в других случаях в непроницаемой, казалось бы, стене бессмыслицы непременно обнаруживались узкие и кривые щели. Иначе было бы не выжить. Я уже приводил примеры.
* * *
Самым мерзким – на моей памяти – съездом ССХ был тот, который скликали после визита Н. Хрущева в Манеж, в дни последовавшего затем пароксизма идеологической борьбы. Кажется, он был вторым по номеру и разыгрался где‑то зимой 1964 года. Вот где партийно – реалистическое ядро советского искусства собралось взять реванш за небольшие, но оскорбительные унижения времен оттепели. Скрупулезность подготовки съезда (значение его «I») достигла высоких значений. В организационном отношении ключевыми были, как всегда, кадровые проблемы. Надо было, во – первых, удалить из состава делегатов съезда тех художников и критиков, которые так или иначе подрывали основы реалистического искусства, но были ошибочно избраны на съезд до хождения Хрущева в Манеж. Ретроспективно следовало считать, что они пробралисьна съезд, и положение требовало юридической коррекции. Во – вторых, и самое главное, надо было обеспечить избрание правильных людей в руководители творческой организации; на этот счет ходили самые мрачные слухи – будто в председатели прочат Владимира Серова, который уже президент Академии художеств и председатель Союза художников России, или Евгения Вучетича, наиболее партийно – патриотического скульптора всех времен…
За съездом, конечно, следил сам тов. Ильичев, секретарь ЦК, но из своего кабинета, а на месте, в поле, пастухом съезда был его какой‑то там заместитель, представительный мужчина с руководящим, как у коровы зебу, мешочком под подбородком, Поликарпов по фамилии. Диагональ, которая в силуэте шла от подбородка прямо к углублению между ключиц, придавала ему мужественно матёрый вид, подобающий руководителю.
Изгнание пробравшихся в делегаты было назначено на вечер. Сор из избы выносить было нельзя, дело семейное, поэтому Поликарпов распорядился всех иностранных гостей (а какой съезд без друзей из разных стран?) увести пить кофе и показывать Москву, чтоб их духа тут не было. Гостей учтиво вытолкали. Остальных вернули в зал. Вести ответственное заседание поставили знаменитого украинского художника, естественно – народного, к тому же еще и доктора искусствоведения, чью фамилию мне никак сейчас не вспомнить. Зато помню, что он был в вышитой украинской рубашке, которую почему‑то называли «рубашка – антисемитка» – неправильно, ибо вышивка по вороту с древности имела другую функцию. Еще помню, что на Украине остроумцы его прозвали фельдшером искусствоведения… Ну, что за память, нужное забыто, а всякий вздор тут как тут, под рукой. Нет, надо вспомнить, неприлично. Такая простая фамилия, на К., график он был.
Да, вот она: Касиян! Конечно же, Касиян, Василий Ильич, он.
Под руководством коллеги в вышитой рубашке кто‑то убедительно зачитал проект постановления мандатной комиссии съезда (не всем понятно, что это такое, – ну, и не надо). В постановлении было сказано, что на съезде присутствует столько‑то человек, из них народных и заслуженных столько‑то, мужчин столько‑то и женщин столько‑то, коммунистов столько‑то и беспартийных столько‑то, лауреатов столько‑то, лиц с высшим образованием столько‑то, с незаконченным высшим столько‑то, русских столько‑то, украинцев столько‑то, казахов столько‑то, других национальностей столько‑то, в возрасте до тридцати пяти лет столько‑то, после шестидесяти пяти – столько‑то, а тт. Андронова, Каменского, Никонова и им подобных лишить депутатских мандатов. Доклад комиссии утверждали «в целом», открытым голосованием, так что если ты голосуешь против обезмандачивания Андронова или Каменского, значит, ты против того, что тут мужчин столько‑то, а женщин столько. И тебя хорошо видно… Итак, доклад ставится на голосование, провозглашает председательствующий.
– Кто за утверждение доклада?
Как говорилось в те поры, «лес рук».
– Кто против?
Люди поднимают руки! Не скажу, что большинство, нет, но человек сто – сто двадцать показывают, что они против. Они поднимают руки высоко вверх, чтобы было видно, что они против!
Председательствующий мужественно, не отводя глаз, глядя прямо в зал, говорит в микрофон:
– Против нет. Принято единогласно.
Тогда из зала раздаются выкрики: «Есть! Есть против!..» Но фельдшер быстро орет в микрофон:
– Заседание закрыто.
И удирает из президиума за кулисы.
Закрыто заседание, понятно? Всё. Принято единогласно. Расходитесь, товарищи, расходитесь. Расходитесь. Тут у каждой двери стоят ребята в форме и даже в фуражках с необходимым околышем. Они уже обратили внимание на то, что заседание окончено, и распахнули двери.
И товарищи разошлись. По – разному. Некоторые – с чувством исполненного долга, другие – с чувством глубокого удовлетворения. А некоторые – с чувством, что либеральные обольщения пора забыть и что их только что изваляли в дерьме.
Впрочем, съезд не кончен, и голосование было не последним. Впереди выборы Правления – и кое‑что будет зависеть от того, кто окажется на вершине власти. Напоминаю, в массах ходили слухи, что в главные прочат то ли Владимира Серова, то ли Евгения Вучетича; мрачней перспективы нельзя было себе вообразить. Ну, а что же на самом деле?
Между властью и народом должен быть промежуточный слой, бесконечность божества не может непосредственно соприкасаться с конечным бытованием, об этом с полной ясностью говорилось еще в ареопагитиках, относимых к V веку; там безымянный, но святой автор описал девять небесных чинов, через которые божественное постепенно опускается до человеческого. В нашей скромной системе место Херувимов, Серафимов, Престолов, Господств, Властей, Сил, Начал, Архангелов и Ангелов занимали референты Правления; не вспомнить о них – значит допустить грубую историческую несправедливость. Ангелом, курировавшим республики Прибалтики, была Анна Зуйкова, Ася. Украину курировала Ольга, Среднюю Азию – Маргарита, всех графиков опекала Элла, критиков – Валя…
Так вот, в кулуарах съезда меня разыскивает ангел – референт Ася и дает необходимые указания. «Боря, – говорит она строго, – передай эстонской делегации, что голосовать надо разумно, а не под влиянием страстей. Вычеркивать из списка только три имени. Никак не больше, только три. Надо, чтобы разрыв между этими тремя и остальной массой – по количеству голосов – был разительным, чтобы даже в ЦК видели, что этих ставить во главе нельзя. Ты понимаешь – чтобы между последним по числу „за“ и ними была дыра голосов в триста!»
И, подобно привидению старой графини из оперы, она тихо называет три имени: Серов, Вучетич и еще кто‑то… Кривоногое? Кривошеев? Криворукое? Как и в опере, с третьим беда: путаю, кто был этот чёртов третий.
Я отправляюсь к своей эстонской делегации и на языке финно – угорской группы передаю важную установку.
Тем временем приводится в действие другой механизм: цековский пастух Поликарпов, покачивая коровьим мешком, собирает партийную группу съезда, то есть всех членов правящей партии, и дает указание, которое должно исполнять в порядке партийной дисциплины. Указание простое, понятное любому идиоту – никого не вычеркивать из списка, никого, ясно? Опускать в ящик со щелью бумагу нетронутой, как тебе дали, так и опускай. Всё. Исполняйте, товарищи.
Наконец, наступает главный момент.
Как сейчас вижу нелепо длинный зал кремлевского дворца, у самой сцены, чуть справа, если от публики, стоят рядышком Поликарпов и Серов, словно бы надзирая. Само по себе это парное стояние и тихий разговор должны показать народу, кто избранник: уже президент Академии художеств, уже председатель Союза художников России, но еще не председатель всего Владимир Серов; вот человек, которому можно доверить штурвал советского искусства после опасного дрейфа времен так называемой «оттепели».
Между тем, делегаты съезда повели себя неправильно: рассевшись по вестибюлям, променадам и разным концам зала, они сладострастно впиваются шариковыми ручками, карандашами и вообще чем попало в листы бюллетеней – и что‑то там чиркают, чиркают.
Раздраженный Серов громко, чтоб слышно было, говорит Поликарпову:
– Безобразие! Коммунисты вычеркивают!
Коммунисты, действительно, вычеркивают. Очень возможно, что они вычеркивают именно Серова В. А., даже скорей всего. И Поликарпов это видит…
Между тем – о чем следует помнить – сам тов. Поликарпов отвечает за съезд головой, и его голова об этом хорошо знает. И вот, на глазах у всех Поликарпов, поначалу неспешно, отделяется от Серова. Это не означает, что Партия разлюбила Серова. Просто надо было действовать немедленно, решительно и правильно. Иначе восторжествует стихийность. Поэтому Поликарпов отодвигается от Серова. Интервал между их телами становится все заметней, он увеличивается с нарастающей скоростью!
Куда же направляется Центральный Комитет Партии в лице своего полномочного представителя? Он направляется к живому классику Борису Иогансону, который – неожиданно для всех – выступил на съезде со свободолюбивой речью и позволил себе говорить что‑то в защиту молодых художников. Он‑то наверняка получит более пятидесяти процентов голосов… Так вот, от имени Партии Поликарпов быстро просит Иогансона возглавить Союз Советских Художников. И Борис Владимирович категорически отказывается. Наотрез.
Дальнейшее мне известно «со слов», но слова подтверждены наступившими событиями.
Получив отказ от Иогансона, Поликарпов решает, нет – принимает решение обратиться к правившему с предыдущего съезда Сергею Герасимову. Сергей Васильевич в дни съезда недомогал, он приехал на открытие, сказал приветственное слово и уехал домой – болеть. Поликарпов мчится к Герасимову домой – домой! – чтобы уговорить его остаться снова на посту, с которого его хотели убрать. И снова от имени Партии просит, но уже Герасимова… А Сергей Герасимов, человек – скала, отвечает ему дерзко: пусть об этом мне скажет Ильичев!
Так, напоминаю. Ильичев, впоследствии или уже к тому времени академик, не столько за ученые труды, сколько по причине врожденной партийной мудрости, был секретарем ЦК, выше его был, наверное, только Суслов или Сам…
Мы сейчас увидим, зачем Герасимову нужна была более сильная просьба, чем просьба какого‑то заведующего отделом или что‑то там в этом роде. И Поликарпов, вот уж и вправду распроклятая служба, поджав хвост, мчится в дом на очень старой площади.
Вскоре Герасимову позвонил лично тов. Ильичев. Сергей Васильевич, сказал он, Партия Вас…
Хорошо, отвечал Герасимов, но при условии, что при мне секретарями будут Белашова, Осенев, Серебряный, Суслов (это был совсем другой Суслов)…
Схватываете? Не совсем? Объясняю: Герасимов хорошо знал повадки власти, он понимал, что его наверняка собираются окружить людьми из клики Серова, это первое; он также понимал, что Поликарпов спокойно мог пообещать, а потом сказать, что Ильичев отменил…
Забегая вперед, скажу, что Союз художников при Герасимове, а после его ухода – при наследовавшей ему Екатерине Белашовой, был относительно либеральной институцией, противостоявшей агрессивной реакционности Академии художеств и российского Союза. Позднее, после Белашовой, все растворилось в бесструктурной плазме…
Закончилось голосование, объявили результаты, неплохие, надо сказать, народ стал расходиться. Я вышел пораньше и стоял, не помню уж с кем, на Соборной площади, когда съезд вываливался из охраняемых дверей дворца. Мимо прошел скульптор Олав Мянни и показал мне три пальца. Вышел ректор нашего Института Яан Варес, подмигнул и бросил на ходу: «Бог троицу любит». Вот идет Коля Кормашов, когда‑то мой студент, прекрасный живописец; мы дружим до сего дня, по старой памяти я его все еще называю Колей, хотя Николаю Ивановичу уже за семьдесят, – так вот, идет Кормашов, я спрашиваю, как он проголосовал…
– Я человек восемьдесят вычеркнул, Борис Моисеевич.
– Коля, – говорю я назидательно – мы же договорились, чтобы троих.
– Да всех их надо было вычеркнуть…
Конечно, конечно, свободная мысль свободной постсоветской эпохи может задать строгий вопрос – какое это имеет значение? Какая разница – тот Герасимов или этот, торквемада соцреализма Серов или рафаэль соцреализма Иогансон; всё одна система, все были одним миром мазаны. Кому это теперь интересно, каков был председатель Союза советских художников после N – ского съезда? Великие страсти без предмета; существо от этого не менялось…
Конечно, конечно, большое видится на расстоянии, как утверждал поэт, но то же расстояние съедает детали, нюансы и переходы [27]27
Я недавно прочел статью одного петербургского музыковеда о музыке Малера. Он пишет, что Малера долгие годы в Советском Союзе не исполняли. И далее, цитирую: «· Не знаю, был ли на то некий специальный запрет… Да и знать не хочу. Мне просто дико представить себе малеровское смятение, малеровскую нервозность, малеровскую грандиозность – в зале, заполненном людьми со значками сталинских лауреатов и орденоносцев».Видите, кто заполнял Большой зал Ленинградской филармонии в 1930—60–е годы: недостойные малеровской нервозности люди, клейменые орденами и лауреатскими значками! Так вот, это неправда. В отличие от процитированного автора, который существенно моложе меня, я бывал в филармонических залах в те мрачные годы достаточно часто. Не видел я там толпы сталинских лауреатов и орденонсцев (да и вообще, обладание орденом вовсе не обязательно служит признаком негодяя, тупицы и душителя). Зато я видел множество прекрасных интеллигентных лиц, непременно встречал известных мне профессоров Консерватории, Университета, Политехнического института, а заодно и множество консерваторских и университетских студентов, видел людей, уцелевших в лагерях и ждавших – это в первые послевоенные годы – возможной новой посадки. Я был в филармоническом зале и в тот вечер, когда Е. Мравинский, впервые после чудовищного постановления 48 года, продирижировал Пятую Шостаковича и после исполнения, вместо того чтобы раскланиваться, поднял над головой партитуру, а зал встал и устроил овацию. Видимо, встали те, кто умел откликаться и на нервозность, и на грандиозность. А вооображенные автором бесчувственные орденоносцы отвлеклись в тот вечер на что‑то другое…
Увы, нечто подобное приходится читать и у других авторов: сквозь размашистое письмо просвечивает ничем не обеспеченное презрение к людям тех лет, без отличения жертв от подлецов и палачей.
[Закрыть]. А Бог в деталях – есть такая точка зрения, и не вовсе пустая.
Жизнь человеческая конечна (прошу простить мне эту маленькую банальность), и миллионам людей пришлось прожить ее тамцеликом. Я оставляю в стороне вопрос о потустороннем: мы обсуждаем здешние дела. А тут, в числе миллионов, чей земной путь с начала и до конца прошел в обстановке реального социализма, были сотни художников и критиков, – ну никак не меньше, право же! – которые расположены были выразить свое понимание мира и искусства иначе, нежели того требовали принципы партийности, народности и реализма. Попросту говоря, им хотелось хоть некоторой толики свободы, – той свободы, к которой, по мнению Жан – Поля Сартра, экзистенциалиста, человек приговорен. При начальниках – душителях им сулились другие приговоры. Вот им‑то было небезразлично, Владимир Серов, Вучетич или Сергей Герасимов, – и прошу суровых историков – моралистов сменить позу микельанджеловского Христа, посылающего в ад всех подряд, на более милосердную. Требуется понимание: для поколения, нет – для поколений, реальный социализм был всегда,в персональном измерении он был равен вечности. Это была жизнь, а другая не была дана. Пожалуйста, подберите подходящий аршин. Суть не в формате, каким он видится издалека, а в подлинности. Страсти были подлинными, подлинными были чувства унижения, бессилия – и маленького торжества.
Вот вам.
Ага?
Выкусите!
Бог троицу любит…
* * *
Так вот, насчет членства в Правлении. Тут был некий интерес эстонского Союза художников.
Я готов нести ответственность за все свои дела, не отговариваясь природными дефектами – дескать, «глуп был, недоумок – съ, ваши превосходительства!». Но объясниться надо.
Есть вещи, которые либо трудно понимаются из России, либо не понимаются вовсе.
Эстонцы в своем подавляющем большинстве так и не почувствовали себя интегрированными в социалистическую общность людей. Я сейчас говорю не о вековых обидах и унижениях, не о кошмарных репрессиях сталинщины, не о навязанном двуязычии с доминантой русского, не о политических настроениях даже, а о глубинных пластах психологии (Фрейд тут не при чем, есть еще другие глубины). Не требовалось быть антисоветчиком или русофобом, чтобы ощущать культурную несовместимость. Московско – советская ситуация переживалась как не своя, эстонская ментальность не растворялась в советском «мы». Любое действие там, в России, производилось как бы на мало или не вполне разведанной территории, положение осложнялось несовпадением бытовых и культурных норм и – не в последнюю очередь – языковыми затруднениями; эстонский и русский языки очень далеки друг от друга. Между тем, реальная жизнь требовала дипломатических и других усилий в «центре». Вот тут‑то мое двойное культурное гражданство оказывалось кстати.
Однажды, дело было в середине шестидесятых годов, меня пригласил к себе председатель эстонского Союза художников; имя этого человека было Яан Ензен, это имя сейчас редко поминают в Эстонии, и зря: в свое время он многое сделал, чтобы защитить ростки свободы, которыми были замечательны те годы. Ибо с середины шестидесятых на выставки в Эстонии стали «пропускать» произведения практически всех направлений, критерием становилось художественное качество, а понятие «социалистический реализм» и его производные незаметно исчезли из обихода, как оказалось – навсегда. Недаром уже давно говорится о легендарных шестидесятых.
Так вот, Ензен позвал меня на доверительный разговор. Оказалось, что ситуация неожиданно осложнилась – три видных художника, обремененные почетными званиями и другими отличиями, озаботились бурным наступлением антиреалистических тенденций в эстонском советском искусстве. Они были приняты первым секретарем эстонского ЦК, которому и рассказали об угрожающем положении в творческом коллективе. Более того, они положили на стол секретарю соответствующий текст, где содержалось описание неправильного хода событий, тревожный прогноз и проект мер, которые следовало принять. Секретарь ЦК велел оставить бумагу – для руководящего обдумывания. Проницательному наблюдателю нетрудно было угадать, чем объясняется такое отложенное, как ныне говорят, решение. Предстояла большая ритуальная выставка республик Прибалтики в Москве, в Манеже. Прежде чем что‑либо предпринимать, надо было посмотреть, как посмотрят на наши выходки там, в столице. Следовательно, московская реакция приобретала роковое значение.
Такие дела, сказал Ензен. Значит – вот тебе командировка, поезжай в Москву, у тебя там знакомые критики, знакомые в редакциях, ты знаешь людей – отправляйся и интригуй, делай все, чтобы была хорошая пресса.
Приехав в Москву, я сходу позвонил самому Михаилу Владимировичу Алпатову и изложил просьбу. М. В. вежливо уклонился, сказав, что к искусству Прибалтики, Эстонии в частности, относится с большим интересом и уважением, но сейчас совершенно перегружен. Затем я направился в главное место – в редакцию журнала «Искусство», единственного тогда толстого журнала по нашему делу. Там я узнал много интересного.
Заведующий отделом современного, то есть советского, искусства, Эрик Дарений, вытащил из ящика стола рецензию на мою статью, еще не опубликованную, за подписью члена редколлегии, директора Института истории и теории искусства Академии художеств СССР, академика и проч. Андрея Константиновича Лебедева. Отзыв знатного коллеги заканчивался словами: «И вообще этого автора не следует привлекать к сотрудничеству в журнале».
Я с пионерских лет приучен был ставить общественные интересы впереди личных, и потому не о своей статье говорил, а стал допытываться у Дарского насчет перспектив освещения нашей выставки в журнале; так это корректно называлось на языке эпохи. Оказалось, что перспектива уже есть: главный редактор, В. В. 3., вчера только ездил в ЦК за указаниями, как освещать.
…Если кто‑либо в этом месте ждет от меня обличительных восклицаний и выкриков о свободе творчества, независимости критики и вообще о том, какое там в ЦК их собачье дело, – он будет разочарован. Никаких эмоций. Только говорящие факты. 3., который еще появится в моем повествовании, поехал в ЦК, чтобы узнать, как он в своем журнале будет освещать выставку трех прибалтийских республик. Нет, не так: не в своем журнале, а во вверенном ему журнале, теперь правильно. Ну, словом, что же он услышал?
Освещать объективно, сказали ему, но с учетом национального своеобразия.
В одной из давних передач Би – Би – Си я услышал жалобу незабвенного обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга по поводу передовой статьи газеты «Правда» – он сетовал на то, как нелегко дешифровывать кремлевскую клинопись.Это им там было нелегко, мы—το бегло разбирали кремлевские письмена… «Освещать объективно». Эта фраза была чисто церемониальной и никакого другого смысла не имела. Зато «но» – почему «но», ради Бога? – о, это «но» имело глубокий смысл. Оно означало, что бить не велено. Такой это был клин.
Я мог позвонить в Таллинн, утешить Ензена, а затем уж обсуждать со знакомыми критиками, кто куда объективно напишет.
Не следует удивляться, что пресса была вполне положительная. Эстонский ЦК был доволен исходом, жалобу – донос – проект художников – реалистов передали в парторганизацию Союза художников, присовокупив, что мы, мол, тут в ЦК не специалисты, а у вас там своя организация, разбирайтесь, товарищи. Товарищи не без элегантности похоронили жалобу, но это отдельный сюжет, я и так уже едва не потерял нить. Просто я хотел сказать, что – хоть моя заслуга была невелика – но подобные дела могли возникнуть в дальнейшем, и, видимо, на этот случай меня выдвинули от республики в Большое Правление. На съезде меня мало кто вычеркивал из списка: какой‑то там из Эстонии, их дела, тут своих проблем хватает, некий Бернштейн, подумаешь, не Вучетич же… Словом, меня избрали в Правление, где я фигурировал добрый десяток лет. Был ли от меня прок? Ох, не знаю…
Наконец, эстонская художественная общественность решила заменить меня в руководящем органе на другого представителя. На очередном съезде, в перерыве – или нев перерыве: кто же мог выдержать тягомотину отчетов и речей, зал часто бывал наполовину пуст, и кремлевские солдатики с изумлением и подозрением смотрели на съезд, напоминавший цыганский табор лучших времен, – сидя в буфете, я поделился новостью с моим другом, замечательным молдавским живописцем и мудрым человеком, Михаилом Греку. Он принялся меня поздравлять и объяснять, как это прекрасно. А то ведь, сказал Миша, хоть ты там ничего и не делаешь, а все равно руки в крови…
Он тоже, наверное, был прав.
* * *
* * *
Новый ректор Яан Варес был самым молодым ректором в республике – и ему предстояло править дольше всех. Он не был революционером ни в искусстве, ни в администрации, а если бы был, то вряд ли так долго сохранял бы эту должность. Мудрость Вареса была в том, что он не мешал. Этого было более чем достаточно. Естественные жизненные соки, не встречая серьезных препятствий, все более энергично струились внутри крепких стен нашего старого дома.
Свободней стали требования на творческих кафедрах, тупой ригоризм времен Лехта вскоре был забыт. Студенческая инициатива получила выход в форме, которая практически не контролировалась, – эту форму предоставило традиционно легальное студенческое научно – творческое общество. Там экспериментировали. Мудрый и эрудированный Тынис Винт докладывал о современных авангардных течениях. Однажды в зале ближайшей школы студенты показали нам удивительный спектакль – некое бессловесное пластическое действо, чья абсурдность словно бы скрывала некую тайну. Возможно, это был первый в Эстонии (и в Советском Союзе) протоперформанс.
Весной 1965 года студенческое общество устроило неслыханную выставку. Там были вывешены абстрактные картины, там можно было видеть объекты, имитировавшие вошедший в силу поп – арт, реалистические изображения тоже бывали интересного содержания: на одной картине была представлена пустая комната, мать с ребенком на руках стояла у окна, за которым четко просматривалась конструкция радиобашни – глушилки, своим воем освобождавшей советских людей от необходимости подслушивать зарубежные радиостанции; картина называлась «Колыбельная»…
Уместно вспомнить, что методика глушения была опробована еще на заре советской власти, в 1919–1920 годах. Когда в задних дворах чрезвычайки по ночам расстреливали ни в чем не повинных людей, то на всю мощность заводили моторы архаических грузовиков. Моторы хорошо завывали, звуки выстрелов не беспокоили округу. Под такую колыбельную расстреляли в те далекие времена моего дядю, маминого брата, блестяще одаренного молодого человека, на которого написала нелепый донос оставленная им любовница. Семья мамы жила неподалеку, но стрельба не была слышна.
Но вернемся к выставке. Весь этот идеологический кошмар осторожное руководство института завуалировало статусом закрытой, внутренней, экспериментальной экспозиции, предназначенной ознакомить своих же специалистов с опытами научно – творческого общества ради их обсуждения и анализа. Профанам вход не был разрешен. Насколько строго соблюдался запрет – я сказать не могу, но формально разлагающее действие выставки на незащищенную публику было исключено.
Внутренний голос тогда подсказал мне, что тут, вот сейчас, история делает некий скачок, произошел разрыв монотонной постепенности. В знак этого понимания я купил у студентки Айли Сарв, впоследствии Айли Винт, небольшую абстрактную композицию – за 15 рублей «новыми». Это не лучшая картина Айли, но она обладает ценностью, не зависящей от капризов вкуса, а именно – документальной. Она хранится в моей скромной коллекции до сих пор.
Моя интуиция оказалась еще более пророческой, нежели я думал.
Институтская выставка была весной, а осенью предстояла большая, торжественная республиканская молодежная выставка, которая, в свою очередь, служила подготовительной к всесоюзной молодежной выставке, посвященной какому‑то юбилею комсомола. Выставки принято было посвящать значительным событиям – очередному съезду, юбилею – сорокалетию, пятидесятилетию, столетию. Посвящение свидетельствовало о преданности и имело сакральный привкус – не случайно определяющая часть слова говорила о священстве.
Жюри республиканской выставки оказалось в затруднении: помимо молодых художников, уже признанных таковыми, принесли свои работы студенты – те самые, с закрытой экспериментальной выставки в Институте. Члены жюри были смущены. В этот критический момент легальные молодые художники заявили, что если работы студентов не будут выставлены, они тоже заберут свои работы – и молодежная выставка, посвященная юбилею комсомола, не состоится вовсе.
Уникальность ситуации состояла в том, что получить руководящие указания было невозможно: указующих лиц не было на месте. Спросить было не у кого. Все, кто был уполномочен решать, – секретари ЦК, заведующий отделом культуры, премьер – министр, министр культуры, даже председатель Верховного совета, который и так ничего не решал, – весь слой принимающих решения решительно отсутствовал. Потому что в эти дни в далеком Иркутске проходила Декада литературы и искусства Эстонской ССР. Сама история, с присущей ей неуместной иронией, подстроила ситуацию свободы. И оставшиеся на месте вышли из затруднения с достоинством – они позволили выставить всех. Или почти всех.
Так был создан прецедент, который игнорировать стало невозможно. Я не скажу, что на последующих выставках показывали все без разбору. Но чем дальше, тем больше критерием становилось художественное качество предлагаемых работ. При этом словосочетание «социалистический реализм» полностью исчезло из текущего критического обихода.
Из рассказанного следует, что положение с высшим художественным образованием в Эстонии, да и не только в Эстонии, могло внушить тревогу блюстителям догматических святынь.
* * *
Наш небольшой художественный мир все же принадлежал к чудовищному в своей абсурдной тупости целому, и центры этого целого не были безразличны к тем робким прорывам свободы, которые случались где‑либо на периферии.
Там, в центре, смотрели в корень. Проблемы художественного образования снова должны были стать предметом специальной заботы.
Давайте по этому случаю восстановим в памяти систему.
Дипломированным художником можно было стать, окончив один из многочисленных институтов, расположенных в обеих российских столицах, бывшей и настоящей, в столицах некоторых республик и даже в отдельных нестоличных городах (Львов, Харьков). Из них два имели высший ранг – Институт имени Репина в Ленинграде и Институт имени Сурикова в Москве: они подчинялись непосредственно Академии художеств СССР; официальное, длиною в две строки, название каждого начиналось сакраментальным словом «Государственный…» и заканчивалось столь же притяжательным «…Академии Художеств СССР». Это означало, что оба заведения принадлежали АХ как ее неотъемлемая часть, как жизненно важный орган репродуцирования себя, подчиненный, вместе со всеми прочими органами, обоим ее мозгам – воинствующему головному и рефлекторному спинному.
Академия была нерушимым оплотом социалистического реализма в изобразительном искусстве, стражем его доктринальной чистоты. Слегка перефразируя Герцена, можно сказать, что там, «подобно средневековым рыцарям, охранявшим Богородицу, спали вооруженными». В институтах, подчиненных Академии, царила художественно – полицейская асептика и антисептика.
Другие художественные институты не были оставлены без академического присмотра, но административно ей не подчинялись; там, как я упоминал, Академия осуществляла «методическое руководство»: разрабатывала и утверждала программы, следила за их исполнением, однако вершить все дела не могла. Тем самым создавалась лазейка для сомнительных педагогических экспериментов. И к нам в поисках элементарной свободы и человечности тянулись ребята из Москвы и Ленинграда, из российской глубинки, с Украины, из Молдавии, Средней Азии…
Я только что вспомнил об идеологических расправах Хрущева. А между тем, его соратники свергли его, в частности, за излишний либерализм! В конце шестидесятых годов, напуганная пражской весной, партия занялась замораживанием последних капель, оставшихся от хрущевской оттепели. Академия художеств, откликнувшись на требования времени, изобрела ход, который должен был раз и навсегда решить проблемы правильного обучения советских художников.