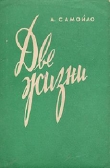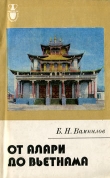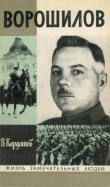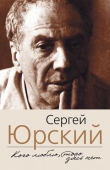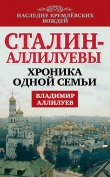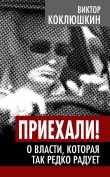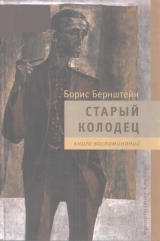
Текст книги "Старый колодец. Книга воспоминаний"
Автор книги: Борис Бернштейн
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
Для утверждения новой концепции была созвана сессия Академии художеств. И я там был! Поскольку на сессии должны были обсуждать и утверждать новые учебные программы по истории искусства, ректор Варес взял меня с собой.
Специальная секция, составленная из искусствоведов и академиков, занялась программами. Программа всеобщей истории искусства не представляла особого интереса, требования к ней предъявлялись бесхитростные: следовало показать, что вся история искусства была историей становления реализма в его борьбе с антиреалистическими течениями, а само развитие реализма – через его высшие проявления в русском искусстве – достигало климакса в искусстве советском. Поэтому программа истории советского искусства вызывала наиболее острый интерес. В конце концов, некоторые из присутствовавших на заседании секции почтенных академиков фигурировали в программе в качестве т. наз. советской классики…
Выступает академик К., безусловно классик, одна его картина двадцатых годов репродуцирована во всех альбомах и историях.
– Товарищи, – восклицает он, – вот тут написано: «Мартирос Сарьян, выдающийся портретист и пейзажист. Мастер натюрморта». Ну, пейзажист, это еще куда ни шло, но портретист! Нет, товарищи. Если мы хотим учить студентов настоящему реалистическому портрету, то Сарьян тут не при чем, это не реализм, товарищи!
Да, вот еще. В программе не назван скульптор Икс. А он создал памятник Коста Хетагурову! Это первое в мировой истории искусства изображение человека в бурке!
Я оказался на этом заседании в странном окружении. Слева от меня сидел А. Замошкин, директор Третьяковской галереи. Справа – В. Шлеев, научный сотрудник исследовательского института Академии художеств, последовательный борец за реализм. Они тут же, за моей спиной, стали обсуждать жгучий вопрос – действительно ли памятник Хетагурову работы Икса был первым изображением человека в бурке или все‑таки не первым…
Не менее важным было установление правильных пропорций. На первом курсе студентам надо было прочесть курс введения в искусство социалистического реализма. Затем следовало внедрить в них курс марксистско – ленинской эстетики, которая имела быть не чем иным, как эстетической теорией социалистического реализма. Само собой разумеется, центральное место в плане занимал подробный курс истории советского искусства. Наконец, на пятом курсе, под занавес, когда студенты уже работали над дипломными произведениями, предусмотрено было прочесть им курс основ советского искусства. Еще один гвоздь в темя. 30 часов, полный семестр.
Я не сомневаюсь, что в заведениях, прямо подчиненных Академии художеств, этот план соблюдали свято. Мы у себя на кафедре тоже были признательны Академии за такой подарок. Нам всегда не хватало часов для курса всеобщей истории искусства, для курса эстонского искусства. Теперь мы нужные часы получили. Вместо Основ Советского Искусства можно было рассказать студентам о том, что их, конечно, занимало куда больше: о том, как складывались главные направления авангарда XX века, о том, что делается сейчас в искусстве Запада. Тот факт, что эти запретные сведения мы сообщали именно за счет Основ, доставлял нам особое, так сказать – коннотативное, удовольствие. Нет – нет, мы соблюдали правила игры – в журнале, куда следовало заносить темы прочтенных лекций, оставались липовые записи.
Еще раз повторю – у нас сложилась хорошая кафедра. Ее искусствоведческая часть была далеко уже не та, что в середине пятидесятых, когда нас было едва трое – четверо: Лео Соонпяя, Хелене Кума, Лео Гене, с небольшой нагрузкой – Элла Венде, да я. К нам пришли новые прекрасные специалисты – Эви Пихлак, Эне Ламп, из малоинтересного отдела Академии наук удалось переманить Кайю Лехари, начала читать курсы Хелли Сизаск, с нами стала сотрудничать Юта Кееваллик; когда пришел Яак Кангиласки, кафедра, наконец, отпочковалась от марксизма – ленинизма и зажила самостоятельной жизнью. Яак вскоре стал проректором, а затем, после ухода Яана Вареса, сменил его на посту ректора; заведовать кафедрой стала Хелли Сизаск – хороший организатор, она с самого начала сумела сохранить и поддержать дух дружеской коллегиальности, а когда кафедра начала готовить историков искусства, дельно и спокойно провела трудную реорганизацию.
Но и в те времена, когда конь и трепетная лань были впряжены в одну телегу, в этом небольшом сообществе не было ни интриг, ни предательств. Замечательный Арнольд Таккин преподавал студентам историю коммунистической партии. Спокойный, немногословный, остроумный человек, инвалид войны, он незаметно и бесстрашно говорил студентам правду. Он рассказывал им, как было на самом деле. Студенты, я знаю, им восхищались.
Есть вещи, которые я не умею объяснить – ни себе, ни другим. Не могло быть такого, чтобы в институте, в том числе и в студенческих группах, не было доносчиков. Но, насколько мне известно, на нас не доносили. Или, если доносили, то доносы оставались без последствий.
Словом, программные усилия Академии художеств по оболваниванию будущих художников имели успех не везде. Именно поэтому проект новой истории искусства был всего лишь периферийным ответвлением главного замысла.
Главной была простая и элегантная идея, которая, будучи поддержана в верхах, получила форму обязательного к исполнению постановления. Предлагалось сосредоточить подготовку мастеров изобразительного искусства, т. е. живописцев, скульпторов и графиков, в двух полностью подчиненных Академии институтах. Наиболее обещающие таланты всех народов СССР, интегрированных в новую историческую общность – советский народ, извлекаются из мест своего рождения и воспитания с тем, чтобы получить стерильное художественное образование в институтах двух столиц – московском и ленинградском. Я в кулуарах осведомился у академика К. – не у того, который помнил о первой бурке, а у другого, тоже К, но более интеллигентного – как будет с профессорами: лучших тоже соберут из всех республик? К. отвечал, чуть усмехнувшись, что предполагается, будто лучшие из лучших профессоров в московском и ленинградском институтах уже есть. Словом, механизм полного обезличивания, культурной и персональной стандартизации был хорошо продуман почти во всех деталях.
Что касается остальных высших художественных учебных заведений, то им разрешено было сохранить только прикладные специальности. Ну там – керамику, стекло, ювелирные изделия, текстиль, интерьер, мебель, всякие ремесла и рукоделия, не имеющие отношения к высокому. Предполагалось, и справедливо, что эти искусства представляют второстепенную идейно – художественную ценность. Еще в середине пятидесятых на какой‑то сессии АХ видная художница обратилась к президенту с дерзким вопросом: когда, наконец, Академия повернется лицом к прикладному искусству? Президентом тогда был Александр Герасимов, он был щедр на любимую народом соленую шутку: «Если мы повернемся лицом к прикладному искусству, – парировал Президент Академии, – то чем мы повернемся к изобразительному искусству?» В президиуме искательно и с достоинством смеялись. В конце шестидесятых президентом Академии был Владимир Серов, но академическая топология искусств не изменилась.
Новое постановление, казалось, создает узкую и полностью контролируемую воронку, через которую будут поступать кадры безупречно советских, безупречно однородных художников. И тут была упрятана ошибка.
Исполняя постановление, в нашем институте преподавание «трех знатнейших художеств» как бы упразднили: кафедру живописи переименовали в кафедру монументально – декоративной живописи, то же – с кафедрой скульптуры, кафедра графики превратилась в кафедру прикладной и книжной графики. Но продолжали учить тому же, только с нарастающей свободой. Периферийность «художественно – промышленных» учебных заведений обеспечила им большую независимость или, если выразиться осторожней, меньшую несвободу.
Замечу, что и в столицах поляризация стала более внятной. «Высокому» и рабски подконтрольному Академии художеств Институту им. Репина противостояло Художественно – промышленное училище имени В. Мухиной (на профессиональном жаргоне – «Репе» противостояла «Муха»). Вряд ли случайно, что питерские диссиденты чаще выходили из «Мухи». А уж периферийные институты…
Пытаясь натянуть вожжи, Академия выпускала их из рук.
* * *
* * *
В шестьдесят пятом году удалось подстроить еще одно нестандартное событие: мы созвали в Таллинне конференцию искусствоведов трех прибалтийских республик. Надо честно признаться – наш замысел изначально не содержал подрывных идей, затея была чисто позитивной: в культурной и художественной ситуации трех республик было достаточно общего, почему было не поговорить о них совместно. Так дело выглядело с точки зрения здравого смысла. Но здравый смысл, как всегда, был неправ.
Принимающей стороной был Союз художников Эстонии – и я, волею случая представлявший искусствознание и критику в президиуме его правления, оказался в центре событий. Хлопоты всякого рода, списки приглашенных, гостиницы, расписание интеллектуальных действий и их обеспечение… Когда все съехались, обнаружилось, что среди гостей двое лишних. Заместителя директора по научной части Института истории и теории искусства Академии художеств СССР тов. В. В. и научную сотрудницу Института тов. Св. Ч. никто не звал. Но Академия своей волей направила их в Таллинн с ответственными поручениями. Первое поручение было рутинным – следовало следить за ходом дискуссии и немедленно доносить в центр о происходящем. Срочность была такова, что длинные отчеты передавали по телефону ежевечерне. Рассказать, как выяснилось, было о чем.
Естественно, тексты докладов никто заранее не контролировал – каждая республика сообщала, сколько будет докладов, кто докладчики и как доклад будет называться. Из этих данных и составлена была программа.
По поручению принимающей стороны я открывал конференцию скромным вступительным словом. Затем с первым докладом выступил литовский коллега Стасис Будрис. Его замечательную речь я бы докладом не назвал – это была страстная филиппика. Будрис громил политику партии в области художественного творчества, поведение Хрущева на знаменитой «манежной» выставке Московского союза художников назвал хулиганским, последовавшие события трагическими… Так был задан тон. Не скажу, что все выступления были выдержаны в том же ключе, в программе были и вполне академические доклады. Тем не менее призрак бунта присутствовал в уютной светлой зале библиотеки нашего Союза художников. В Академию художеств по ночам шли тревожные донесения. И оттуда, видимо, было получено новое указание – немедленно, ничего не откладывая, прямо на месте, дать боевой отпор неверным, ошибочным и даже враждебным вылазкам прибалтийских коллег.
Академических было двое; как и положено, вперед выслали сержанта. Св. Ч. на последнем утреннем заседании конференции выступила с пламенной обличительно – защитительной речью. Она отстаивала принципы и разоблачала ревизионистов. Подлинность ее страсти затмевала ничтожество аргументов. Но правила игры, равно как и азарт игры, требовали оставить последнее слово за нами. В перерыве договорились, что это сделает другой коллега из Литвы. Однако, взяв слово, он заговорил совсем не о том – по причинам, о которых я могу только догадываться, но не собираюсь сейчас обсуждать. Оставалось последнее: я открывал конференцию, я имею право ее закрывать. И я воспользовался своим правом в полной мере…
Никакая дельная конференция не может быть без заключительного банкета. Народ собрался в подвал Дома художника своевременно. Наряд Св. Ч. был ослепителен – она явилась в светло – розовом, до белизны, пышно взбитом газовом платье с воланами в разных местах. Академические принципы реализма, партийности и народности искусства никак не регламентировали способы целомудренного украшения тела.
Начались тосты, а с ними очередные неожиданности. Внезапно газообразная Св. Ч. подошла к столику, за которым я сидел, и поднесла мне бутылку коньяку и какие‑то там цветочки, произнеся приличествующие слова. Забегая вперед, скажу, что этот коньяк никогда и никем не был выпит: когда, позднее, часть конференции в поисках простора перебралась наверх, в выставочные залы, Будрис схватил непочатую бутылку и с криком «от врагов – ничего!» выбросил ее из окна на асфальт площади – когда‑то Свободы, тогда Победы, а ныне снова Свободы.
Но танцы начались еще ранее, внизу, в тесном клубе, как только искусствоведы и критики Прибалтики наелись. В те времена западные веяния достигли наших краев, и парные танцы, такие как чувственное танго или энергичный фокстрот, уступили место массовым, быстрым и бесструктурным, вертикальным колебаниям. В тесноватой толкучке клуба я вдруг увидел перед собой трясущееся бело – розовое облако.
– Борис, – сказала мне дама прочувствованно, – вы меня волнуете!
Только этого не хватало. Несносная пошлость вида была дополнена пошлостью приема.
– Я думаю, вам это показалось, – возразил я.
– Нет, действительно, – продолжая трястись, настаивала искусительница. – Меня волнуют люди, которые превосходят меня в нравственном отношении!
На такое можно было и обидеться, поскольку превзойти Св. Ч. в нравственном отношении ничего не стоило, к множеству превосходящих относилась большая часть человечества. Всему профессиональному сообществу было известно, что клейма ставить негде.
Словом, я устоял.
Моя гордыня мне дорого обошлась.
Не стану перечислять посвященные мне идеологические доносы, которые дама отправляла в важные инстанции, издательства и редакции журналов. Они были подписаны разными именами – от директора института Академии художеств и до неведомого инструктора московского горкома партии, – а то и просто оставлены анонимными, но рука была одна, и набор разоблачаемых преступлений коллеги, превосходящего доносчицу в нравственном отношении, монотонно повторялся: я был формалист, ревизионист и эстонский буржуазный националист. Кое‑что из ее сочинений хранится у меня в архиве, да вряд ли кому теперь интересно это читать.
Доносы более общего характера, выполненные обоими академическими соглядатаями, имели свои последствия. В руководящих кругах появился пейоративный термин «таллиннский дух». Он расшифровывался в нескольких плоскостях. Это был, прежде всего, дух бунта, дух западного загнивающего формализма. Мало того, тут была зарыта большая идейно – политическая собака: самопроизвольная региональная конференция, да еще прибалтийская, очевидно пахла обособлением, противопоставлением отдельного региона целому, а точнее – назовем уж вещи своими именами! – сепаратизмом, даже сепаратизмом в кубе, поскольку здесь синтезировались три буржуазных национализма. Пришлось запретить такого рода встречи.
Следующую конференцию искусствоведов Прибалтики стало возможным созвать только через десять лет, да и то – минуя и Союз художников, и Академию художеств, по ведомству Академии наук… Это уже в середине семидесятых годов.
Конец истории искусства: до и после
Газеты из Эстонии доставляют в Калифорнию морем и, кажется, для такого дела международная почта использует каравеллы времен Фердинанда и Изабеллы. Сегодня в почтовом ящике появился номер с рекламой предстоящего Новогоднего бала для видных или состоятельных персон. Нам современны звезды, какими они были сотни тысяч лет назад, иные давно погасли. Про космические расстояния и скорость света знает каждый прилежный школьник, но ничто не может заставить меня видеть вместо звезды ее луч. В газете все еще декабрь – и я на время чтения оказываюсь там и тогда, живу декабрьскими событиями, страстями, декабрьской суетой.
Свежая старая газета. Старая свежая газета. Это недурно звучит, отличная деконструкция!
Прочитав известие или рассуждение, вдруг чувствуешь искушение вмешаться, предложить что‑нибудь другое или, не дай Бог, поправить, опровергнуть и уличить. Однако с декабрьским светом делать нечего, поздно, там, в Таллинне, уже прочли номер «Kultuurileht» («Культурной Газеты») от последней пятницы.
Впрочем, если перегнуть бесконечный лист места – времени несколько раз и сложить по линиям сгиба, то некоторые точки окажутся в непосредственной близости.
На страницах устаревшей газеты мерцают отблески недавней выставки эстонского искусства в Санкт – Петербурге. Спор о том, существовал ли в Эстонской ССР, этой бедной витрине Советов для Запада, этой бледной тени Запада для Востока, – существовал ли там подпольный художественный авангард.
…Малый зал Центра Помпиду в Париже был заполнен тиканьем будильника, прикрепленного к микрофону. Живописец Эрве Фишер шагал перед собравшимися от левой стены к правой вдоль протянутого через зал белого шнура. Медленно двигаясь, он говорил в микрофон, который держал в руке: «История искусства имеет мифическое происхождение». Далее следовали отчасти понятные слова; не каждое из них можно найти в словарях: «Magique. leux. Age. Ance. Isme. Isme. Isme. Isme. Isme. Neoisme. Ique. Han. Ion. Hic. Pop. Hop. Kitsch. Asthme. Isme. Art. Hic. Tic. Tac. Tic». За шаг до середины ленты он остановился и сказал: «Я, простой художник, рожденный последним в этой астматической хронологии, утверждаю и декларирую в этот день 1979 года, что ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ОКОНЧЕНА». Он сделал еще шаг, разрезал шнур и добавил: «Момент, когда я разрезал этот шнур, был последним событием истории искусства»…
День окончания истории искусства в Париже был 15 февраля 1979 года. Примерно за месяц до того или чуть менее, во второй половине января и, следовательно, еще в исторические для искусства времена, в Ленинграде, в Манеже открывали большую, на весь манеж выставку эстонского искусства.
Ленинградское телевидение собиралось посвятить выставке специальную передачу, и я беспечно согласился составить сценарий и ориентировать съемки. Поэтому я приехал в Питер и оказался в Манеже дня на два раньше «официальной делегации». В то утро мы беседовали с оператором телевидения, когда в комнату вошел кто‑то административно встревоженный и сказал, что мне как компетентному лицу из Эстонии надлежит принять товарищей от Обкома и Горкома КПСС, желающих ознакомиться с выставкой перед открытием, – дать необходимые пояснения, ответить на вопросы, если они возникнут, и все такое.
Группу товарищей из Смольного возглавляла плотная женщина невысокого роста в пиджачном, строго – партийном темносинем костюме, призванном гасить избыточную женственность! Крашеные волосы башенкой должны были возместить вертикальную ущербность фигуры, не прибавляя, однако, привлекательности. Мы представились друг другу без ненужных улыбок. После короткого обсуждения выяснилось, что руководители культурной жизни исторического города желают знакомиться с искусством братского народа не в форме экскурсии, где художественное переживание имеет стадный характер само по себе и еще более нивелируется внушениями ведущего, но в одиночку, личностно.
– Мы, – сказала главная культурная секретарь, – сначала походим – посмотрим, а затем соберемся здесь и поговорим.
Торжественные, ударные в идеологическом отношении экспозиции строились тогда по схемам сакрального пространства. Выставка в Манеже была трехнефной, иначе даже как‑то не получалось; на хорах располагались «малые», то есть прикладные, искусства. Но общая пространственная ориентация была зеркальной по отношению к христианской традиции. Вместо нарастания сакральности от входа к подкупольному месту и алтарю здесь наивысшее напряжение святости, сакральное фортиссимо должно было встречать посвященных сразу у входа, в так называемом аванзале, и затем постепенно ослабевать к другому концу храма. И это правильно.
Многие либерально настроенные наблюдатели в последние годы бывали возмущены лицемерием политиков, которые – не успев сносить цековские или обкомовские башмаки – стали верующими христианами (мусульманами, солнцепоклонниками, буддистами, иудеями). Ничто не может быть естественней подобной метаморфозы. Советская система вовсе не была а религиозной, ее антирелигиозность и антицерковность следует понимать в том смысле, в каком физики употребляют понятие антиматерии. Известно, что антиматерия материальна, но положительные частицы там заряжены отрицательно, а отрицательные, напротив, положительно. Научный коммунизм основан на вере точно так же, как и закон Божий: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», – говорил основатель первого в мире социалистического государства. Советский извод марксизма – это вероучение и церковь, но только с противоположным знаком. Поэтому и сакральное пространство выстраивалось задом наперед.
Аванзал эстонской выставки в ленинградском Манеже был составлен из скульптурных произведений и максимально идейно заряжен – в пределах, которые допускал наличный материал. В центре, по оси главного нефа, стоял изваянный из благородного теплого дерева и хорошо отполированный портрет только что цитированного Вождя и Основателя. Другая идейная композиция, справа от него, тоже из дерева, называлась «Беженцы» и с допустимой мерой условности, в виде слитной массы, представляла беженцев, в основном – женщин, детей и стариков. Хотя обстоятельства места и времени автор не уточнял, каждому должно было быть ясно, что тут представлен собирательный образ жертв империализма. Политическую конкретизацию этот символ получал в многофигурной композиции «Сонгми». Время летит быстро, новые поколения не помнят страстей отцов, напоминаю: Сонгми – это название деревни, сожженной американским напалмом во время вьетнамской войны. Скульптор в экспрессивной форме изобразил уцелевших жителей, вздымающих руки к небу в протестующем порыве. Группа стояла напротив Главного Бюста и несколько наискосок. Далее политическая энергия скульптурных образов постепенно слабела, но наши люди сделали все, что могли, зритель получал в аванзале ритуально предписанное художественное причастие.
Когда мы снова встретились – там, в аванзале, – на безликом лице под башенкой крашеных волос рисовалось туманное недовольство. Этого следовало ожидать. Но извилины руководящей мысли мне не дано было предвидеть.
– Товарищ Бернштейн, – сказала партийная смолянка. – Мы открываем выставку Лениным! – в ее интонации слышалось придыхание, которое в старину называли ложноклассическим, – это обязывает, не так ли?
Я согласился, что да, это – обязывает.
– Теперь посмотрите, – продолжала она развивать свою мысль, – что рядом с Ним. Беженцы! От кого они бегут?., (действительно, интересное наблюдение, от кого же?) Теперь обернитесь, пожалуйста, – вот эти тут протестуют. Против кого, против… – тут она запнулась, будучи не в силах закончить кощунственную фразу.
Подумать только, я‑то рассматривал эти образы изолированно, как бы сами по себе, один на один со своим идейным содержанием, и совершенно не обратил внимания на межскульптурные смыслопорождающие пространственные отношения!
Между тем, далее дело оборачивалось все хуже. После беженцев, но все еще в опасной близости к Ильичу, была экспонирована пластически эффектная баранья голова размером заметно, ну – по меньшей мере раза в три, больше натуры. Много ума не требовалось, чтобы уловить здесь еще один мерзкий намек. В том смысле, что чья это голова имеется в виду. После бараньей головы следовало еще какое‑то безобразие, а потом уж, замыкая ряд, лежала гранитная обнаженная женщина работы Антона Старкопфа. Конечно, здесь политические двусмысленности, граничащие с осквернением святыни, прямо не просматривались, но близость Ленина делала возможные эротические ассоциации по меньшей мере неуместными. Хорошо еще, что Старкопф, по своему обыкновению, сильно обобщил формы голого женского тела. Его младшие коллеги были не столь артистичны.
Главная культурная женщина, все более накаляясь, переключила наше внимание на другое крыло экспозиции, слева от головы Основоположника. Рядом с Ним были размещены произведения сравнительно нейтральные – я их не запомнил. Но замыкала дугу скульптура под названием «Сигнал». Некий мужчина, сидя на корточках и подняв совершенно вертикально правую руку с пистолетом, производил огнестрельный выстрел вверх, как бы в небо. Автор оставлял зрителю догадываться, из спортивного ли пистолета стреляет герой или же из боевого, зачем он стреляет и кому подает сигнал. Конечно, эта условная или, по – современному, виртуальная стрельба в аванзале производила впечатление бестактности. Не упрятана ли здесь, скажем, пародия на исторический Залп «Авроры»?
Но главное было в другом. Подойдя к произведению, дама покраснела и не смогла ничего сказать, – трудно поверить, но так это было: на какое‑то мгновение – некий бесконечно малый обломок эпохи – голос Партии просто умолк. Как известно, очень сильные раздражители подавляют и делают незаметными более слабые импульсы: гипсовый стрелок (или сигналящий) был изваян совершенно обнаженным. Т. е. голым, ну совершенно как мать родила: кроме пистолета там не было ничего рукотворного, только природное. Представьте себе, пожалуйста, сидящего на корточках обнаженного мужчину и учтите, что – в отличие от А. Старкопфа – автор позорной скульптуры трактовал принципы реализма буквально и упрощенно, т. е. не стилизовал и не обобщал частности.
Наконец, дама пришла в себя, напрягла волю и произнесла то, что позволял моральный кодекс строителя коммунизма:
– Нет, – сказала она – это невозможно.
Невозможность чего она имела в виду, осталось нераскрытым.
(В это время Эрве Фишер уже предусмотрел в деталях весь ход акции, символизировавшей конец истории искусства.)
Обдумывая сейчас, когда это стало частью отмененной истории, муки и страсти дамы, я, кажется, могу предложить правдоподобную гипотезу. Положение, действительно, было ужасным. Социалистическая демократия образца 1979 года зашла настолько далеко, что Союзная Республика могла сама решать, что ей показывать на своих выставках. Таков, во всяком случае, был уговор, и дама, видимо, это знала. Я тоже. Закрыть выставку каких‑нибудь там ленинградских подпольщиков – диссидентов она могла бы мановением своего толстого мизинчика. Но тут… С другой стороны, она – лицо, ответственное за идеологическую стерильность всего, что происходит в культурной жизни Города Трех Революций, и особенно – Последней. И любое еще более высокое лицо может с нее строго спросить за то, что она допустила. Но просто накричать и приказать убрать эту порнографию тоже рискованно, можно совершить политическую ошибку другого рода. И так далее. И отсюда невозможность ситуации.
Я думаю, что озабоченность и гнев дамы объяснялись не столько преданностью принципам, сколько страхом. Мы часто недооцениваем роль этого аффекта в жизни так называемых властных структур того времени. Я не испытываю ни жалости, ни сочувствия – я пробую нащупать психологические пружины…
Спустя несколько дней я принес сценарий телепередачи о выставке на ленинградское телевидение.
(Конец искусства в Центре Помпиду стал еще ближе.)
Редактор, приятная во всех отношениях женщина, тут же при мне стала его читать и корректировать.
Я не открывал сценарий Лениным и потому не чувствовал себя обязанным. В качестве эмблематической заставки я выбрал картину, экспонированную во второстепенных пространствах отмененного навсегда средокрестия, – «Разговор автопортретов» Юри Аррака: четыре Юри беседовали друг с другом, увлеченно жестикулируя, доказывая, сомневаясь… Описав в нескольких словах парадокс четырех Арраков как прозрачную символизацию диалогической жизни единой личности, я позволил себе нехитрый перенос, написав далее, что именно так, в свободной беседе, в свободном состязании разных позиций и творческих идей живет сейчас искусство Эстонии и таким мы его показываем – ну, и так далее.
Редактор телевидения принялась читать рукопись. Какое слово оказалось первой жертвой ее красного редакторского карандаша?
Да, вы правы, именно это.
– Вам не стыдно? – спросил я. – К тому же текст теряет смысл.
– Его все равно вычеркнут – старший редактор, главный редактор, заведующий редакцией, цензор, – возразила она. – Слово «свободный»не может появиться в ленинградском эфире… Лучше уж я вычеркну его сама [28]28
Позднейшее добавление.Около десятка лет миновало с тех пор, как это было написано, – ив России все вернулось на круги своя, только в «другом формате». Последние два слова я беру в кавычки, т. к. широкое употребление слова форматв современном обиходе хотя и затуманивает смысл, но украшает слог. Новый формат – православный. Это еще раз подтверждает церквеобразный характер советской идеологической системы и советизирующий – Российской Православной Церкви (РПЦ). Вот несколько сообщений – наудачу.
«Опера по мотивам „Сказки о попе и работнике его Балде" А. С. Пушкина не понравилась представителю Сыктывкарской и Воркутинской епархии, и Государственный театр оперы и балета Коми отказался от ее постановки. Об этом сообщает „Интерфакс – Религия“ со ссылкой на петербургскую газету „Невское время"».
«Ярославско – Ростовская епархия РПЦ просит запретить установку памятника Ивану Грозному работы Церетели в городе Любим Ярославской области. По мнению архиепископа Кирилла (Наконечного), этот монумент „приведет к появлению в городе большого количества лиц с нестабильной психикой", цитирует письмо священнослужителя газета „Новые известия"» (РПЦ спасет ярославский город от Грозного Церетели. – Lenta.ru, 01.09.2005).
«Необычайно резкую реакцию Русской православной церкви вызвало шуточное празднование дня рождения Бабы – яги в Ярославской области. Как передает РИА „Новости“, клирики назвали именины сказочного персонажа заигрыванием с нечистью и пообещали несчастья тем, кто в них будет участвовать» (Церковь не оставила Бабе – яге ни малейшего шанса. – Lenta.ru, 05.07.2005).
Партийная дама из Смольного передала дело духовного здоровья нации в верные руки. Впрочем, не исключено, что она еще здесь и прилежно посещает ближайший приход.
[Закрыть].
Выставка современного искусства Эстонии, Латвии и Литвы в Санкт – Петербурге, о которой я узнал из старой газеты и по поводу которой принялся вспоминать, называлась «Персональное время». Обсуждение прошлых времен еще далеко не закончено. Я хотел только напомнить, что кроме персонального времени существовало время «поясное». В астрономическом январе – феврале 1979 года время рефлектирующего парижского художника Э. Фишера мало в чем совпадало со временем Ю. А., а их время, в свою очередь, уже отсчитывалось и текло иначе, чем время ленинградской партийной чиновницы или телевизионной журналистки.
Был ли это скандал с эстонским авангардом? Трудно отвечать на прямо поставленные вопросы. История вообще не раскладывается на черное и белое. К тому же в самой генетической программе режима был заложен ген абсурда.
Вот еще один сюжет.
Это был тот же 1979 год. Впрочем, интрига началась раньше, но главные события относятся, как будет видно, к 79–му, тут сомнений нет.
Началось с того, что главный редактор издательства «Кунст» пригласил меня очень срочно, сегодня, зайти к нему, есть дело.
Знаешь, начал он издалека, я думал, что уйду на пенсию из этого кресла, но, как видно, придется искать работу…
И он дал мне прочесть грозный документ, присланный из Государственного комитета по печати. Из него следовало, что издательство выпустило очередной альбом «Эстонская графика 1976—77» (эти альбомы выходили каждые два года), который пропагандирует худшие проявления антинародного формализма в графике республики, и потому его издание следует прекратить. Без сомнения, документ был сочинен московской дамой, широко известной своей холуйской беспринципностью, наглостью и карьеризмом, а на нашу беду мнившей себя специалисткой по искусству республик Прибалтики. В Госкомитете по печати ее высоко ценили, она помогала клеркам этого заведения различать, опознавать и душить в колыбели идеологические ошибки, просчеты и формалистические диверсии в изданиях по искусству. Ее тайные доносы, анонимные рецензии и проекты приказов было легко атрибутировать – она не владела приемами стилистической маскировки и писала как говорила. Поэтому назвать имя подлинного сочинителя и инициатора не составляло труда.
Это работа Св. Ч., сказал я, дело не так скверно, донос сделан неряшливо, тут много фактических ошибок, можно протестовать.