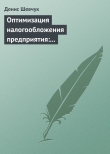Текст книги "Вырождение международного правового порядка? Реабилитация права и политических возможностей"
Автор книги: Билл Боуринг
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Антиномии суверенитета и право
Трансплантация невообразима без существования двух достаточно разделённых и независимых тел. Нельзя приступить ни к какому анализу понятия юридической трансплантации, не разобрав сложности отношений между одним государством и другим.
В первой антиномии мы находим два аспекта суверенитета, которые неразрывно связаны, особенно когда суверенитет оспаривается, или находится под угрозой. Первый это внешнее, что есть не что иное как что бы мы ни определили как самих себя. Суверенитет определён относительно другого, может представляться только в противовес чужому. Большей частью это – царство фантазии, паранойи, воображения того, что неприемлемо само по себе или есть непотребство, коим нельзя сознательно наслаждаться, но всегда конструируется как кража того, что представляет для нас драгоценность. Как выразился Славой Жижек,
«Поздняя Югославия представляет собой пример такого парадокса, в котором мы являемся свидетелями густой сети „декантаций“ и „краж“ удовольствия. Каждая национальность строила свою мифологию, рассказывая, как другие нации лишают её жизненно важного удовольствия, владение которым позволило бы ей жить полноценно»[842]842
Žižek (1993) p. 204.
[Закрыть].
Это означает, в частности, грубые нарушения прав человека, о коих «мы» никогда и не помышляли бы, но кои «они» совершают, или, по меньшей мере, таят желание совершать.
Вторая антиномия является внутренним, органикой, сущностью национальной государственности – столь частая в английской юриспруденции подлинная грядка для развития права, почти примордиальная почва, развивающаяся разрастанием через прецедентное право[843]843
См. Allan (1993) p. 4: «В отсутствие высшего „конституционного права“, провозглашённого в писаной конституции и чтимого как исключительный по авторитетности источник, норма права служит в Британии формой государственного устройства. В этом-то фундаментальном смысле Британия и имеет устройство общего права: идеи и ценности, из которых состоит норма права, отражаются и воплощаются в обычном общем праве…».
[Закрыть]. Вовсе не должно удивлять, что разговоры о «юридической культуре» заразны, и несут в себе всю двусмысленность любого использования того ящика Пандоры, коим является слова «культура». У нас, конечно, есть «культура прав человека», без которой не может быть никаких прав или правовых средств: и юридическая культура Других вообще не является действительно законной, но они могут превзойти нас в искусстве, литературе или музыке.
Эта вторая антиномия суверенитета также связывает внутреннее и внешнее. Для Англии, парламентский суверенитет был оплотом национального характера, для многих левых – гарантией демократического социализма в будущем. Его следовало любой ценой защитить от иностранных новшеств, особенно в форме положительных прав, начиная с 1789 г. В то же время, он всегда означал господство, особенно превосходство Уэстминстера над Эдинбургом и Кардиффом – для А. В. Дайси, непримиримого противника гомруля и защитника унии между Британией и Ирландией, над Дублином[844]844
Dicey (1973); Dicey (1914).
[Закрыть].
Действительно, язык суверенитета активно использует антропоморфические, часто биологические, метафоры. Мы говорим о «государственном организме» (body politic), о корпусе права (body of law). Именно поэтому понятие «юридической трансплантации» произвело такой резонанс, даже если другие термины вроде «транспозиции» или «ирритации» могут быть более точны в конкретных контекстах[845]845
Профессор Эсин Орюджю предпочитает язык «переноса, настройки и подгонки». См.: Örücü (2002) p. 205.
[Закрыть].
Именно в этом моменте само право неоднозначно. Это то, что формирует нас, как англичан или американцев; это – то, что, если не примордиально, уже присутствует. Присущий ему консерватизм усилен практикой судей и адвокатов. В то же время, оно непрерывно преобразовывается через практику, не в последнюю очередь, потому что наше право – не единственное. Другие также имеют право как историю и как практику, и никогда в зафиксированной истории невозможно было избежать смешения.
Антиномия «трансплантации»
Я хотел бы различить два смысла трансплантации. Первый – добровольное принятие в «наше» право, часто почти неощутимое, возможно пассивное, или даже, в некоторых случаях, являющееся фактором сопротивления некой большей иностранной угрозе суверенитету. Первое представлено постепенным, почти вынужденным, принятием в английское право понятия соразмерности из немецкого административного права, или, более болезненно, принципов и стандартов интерпретации Европейской конвенции о защите прав человека, а последнее, сопротивление,– ролью римского права в Шотландии как защиты от вторжений английского общего права.
Второй более травматичен, более угрожающ. Очевидный пример – это принятие в право Великобритании Европейской конвенции о защите прав человека, мучительные дебаты внутри правительства о котором ныне хорошо документированы. Лорд-канцлер Джауэтт и прочие были весьма ясны в том, что под угрозой оказался цельный и органический образ развития общего права. Ирония судьбы, что самую сильную оппозицию представили как идеологи специфично английской юридической культуры, так и защитники демократического социализма вроде Кита Юинга. Отсюда его ограниченная поддержка Акта прав человека[846]846
Ewing (1999).
[Закрыть].
Этот второй смысл трансплантации ещё более ясно иллюстрируется Россией, где внедрение принципов Совета Европы и подчинение дисциплине Страсбурга и прочим механизмам встретили государственническим и националистическим дискурсом присвоения. Как ни странно, вступление России в Совет Европы и ратификация Европейской конвенции о защите прав человека были поддержаны большинством националистов и коммунистов, из соображения голого национального интереса[847]847
Bowring (1997).
[Закрыть].
Проблемы юридического сравнения
В своём глубоком и чутком исследовании[848]848
Puchalska-Tych & Salter (1996).
[Закрыть] проблем господствующего сравнительного правоведения, Богумила Пухальская-Тих и Майкл Солтер замечают, что «…только поняв „социалистическое“ прошлое современных восточно-европейских обществ можно должным образом ухватить текущие процессы системного преобразования, которое ныне проходят эти общества…»[849]849
Puchalska-Tych & Salter (1996) p. 163.
[Закрыть]. Что ещё важнее в разрезе этой главы, они утверждают, что:
«…Ни социалистическая доктрина, ни служащий ей системный аппарат, не преобразовали восточно-европейские общества в гомогенные, социалистические. Пожалуй, наследие различительных культурных традиций непрерывно взаимодействовало с порядком этих обществ намного более сложным образом, чем могут когда-либо надеяться отразить грубые и недифференцированные термины „социалистический“ или „тоталитарный“»[850]850
Puchalska-Tych & Salter (1996) pp. 166–167.
[Закрыть].
Диалектический анализ, к которому они призывают, был бы «…процессом рефлексивного и чуткого построения „другой культуры“ в её конкретном контексте через собственные культурные и когнитивные структуры, и соотнесения её с теоретической структурой исследований по сравнительной юриспруденции»[851]851
Puchalska-Tych & Salter (1996) p. 180.
[Закрыть]. Так, они одобряют повторный призыв Джона Белла к взаимному опосредованию и контекстуализации[852]852
Bell (1994).
[Закрыть], и предполагают, что «программа опосредования обещает ценное прозрение в отношении смысла, действия и места права в рамках различных социальных, политических и культурных контекстов»[853]853
Puchalska-Tych & Salter (1996) p. 181.
[Закрыть]. Они решительно критикуют «…статическое и абстрактное, т. е. деконтекстуализованное, описание [которое] может лишь оказаться не в состоянии ухватить,– не говоря уже о том, чтобы учесть,– социально-политический и юридический динамизм различных политических и социальных переворотов в процессе системного преобразования, всё ещё происходящего в Восточной Европе»[854]854
Puchalska-Tych & Salter (1996) p. 183.
[Закрыть].
Часть аргументации этой главы состоит в утверждении, что сложные отношения между Россией и международными стандартами и механизмами прав человека можно понять только через оценку истории – диалектики,– интеллектуальной истории России, всегда неотделимо связанной с Западной Европой, на протяжении более двух столетий.
Пробелы в теории трансплантации
Теория юридической трансплантации – это область решающей важности в рамках юридического компаративизма. Дебаты относительно «юридических трансплантаций», можно сказать, начались всерьёз в 1970-х между Эланом Уотсоном и Отто Кан-Фройндом[855]855
Watson (1993); Kahn-Freund (1974); см. ответ: Watson (1976).
[Закрыть], к которым я ещё вернусь. Теперь есть обширная и всё растущая академическая литература по юридическим трансплантациям, особенно в отношении бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Большинство её – за немногими исключениями – касается коммерческого права. Так, Фредерик Дахан пишет:
«Что бесспорно – это то, что для юридических систем Центральной и Восточной Европы трансплантация есть реальность. Поскольку переходные экономики не могут позволить себе и не желают пройти тот же процесс медленного и осторожного развития, который развитые экономики прошли в прошлом, чтобы достичь своих современных правовых и регуляторных структур, они в большой степени должны импортировать их»[856]856
Dahan (2000) p. 372.
[Закрыть].
Но импортировать правовую доктрину, механизм или даже один закон – не то же, что импортировать автомобиль; а даже автомобиль, возможно, потребуется приспособить к левостороннему движению. Скотт Ньютон, комментируя замечание Дахан, указывает, что:
«…Сам термин „трансплантация“, склоняющийся в техническую область, маскирует политические факты, ибо „юридическая трансплантация“ всегда с неизбежностью есть вид рода законодательства. То есть, даже предполагая, что власть решает импортировать иностранное право от вершков до корешков, она всё же должна предписать его, со всеми суверенными политическими последствиями, кои вызывает всякое предписание. …В трансплантации как в переходном процессе предпочтение конечной цели движению способствует привилегии легальности над легитимностью»[857]857
Newton (2001) p. 3, 7.
[Закрыть].
Именно поэтому антиномии суверенитета жизненно важны для всякого рассмотрения трансплантации. И имеется сильное подозрение, что нелегитимная легальность должна быть противоречием в определении[858]858
См.: Habermas (1997).
[Закрыть]. Собственная работа Ньютона – глубокое размышление о двух существенных пунктах коммерческого законодательства, правовом регулировании несостоятельности и пенсионном законодательстве, над которым он работал от имени американского агентства помощи в Казахстане.
Большинство пишущих о трансплантации, большей частью трансплантации на коммерческой арене, не разделяют чувствительность Ньютона к этим вопросам. Некоторые позволяют себе увлечься очевидной физичностью метафоры, помимо того, что упускают из виду действительные основные вопросы. Примером является – информативная на уровне описания – работа Кристофера Осакве, который выполнил «биопсию» Гражданских кодексов России и Казахстана от 1994 г.[859]859
Osakwa (1998).
[Закрыть], и использовал красочную биологическую метафору:
«…Эти два постсоветских гражданских кодекса – идеологические близнецы-братья – у них общая генеалогия, одни генетические черты,… они страдают от одной генетической болезни,… оба они – дети „из пробирки“, зачатые оплодотворением „ин витро“ в хрестоматийном свершении генной инженерии, оба функционируют в своих обществах как цветы в горшках…»[860]860
Osakwa (1998) p. 1413.
[Закрыть].
Читатель должен сделать паузу, чтобы оправиться от шока после этого сравнения с детьми «из пробирки» и цветами в горшках.
Однако Осакве признаёт, что «истинными героями» кодекса были российские «цивилисты», которые «при доброжелательной помощи своих голландских гуру и американских консультантов» разработали кодекс, который, как он убеждён, останется в истории как один из великих кодексов XX века. Он, однако, неспособен распознать, что было более чем небольшое напряжение между этими сторонами: голландскими юристами из Лейдена, которые с самого начала хотели работать с признанными российскими экспертами в духе поддержки и уважения, хоть те и были из старшего поколения, сложившегося в Советском Союзе, и американцами, которые хотели навязать англо-саксонский импорт. Он отмечает, что «с самого начала… российские разработчики подпали под очарование голландских консультантов…»[861]861
Osakwa (1998) p. 1417.
[Закрыть], но на самом деле всё было не так. Эта ошибка происходит из его представления, что советские Гражданские кодексы 1922 г. и 1964 г. основывались на марксистско-ленинской философии. Далеко не так; эти кодексы, будучи скорее продуктом новой экономической политики, твёрдо базировались на швейцарской и немецкой моделях, и отражают ориентацию России на «континентальную традицию гражданского права», которая не есть, как он считает, новшество периода после 1991 г. Возможно, это столь же ложно, как и его представление, что «цель финансирования со стороны АМР США была полностью альтруистична»[862]862
Osakwa (1998) p. 1440.
[Закрыть]!
Осакве представил не единственную методологию. Статья[863]863
Hein (1996).
[Закрыть] Стивена Хайна с его идеей принятия Россией совершенно нового (для неё) законодательства в отношении сервитутов, более вдумчива. Его подход, однако, необычен в том, что, однако же, не предлагает никакого такого закона. Его метод состоит в сравнении и противопоставлении эффективности для такой трансплантации конкурирующих теорий Элана Уотсона[864]864
Watson (1993); Watson (2001); Watson (1966); Watson (1981).
[Закрыть] и Отто Кан-Фройнда[865]865
Kahn-Freund (1974).
[Закрыть]. Их различия представлены Хайном как начинающиеся с уотсоновского «суждения, что нет никаких присущих отношений между законами государства и его обществом», тогда как Кан-Фройнд стоит на точке зрения Монтескьё в том отношении, которое Эвальд[866]866
Ewald (1995).
[Закрыть] описал как «теорию зеркала»,– требование Монтескьё:
Таким образом, Кан-Фройнд утверждал, что «мы не можем считать само собой разумеющимся, что нормы или институты можно трансплантировать»[868]868
Kahn-Freund (1974) p. 27.
[Закрыть]. Он предложил процесс из двух стадий. Сначала определяется отношение между трансплантируемой правовой нормой и социально-политической структурой государства, из которого она взята,– его макрополитической структурой (демократия или диктатура), распределением власти и ролью организованных интересов. Затем сравниваются социально-политические окружения. Чем ближе первое отношение, тем более подобны должны быть окружения для успеха трансплантации.
Уотсон, также, можно сказать, рекомендует два шага. Сначала следует проанализировать логику иностранной нормы. Если эта норма не враждебна политическим, социальным и экономическим обстоятельствам государства-получателя, её можно успешно трансплантировать. Затем следует изучить социально-политическое окружение государства-получателя, чтобы увидеть, созрели ли условия для изменения права трансплантацией[869]869
Hein (1996) p. 195.
[Закрыть]. Он идентифицировал девять факторов, определяющих успех трансплантации[870]870
Watson (1993) p. 322.
[Закрыть]. Сила давления (1) – люди или группы, которые полагают, что изменение принесёт выгоду. Сила противодействия (2) – наоборот, те, кто полагает, что изменение повредит им. Склонность государства к трансплантации (3) – его способность принять конкретную иностранную норму и общее отношение к юридическому заимствованию. Фактор дискреции (4) – можно ли свободно уклониться от трансплантированной нормы или её применение неизбежно. Чем больше возможностей у индивида избежать нежелательных аспектов нормы, тем более вероятно, что она будет принята. Фактор общности (5) – масштаб правовой нормы или её эффектов. Чем он больше, тем больше, вероятно, должна быть Сила противодействия. Общественная инерция (6) – стремление к стабильности, ибо элиты в особенности не склонны к переменам. Чувство потребности общества (7) указывает, чувствует ли общество потребность в конкретном изменении. Источник права (8) указывает, будет ли введена новая норма как статут, прецедент, традиция или через академические тексты. Юристы-разработчики (9) – главные акторы в проведении изменения.
В предложенном Хайном соревновании, где критерий суждения – адекватность относительно (воображаемой) предлагаемой трансплантации, Уотсон побеждает по очкам. Но, как предполагается, этот довод бесплоден. Предполагается, кажется, что новый закон по сервитутам поступит из США. Но Хайн нигде не указывает, почему Россия не может разработать собственный закон, если он столь желанен, используя, как это часто бывало, множество иностранных ресурсов. И, в отличие от Олфорда (а перед тем Трубека), тут нет никакого ощущения, что может быть динамический встречный эффект. Наиболее удивительно, что совершенно отсутствует исторический контекст развития. Это отражает одностороннее присвоение Уотсона, большинство работ которого базируется на богатом историко-эмпирическом исследовании.
Почти та же территория исследуется в восхитительной статье[871]871
Teubner (1998) p. 17.
[Закрыть] Гунтера Тойбнера, уполномоченного представителя «теории автопойесиса» Никласа Лумана в английском правоведении[872]872
См. Teubner (1993).
[Закрыть]. Его отправная точка – не гипотетическая норма права, а реальное наложение на английское права континентального европейского принципа bona fides через механизм директивы ЕС. Он также сравнивает Уотсона и Кан-Фройнда. Уотсону он приписывает три основных довода. Во-первых, сравнительное правоведение должно уже изучать не просто иностранное право, а взаимосвязи между различными правовыми системами. Во-вторых, трансплантации – главный источник юридического изменения. В-третьих, юридическая эволюция происходит скорее изолированно от общественных перемен, имея тенденцию использовать технику «юридического заимствования», и может объясняться независимо от социальных, политических и экономических факторов. Эти доводы критикуются за неполноту и сравниваются с двумя наборами ключевых различий, введёнными Кан-Фройндом. Во-первых, это «механическое» (относительно лёгкий перенос) против «органического» (перенос, зависящий от сцепления с конкретной структурой власти соответствующего общества). Во-вторых, «всестороннее» (социальная интегрированность нормы права) против «выборочного» (где первичная взаимозависимость сосредоточена в политике). На этом основании Тойбнер предлагает четыре тезиса[873]873
Teubner (1998) p. 18.
[Закрыть]:
1 Современные связи права с обществом больше не всесторонние, но весьма выборочны и варьируются от свободного сцепления до тугого взаимопереплетения;
2 Они тянутся теперь не к целостности социального, но к разнообразным фрагментам общества;
3 Где прежде право было привязано к обществу своей идентичностью с ним, связи теперь установлены через различие;
4 Они разворачиваются теперь не в едином историческом развитии, а в конфликтном взаимоотношении двух или более независимых эволюционных траекторий.
Неотразимое изучение совершенно различных немецкого и английского образов правового мышления – первое в высокой степени основано на концептуальной систематизации и абстрактной догматизации, второе на различении и разработке различных фактических ситуаций,– а также противопоставление «режимов производства» этих двух стран, ведёт Тойбнера к его заключению:
«Это показывает, насколько невероятно, что норма права будет успешно трансплантирована в обязывающее соглашение отличного юридического контекста. Если она не будет отвергнута прямо, или она уничтожит обязывающее соглашение, или это кончится динамикой взаимных ирритаций, которые фундаментально изменят её идентичность»[874]874
Teubner (1998) p. 28.
[Закрыть].
Но поскольку для Тойбнера юридические системы лишь «операционно закрытые социальные дискурсы», исторический фактор, столь важный для России, не может сыграть свою исключительно важную посредническую роль. И Тойбнер не может учесть диалектическую рефлексивность юридического компаративизма в теории и на практике.
Джонатан Винер, писавший в контексте экологического права[875]875
Wiener (2001).
[Закрыть], возможно, ближе подошёл к историфицированному взгляду на юридические трансплантации. Он справедливо указывает, что нации часто заимствуют доктрины друг у друга, часто через огромные расстояния и продолжительные периоды, и изрядная часть американского права была получена из Англии, Франции и Испании. Так, притом, что есть много литературы по вопросу о заимствовании одной страны из другой, ничего не было по трансплантациям в международном договорном праве. Он одобряет[876]876
Wiener (2001) p. 1369.
[Закрыть] замечание Уотсона, что:
Он заключает, что:
В этом обзоре примечательно, что ни один из процитированных специалистов не исследовал понятие юридических трансплантаций в контексте прав человека, хотя геномная метафора Винера подходит ближе к тому, что необходимо для рассмотрения этого явления.
Трансплантации и права человека
Насколько мне известно, только Джули Мертус, известная своими сочинениями по женским правам и по международным вмешательствам в Косо́ве, пока увязала эти понятия[879]879
Mertus (1999).
[Закрыть]. Её отправная точка – исследование значения глобализации для идей демократии и благого управления и проблемы с «международным гражданским обществом». Это приводит её к рассмотрению роли неправительственных организаций в работе над проектами «юридической трансплантации» – проектами, главным образом группирующимися под рубрикой «верховенство права» – область, в которой она имеет значительный опыт. Она описывает их как попытки «трансплантировать правовые нормы и, в некоторых случаях, целые юридические системы из одного места в другое, обычно из страны, воспринимаемой как „работающая должным образом“ в другую, полагаемую в великой нужде»[880]880
Mertus (1999) p. 1378.
[Закрыть]. Она видит две волны. Первая была после Второй мировой войны, когда победители переписали конституции побеждённых, приспосабливая их к собственной идеологии. Вторая поднялась в 1960-е, «Десятилетие развития» ООН, когда «…выходящие колониальные державы спешно навязывают снятые под копирку свои документы и законы, развившиеся в различных культурных и исторических условиях»[881]881
См.: Lis Wiehl “Constitution, Anyone? A New Cottage Industry” New York Times, Feb 2, 1990.
[Закрыть]. Это совпало с движением «закон и развитие», отправившим столь много юристов из США в Латинскую Америку и Африку для обучения решающих проблемы инженеров-юристов и «продвижения современного видения права как инструмента политики развития по линиям капитализма и демократии»[882]882
См.: Gardner (1980).
[Закрыть]. Мертус цитирует Гарднера, говорящего, что «история движения „закон и развитие“ довольно грустна»[883]883
Gardner (1980) p. 22.
[Закрыть], «Это – история попытки перенести американские юридические модели, которые сами опорочились»[884]884
Mertus (1999) p. 1380.
[Закрыть]. Как замечает Мертус, одним из недостатков движения была его неспособность понять, что местные жители – акторы, а не простые предметы, и вообще обращаются к американской юридической помощи в своих собственных целях[885]885
Дальнейшую критику см.: Faundez (1997).
[Закрыть].
Эти уроки не были учтены, когда крах СССР и конец «коммунизма» возвестили «новую волну юридических трансплантаций, полностью дублирующую прежние методы: засылка американских юристов в попытке перестроить местную юридическую систему более совместимым с интересами Соединённых Штатов образом»[886]886
Ajani (1995); Mertus (1999) p. 1380.
[Закрыть]. Восточно-европейская и евразийская правовая инициатива Ассоциации американских юристов, финансируемая АМР США, часто стремилась не только трансплантировать американские методы юридического образования (сократический метод), но и поощрить полную замену или переписывание местного права[887]887
Следует заметить, что текущие программы ААЮ/ВЕЕПИ, особенно в России, в первую очередь сосредоточены на таких вопросах как насилие против женщин и ювенильная юстиция.
[Закрыть].
К сожалению, несмотря на резкость своей критики политики США, Мертус, не колеблясь, принимает проект «трансформирующих демократических целей», а именно «права на демократическое управление», которое столь убедительно отстаивал Томас Франк[888]888
Franck (1992); Franck (1990); Franck (1995).
[Закрыть]. Трудно избежать заключения, что такой проект является непроблематизированным и нерефлексивным продуктом особенной, американской, формы политического либерализма. Это имеет два последствия. С одной стороны, Мертус справедливо идентифицирует потребность сделать транснациональное гражданское общество демократическим[889]889
Mertus (1999) p. 1384. См. также: An-Na'im (1994) p. 122; Otto (1997) p. 3.
[Закрыть] – оно не живёт согласно собственным идеалам. Она указывает, что многие неправительственные организации, особенно с наибольшим влиянием в сообществе дискурса прав человека, не демократичны вообще – «Международная амнистия», «Хьюман райтс уотч», Комитет юристов за права человека. Кроме того, они намного мощнее, чем НПО вне США и Западной Европы. Как выразилась Мертус:
«Всё очень просто, хорошо финансируемые западные НПО, вероятно, будут сильнее, нежели их более бедные и не западные аналоги, и недостаток прозрачности и ответственности в транснациональном гражданском обществе, вероятно, позволит беспрепятственно сохранить этот перевес»[890]890
Mertus (1999) p. 1385.
[Закрыть].
С другой стороны, она допускает фундаментальную ошибку – с точки зрения этой главы – насчёт причин того, что «многие юридические трансплантации не укореняются в Восточной Европе». Она списывает это на низкие зарплаты судей, неадекватные аудитории, залы суда и регистрацию, «сухостой» – судебных служащих, которые просто отказываются меняться, и так далее.
Предлагаемый мной ответ лежит в иной области. Рассказывая об опыте США в разное время на другом краю света – трансплантации антимонополистического законодательства в Японию в 1947 г. и его отвержении местной юридической системой,– Роберт Стэк подбирается к корням проблемы гораздо ближе[891]891
Stack (2000).
[Закрыть]. Мало того, что американцы дали Японии законодательство, не объясняя причин[892]892
Stack (2000) p. 408.
[Закрыть], они никогда не понимали, что в эру Мэйдзи, 1868—1912 гг. (также период российских реформ), японские правительства тщательно, всесторонне и с великой изощрённостью, провели реформы, черпающие прежде всего из европейских моделей гражданского права. Принятие стандартов прав человека в японском праве, как и в России, было поэтому, весьма отлично, несмотря на «нежелание Японии участвовать в дискурсе прав человека вообще»[893]893
Alston (1999) p. 627, и см.: Iwasawa (1998).
[Закрыть]. Тут, возможно, имеется парадокс, ибо, как отмечает Олстон, японская конституция 1946 г., хотя и являясь «классическим случаем иностранной трансплантации»[894]894
Олстон замечает, что «народный суверенитет утверждён, равноправие женщин признано, отделение церкви от государства в духе США проведено, уважение всего набора индивидуальных гражданских и политических прав предписано, и вся американская система судебного надзора установлена» (Alston (1999) p. 629).
[Закрыть], оказалась успешной и никогда не исправлялась. Но, как указывает Олстон, следуя Иноуэ[895]895
Inoue (1991).
[Закрыть], равенство полов и личное достоинство были включены в рамках традиционного японского понимания аристократической чести, в рамках иерархического порядка общественных отношений, в то время как религиозная свобода и разделение церкви и государства были совместимы со специфическим характером синтоизма[896]896
Alston (1999) p. 630.
[Закрыть].
Так, нельзя усомниться в трансформации российской юридической системы с середины 1980-х – и особенно с 1991 г., со вступлением в Совет Европы в 1996 г. и ратификацией Европейской конвенции о защите прав человека в 1998 г. Но должно быть очевидно, что, особенно в сфере конституционных прав и правах человека, Россия не импортировала модели США. Вместо этого, она, по собственному выбору, вновь почерпнула у западноевропейской основной тенденции. Такой процесс не уникален и не ограничивается Россией. Как указал Дейвид Фельдман в связи с медленным, неохотным и частичным включением подзадержавшейся Великобританией европейских принципов прав человека[897]897
См.: Lester (1984) p. 46; Marston (1993); Lester (1998).
[Закрыть], «…подход Конвенции намного больше гармонирует с чрезвычайно коллективистским культурным наследием, формирующим часть фундамента, на котором развилось и должно возводиться государственное устройство Великобритании»[898]898
Feldman (1999) p. 178.
[Закрыть]. Эта коллективистская традиция поразительно контрастирует с американским «фундаменталистским» либерализмом, и должна внести вклад в убеждение скептически настроенных россиян.
Вопрос: что там было прежде? Была ли «юридическая культура» просто проклятием для прав человека, как предполагает Осакве? Была ли Россия просто оплотом отсталости и деспотизма? Действительно ли россияне обречены догонять просвещённый Запад из состояния юридического варварства? Для ответа на эти вопросы существенное значение имеет историческая перспектива.
Я предлагаю только два исторических примера. Крепостное право в России было отменено в 1861 г. Рабство в США было окончательно отменено в США в 1866 г.– Американское антирабовладельческое общество было основано в 1833 г.[899]899
См. «Афро-американскую мозаику» (The African American Mosaic) по борьбе за отмену рабства – http://lcweb.loc.gov/exhibits/african/afam007.html.
[Закрыть] Суд присяжных уже несколько лет доступен в 9-ти из 89-ти регионов России, и его действие планируется распространить на остальные. Это – не новшество, навязанное России после поражения в «Холодной войне». Это – реставрация эффективной системы суда присяжных для всех серьёзных уголовных дел, возглавлявшегося независимыми судьями, которая существовала в России с 1864-го до 1917 г. Суд присяжных был введён во множестве западноевропейских стран примерно в то же время, что и в России, хотя он энергично отстаивался ведущими реформаторами права с конца XVIII века.