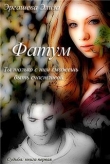Текст книги "Акапулько"
Автор книги: Берт Хэршфельд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
– Я не могу дать определение порнографии, – ответил ему Чарльз, – но всегда узнаю ее, когда вижу. – И тут же подумал, что его хитроумная шутка обернется против него. Он не ошибся.
– Показывай, что в мешке, – приказало Пузо.
Чарльз опустил рюкзак на землю. Второй полицейский – Доходяга, быстро просмотрев его содержимое, выпрямился.
– Смотри, что я нашел, – сказал он без всякого удивления ни на лице, ни в голосе. В руке он держал небольшой пергаминовый конверт, содержащий некое коричневое крошево, сдобренное зелеными семенами.
– Вы мне не поверите, – приветливо воскликнул Чарльз, – но я никогда раньше этого не видел!
– Это было в твоем мешке, – сказало Пузо.
– Это было в твоем мешке, – повторил Доходяга.
Чарльз задумчиво кивнул.
– Это забавно. Когда я уходил с площади, в моем рюкзаке этого не было.
Пузо обратилось к своему напарнику.
– Мне кажется, он назвал тебя лгуном.
– Ты назвал меня лгуном?
Чарльз сделал шаг назад. Доходяга положил руку на рукоять своего револьвера. Чарльз замер на месте.
– Я не говорил, что вы лжец, – сказал он. – Совсем наоборот. И, пожалуйста, поймите, я никогда не стал бы использовать то, что в конверте, на проезжей дороге.
– Так ты признаешься?
– Я отрицаю.
– Это марихуана, которую ты транспортировал с незаконными целями.
Чарльз продолжал улыбаться.
– Почему у меня такое впечатление, что меня снимают в кино?
– Мы знаем, как здесь обращаться с торговцами наркотиков…
– Торговец наркотиками!
Доходяга закинул рюкзак Чарльза в патрульную машину полицейских. Пузо отправило Чарльза вслед за его рюкзаком. Секунду спустя завыла сирена, и они помчались обратно в Оахаку.
Чарльз выпрямился на сиденье и наклонился вперед.
– Вы знаете, американскому послу это может не понравиться…
– Не отвлекай водителя, гринго, – проворчало Пузо, своей огромной ручищей вжимая Чарльза обратно в сиденье.
– Эта сраная Мексика, – сказал Чарльз. – Она почти как настоящая жизнь…
Моторная лодка наискось разрезала кильватерный след большой яхты, направляющейся в гавань; Агустин управлялся со своим суденышком с умением и легкостью, достойными его долгой практики. Хулио, сидевший рядом, не отрываясь смотрел на рыжеволосую лыжницу, уверенно мчащуюся по волнам за их лодкой. На Хулио всегда производило большое впечатление спортивное сложение, которым обладали американские женщины. Большинство из них были высокими, гибкими, и, – как та, что неслась сейчас на водных лыжах за ними, – по-видимому, никогда не знавшими усталости. Хулио высоко ценил американских женщин в постели, где, как и в спорте, они оказывались активными и умелыми. Но у молодых американок никогда нет денег, а деньги – это то, о чем Хулио думал не переставая. Деньги заставили его снова вспомнить Саманту Мур.
– Она тоже кинозвезда, – прокричал он Агустину, стараясь перекрыть грохот подвесного мотора.
– Sí. Она сейчас здесь снимается в фильме вместе с американской труппой. Сеньорита Марселла мне все уши прожужжала про их кино.
– Ага! Интересно, каково быть кинозвездой? Наверное, здорово, нет?
– Идиот! Ты же Уачукан, а где, скажи-ка мне на милость, ты видел кинозвезду из племени Уачукан?
– Гм, – ответил на это Хулио. – Но разве я также не мексиканец? Педро Армендарис, Агуилар, Кантифлас – все они кинозвезды и все они мексиканцы. Ну и жизнь у них! Денег куры не клюют и спишь только с женами других кинозвезд.
– Идиот. Будь доволен, что у тебя есть богатая gringa-покровительница[138]138
Gringa – американка.
[Закрыть]. Будь чистым и сильным, и она еще много раз пригласит тебя в свою постель, а ты получишь много денег за то, чем все равно стал заниматься бесплатно.
– Ага! Я бы с удовольствием угостился кое-какими ее деньгами.
– Эти гринго, они обычно не хранят свои деньги дома. Они имеют дело с банками и другими местами в своей Америке. Сеньорита Марселла мне рассказывала.
– Те, кто делает кино, – у них полно денег, нет?
– Да.
– Почему бы нам не раздобыть у них деньжат?
– А как мы можем это сделать? Пожалуйста, сеньор Американская Кинокомпания, Хулио и Агустин, два бедных Уачукана, хотели бы получить немного вашего золота. Дайте нам совсем немножко, так, милостыню… Нет, Хулио, ты просто идиот!
Моторная лодка описала большой вираж, и Агустин направил ее к берегу, к Клубу водных лыжников и аквалангистов.
– Я хочу пить, – пожаловался он. – Почему ты никогда не берешь с собой прохладительное?
– Расскажи мне еще раз, Агустин, что сеньорита Марселла сказала тебе.
– Только что завтра сеньорита Саманта поедет в горы, для того чтобы снимать там кино. Они уезжают утром, чтобы успеть сделать все, что должны сделать. Больше ничего.
– Я все раздумываю над этим, Агустин… У меня намечается кое-какой план.
– У тебя вечно намечается какой-то план.
– Но ни один из них не был похож на этот.
– И ни один из них не сработал.
Хулио снова посмотрел на рыжеволосую американку. Ее длинные ноги разъехались, и она упала в воду; водные лыжи соскочили.
– Этот план сработает, – сказал он.
Агустин не ответил, но внутри все же затаил слабую надежду: а вдруг состряпанный его братом замысел, каков бы он ни был, все же окажется стоящим?
Хулио похлопал его по плечу.
– Gringa упала в воду. Поворачивай…
Грейс лежала в темноте, в комнате Формана. Свет, проникающий сквозь жалюзи, нарисовал на потолке желтую лестницу. На улице промчался мотоцикл, раздался взрыв девичьего смеха, возбужденно переговаривающиеся счастливые голоса.
Рядом с ней глубоко дышал Форман. Однако Грейс знала, что он не спит. Она хотела заговорить с ним, но боялась вызвать в нем враждебное противодействие. В нем чувствовалось какое-то отстраненное сопротивление, и, хотя он всего несколько минут назад был в ней, они по-прежнему оставались чужими друг другу.
Вслед за их последней встречей Грейс не оставляло чувство, что к ней в душу, чуть ли не под самую кожу, забрался какой-то посторонний элемент, постоянно раздражающий ее. «Что привлекло его ко мне, – недоумевала она, – и чего он хочет? А то, что буквально каждое слово Формана, как мне кажется, имеет какое-то второе значение.» Это еще больше запутывало Грейс: «Всегда этот горький подтекст, о чем бы Форман ни говорил, как ни старался он казаться веселым.»
И все же Грейс хотела продолжать встречаться с ним. В тот их последний день в горах, как же она хотела любить его, открыть себя ему, стать частью его! Но потом она почувствовала, что у нее ничего не получилось, – тревога, нервозность в нем остались.
Несомненно, он был мужчиной, который нравится женщинам; именно таким мужчинам они отдают себя. Почему же он должен считать ее какой-то другой? Разве не пришла она к Форману в этот раз, практически умоляя его о ласке и внимании?
Всю дорогу, пока Грейс ехала из деревни Чинчауа, она предупреждала себя, уговаривала вернуться обратно. Но он слишком сильно был нужен ей. И предлагая себя Форману, Грейс страшно боялась, что он не захочет ее.
И даже сейчас, после их близости, Грейс не была уверена, что Форман был рад видеть ее. О, он достаточно быстро принял ее в свою постель, он любил ее со страстной, почти неистовой энергией, которая поначалу даже казалась пугающей. Но все это происходило главным образом на телесном уровне, как будто бы Форман страшился обнаружить в себе, приоткрыть ей другую сторону своей натуры.
Не то чтобы она раньше так уж сильно отличалась от него. Но это было раньше. До недавнего времени Грейс уверенно причисляла себя к разряду достаточно хорошо уравновешенных женщин – женщин, которые могут контролировать свои эмоции и не подвержены капризам настроения или случайным потребностям женской плоти. Теперь уже нет. Форман вызвал к жизни такие желания и реакции, о существовании которых в себе она и не подозревала, и это смущало и запугивало Грейс, превращало ее в незнакомое, чужое и чуждое самой себе существо. Она чувствовала себя ущербной и обнаженной, как будто что-то в ней было неправильным, как будто чего-то не хватало в ней, – и она не знала, что с этим делать.
– Я должна идти, – сказала она.
– Уже поздно. Народ Чинчауа будет шокирован, увидев тебя пробирающейся к ним в деревню в такой час.
Она хотела рассердиться на него и не смогла. «Интересно, разочаровала ли я его», – подумала Грейс.
– Один ты будешь чувствовать себя удобнее, лучше выспишься. – Ее собственная фальшь резала ей слух; на самом деле – и Грейс это знала – она надеялась услышать от Формана, что она доставила ему удовольствие, и его просьбу, чтобы она осталась.
– Ты забавная. – Это было все, что он сказал.
– Рада, что развлекаю тебя.
Он зажег сигарету; при свете спички его лицо было похоже на бледную скалу, изрезанную морщинами. Холод пробежал по ее спине.
Форман сказал:
– Ты путешествуешь одна, самостоятельно и независимо. Ты производишь впечатление некоего свободного духа. Это неправда.
– Я смотрю, ты многое обо мне знаешь.
– Я начинаю узнавать. Какой он был из себя?
– Кто?
– Твой искуситель.
Ей пришлось подавить в себе готовый вырваться наружу смешок.
– Это звучит странно, какое-то старомодное слово.
– Просто я старомодный мальчуган. Как бы то ни было, что заставило тебя лечь с ним в постель?
Она колебалась. Форман задал ей этот вопрос так, как будто имел неотъемлемое право получить на него ответ. Неправда! Артур был частью ее личного существования, и то, что случилось между ними, принадлежало ей одной. Форман не имел к этому ни малейшего отношения. Но все-таки она почему-то хотела рассказать ему об Артуре…
– Зачем ты хочешь об этом знать? – спросила она, сознавая, что сейчас она вовсе не та Грейс Бионди, которой хотела бы быть.
Он затянулся сигаретой; мимолетный отблеск осветил его лицо – оно было бесстрастным.
– Тебе не обязательно рассказывать.
– Наверное, просто пришло время, – быстро сказала Грейс. – Помимо всего прочего, природа не терпит пустоты.
– Не надо казаться наглой. Это не твой стиль.
Она действительно вела себя нагло, играла чужую роль. Ей всегда не нравилось, когда Форман пытался ускользнуть от прямого ответа с помощью своего незамысловатого юмора. А теперь они словно поменялись ролями и так делает она сама. И это оказалось намного более привлекательным. Спустя какое-то мгновение Грейс тихо ответила ему:
– Долгое время я считала, что сохранить девственность очень важно, нечто вроде знака чести. Я даже думаю, это было заметно во мне, да, наверное, так и было. Со временем я начала лучше понимать, что такое честь. Я решила перестать быть девственницей. А это такая вещь, сделать которую одной не удается.
Он рассмеялся.
– Но почему именно Артур?
– Артур был привлекательным мужчиной, и, наверное, мы думали с ним одинаково, хотели одного и того же. Или, по крайней мере, мне так казалось сначала.
– А потом?
– Потом я уже ни в чем не была уверена.
– Тебе было жаль?
– Потерять девственность? О, нет. Кроме того, в каком-то смысле, этого как бы никогда и не происходило. Шрамов не видно.
– Никаких шрамов никогда не видно… А что я? Почему именно я?
– Я не знаю, – быстро ответила она.
– Прости. Мне, наверное, не нужно было это говорить.
Грейс приподнялась на локте.
– Это что, нехорошо – не знать?.. Я не знаю, почему ты, именно ты. – Она остановилась, потом продолжила: – В тебе есть такие вещи, которые мне не нравятся. Ты запутываешь меня.
– Мы живем в запутанное время.
– А ты действительно такой циник, каким хочешь показаться?
– Расскажи мне еще о себе и Артуре, почему вы расстались? – попросил Форман, игнорируя вопрос.
Грейс быстро заговорила, как будто радуясь возможности рассказать ему все:
– Мы были слишком заняты, его работа и моя. Нам не удавалось встречаться так часто, как мы бы этого хотели. А когда были вместе, не особо разговаривали друг с другом. Мы в основном занимались любовью.
– Другие женщины не жаловались бы на это.
Грейс подумала немного над его словами, потом опустила голову на подушку и продолжила:
– Артур хотел на мне жениться. Наверное, он любил меня.
– Почему же ты не вышла за него замуж?
Грейс неожиданно увидела Артура – высокий мужчина с толстой талией и длинными сильными руками; она вспомнила, как он обливался потом все то лето, что они были вместе. Удивительно, но это почти все, что осталось у нее в памяти об этом человеке.
– Артур был в достаточной степени эгоцентричен, – ответила она. – Его собственные удовольствия и удобства были, ну, были самыми важными для него.
– Ты хочешь сказать, Артур просто оказался сволочным эгоистом?
– Разве я так сказала?
– Он не удовлетворял тебя.
Мысли Грейс вернулись к тому времени. Тогда, опираясь на накопленный ею опыт в этом вопросе, она считала безразличие Артура к ней в постели чертой, изначально присущей всем мужчинам, но поначалу вполне терпимой. Только потом это начало раздражать Грейс, она стала избегать их спальни… Сначала это вселило в нее неуверенность в своем собственном сексуальном соответствии его требованиям, и она решила, что во всем виновата сама. Но через некоторое время Грейс стала обвинять Артура, обижаться на его эгоистичность. И только незадолго до того, как они расстались, Грейс поняла, узнала, что ответственность несут они оба.
– Это не только его вина, – ответила она Форману. – Я сама не особо этому способствовала. А в конце, мне кажется, я стала для него и вовсе плоха. И может быть, для тебя тоже, – тихо закончила она.
– Почему бы тебе не позволить мне самому решить это? В качестве начала, можно я скажу, что ты чертовски привлекательная женщина.
– Ты это просто так говоришь?
– Я обещаю тебе, все наладится.
– Все?
– Все, – ответил Форман. – Включая постель.
– Да? Мне в ней нравится.
– Ты просто кровожадное животное.
– Откуда ты можешь об этом знать?
– Я старый развратник.
– Хвастун… А потом, мне думается, я должна тебе признаться, что ты меня запугал до смерти.
– Страх – это то, что помогает девочке знать свое место. Помимо всего прочего, это все-таки Мексика.
– И поэтому я должна на голове таскать хворост для костра?
– И все время идти на три шага позади меня.
– И это превратит меня в хорошую любовницу?
– Тебе есть чему поучиться…
– Чему, например? – спросила она через секунду.
Форман сделал последнюю затяжку и, приподнявшись над Грейс, дотянулся до пепельницы и потушил сигарету. Их губы в темноте встретились, а его рука нашла грудь. Он чувствовал ее дыхание – теплое и ласковое. Страсть быстро нарастала в Формане, но он сдерживал ее в себе, берег для Грейс. «Время, – напомнил себе Форман, – не кончается сейчас…»
Глава 14
Мейлман, опершись о свой фургон, стоящий за воротами городской тюрьмы Оахаки, беседовал с двумя полицейскими. Рыжеволосый здоровяк сказал им что-то на испанском, отчего мексиканцы шумно расхохотались, а гигант, довольный, хлопнул себя по ляжкам, и его мясистое лицо пошло морщинами и порозовело еще больше. Мейлман был первым человеком, которого увидел Чарльз, выйдя из ворот тюрьмы и щурясь от яркого солнца.
Полицейские без всякого интереса взглянули на Чарльза, сказали Мейлману что-то на прощание и удалились. Мейлман выпрямился, широкий и высокий, и сверху вниз, с дружелюбным любопытством посмотрел на Чарльза.
– Привет, Чарльз, помнишь меня?
Мальчик поднял голову и встретился взглядом с живыми голубыми глазами водителя фургона.
– Это вы меня вытащили оттуда?
– Я поддерживаю постоянную связь со здешней полицией. Иногда это окупается. Тебе повезло: мексиканские тюрьмы – оттуда не так-то легко выйти.
– Меня подставили.
– Ты мне не поверишь, но я тебе верю. Залезай в фургон и поехали.
– Поехали куда?
Мейлман серьезно и оценивающе оглядел Чарльза.
– Ну, ты просто взгляни на себя. С такой обритой головой, знаешь на кого ты похож? На ощипанную курицу. Приличный завтрак и душ тебе определенно не повредят.
Чарльз провел ладонью по своей лысой башке.
– Какое все-таки жестокое и бесчеловечное наказание! И почему некоторых так раздражают волосы?
– А почему для других волосы играют столь важную роль?
– Мистер Мейлман, – сказал Чарльз, забираясь в фургон. – Мне кажется, я не совсем вас понимаю.
Грохочущий смех заполнил автомобиль.
– Чарльз, ты едва знаешь меня. Какого черта ты должен меня понимать?!
Чарльз упал на сиденье и замолчал. Скоро они выехали из города и понеслись по плоской пыльной равнине.
– Вон там, наверху, – наконец показал рукой Мейлман, – там мое ранчо. – Он взглянул на Чарльза и усмехнулся. – Давай мы лучше наденем на твою голову сомбреро. Солнце в этих местах может быть злым…
Горячий душ и еда из фасолевого супа, риса, жареного на огне мяса, сладкого крема и черного кофе заставили Чарльза почувствовать себя лучше. Мейлман обеспечил его чистой одеждой и сомбреро и предложил прокатиться на старом «джипе» времен Второй мировой войны, осмотреть «Эль Ранчо».
Они покинули главную усадьбу и направились к расположенному неподалеку комплексу новых и старых построек. Мейлман остановил «джип» и показал рукой.
– Это кузня, – объяснил он. – Вон там – наши мастерские. В них мы работаем со всеми типами двигателей и машин, учим наших людей чинить все механическое, от открытой коляски до дорожного грейдера. То низкое здание – это наша бойня. Если ты хочешь добыть себе пропитание в некоторых частях Латинской Америки, ты должен знать, как зарезать курицу или заколоть свинью, как освежевать и разделать ее. Сзади расположена больница. Каждый, кто уезжает отсюда, умеет принять у роженицы младенца, даже если он появляется на свет не головой, а попой вперед. А также вправить сломанную ногу, узнать больную бешенством собаку до того, как она покусает ребенка, произвести экстренную операцию удаления аппендикса, если это необходимо.
– Что-то я не просекаю, – признался Чарльз. – Один парень, с которым я познакомился, сказал что вы вроде как работник социального обеспечения, там всякая помощь нуждающимся и все такое. Так вы правда этим и занимаетесь, заведуете школой для работников социального обеспечения?
Мейлман разразился изумленным хохотом.
– Социальное обеспечение – это то, чему учат в Колумбийском университете. Работники соцобеспечения хороши только для бумажной работы, они просто загораживают дорогу, проходящую между бедняками мира и тем, что им нужно. Ты спросил меня тогда, не миссионер ли я, – может быть, в каком-то смысле и да или пытаюсь им быть.
– Я помню, что вы мне тогда ответили – что-то вроде того, что у вас нет Бога, или церкви.
Мейлман откинул назад голову и потянулся. Его предплечья, выпирающие из-под закатанных рукавов, были толстыми и жилистыми, покрытыми выгоревшими на солнце волосами.
– Наверное, ты более или менее правильно описываешь ситуацию. – Он вгляделся в лицо Чарльза. – Ты веришь в Бога, Чарльз?
– Думаю, да. Тогда, после этих грибов, мне показалось, что я видел его лицо…
– Грибы позволяют увидеть множество вещей.
– А вы атеист?
– Зависит от того, о каком времени моей жизни ты спрашиваешь. Когда я занимался делами вместе со своими приятелями, мы все были очень практичными и расчетливыми ребятами и быстро богатели. Тогда я был уверен, что Бог есть и что он благосклонно смотрит на меня и на таких, как я. Черт, как еще мы могли прощать себе то, что мы делали, и оправдывать то, что имели? Всякий раз, когда старый Энди Карнеги думал, что на него кто-то наезжает, он обычно говорил: «Бог дал мне мои деньги». Мне – тоже. – Мейлман громко засмеялся. – О да, я был богобоязненным парнем, из тех, что не пропускают ни одного урока в воскресной школе.
– А сейчас нет?
– Я видел детишек с распухшими животами и гнилыми зубами, которые умирали от недоедания. Я видел, как женщины без мужей и без денег рожают детей – номер десять, номер одиннадцать, номер двенадцать. А потом эти женщины погибали от истощения, не дожив и до сорока. Я слушал политиков в темных очках, что произносили возвышенные славные речи о патриотизме и любви к крестьянам, бедным и больным, а потом возвращались в свои усадьбы и палец о палец не ударяли, чтобы помочь этим людям. Верю ли я в Бога? Нет, черт возьми, не верю!
– А что, если вы ошибаетесь?
Мейлман приставил к плечу Чарльза указательный палец, словно подчеркивая особое значение своих слов:
– А что если я прав? Что если рождение человека есть вовсе не Божья воля, а лишь результат вульгарного траханья, а мы все просто стоим здесь, ковыряя пальцем в заднице и ожидая, когда к нам придет смерть? А что если… ладно, малыш, хватит. Довольно.
– Тогда зачем беспокоиться? Зачем вы делаете то, что делаете?
– Чтобы не попадать в неприятности, наверное. – Когда Мейлман произносил эти слова, лицо его было непроницаемо.
«Джип» проехал мимо загона с полудюжиной лошадей.
– Посмотри на них, – проорал Мейлман, заглушая ветер и рев двигателя. – Они как campesinos. Слишком мало пищи, слишком плохо сложены. В них нет никакой энергии, живости, нет жизни. Такая здесь земля. Ей нужно пить воду, пить много и постоянно. Ирригация, вот ключ к проблеме. Правительство только обещает, но дальше каких-то убогих попыток дело не идет.
– Наверное, это просто нельзя сделать.
– Дерьмо собачье! Посмотри на израильтян, как они набросились на пустыню и разгромили ее. И знаешь почему? Потому что они хотели сделать свою жизнь хорошей. Здесь это тоже возможно. Работа, разумное планирование.
– Вы говорите, как мой отец. Похожи на бизнесмена, составляющего план кампании по самоусовершенствованию.
– Это точно! – взревел Мейлман. – Те же методы пригодны и здесь. Разница только в результатах. Здесь вместо прибылей человеческие жизни.
– Если вы действительно хотите помочь беднякам, дайте им больше хлеба. – Уже начав говорить, Чарльз осознал, что он почти слово в слово повторяет слова Счастливчика, и невзлюбил себя за это.
– Малыш, давай я тебя просвещу, чтобы между нами не оставалось ничего недоговоренного. Пункт первый: каждый цент, который у меня есть, я вкладываю в это ранчо, строю его, поддерживаю людей, которые приехали сюда учиться и работать. Я обучаю людей работать, подавать пример другим и заставлять работать других. Что же, это все стоит денег, и денег немалых. Пункт второй, хоть он тебе скорее всего и не понравится: если беднякам дать в руки много денег, они закончатся там, где заканчиваются всегда, – в карманах богатых.
– И это тоже из репертуара моего папашки, – ответил Чарльз. – Бедняки слишком тупы для того, чтобы знать, что нужно делать с деньгами.
– Это мне не известно. Но бедные люди – потому что они бедные – не имеют опыта обращения с деньгами. Они не умеют использовать их, они не знают, как заставить деньги работать на себя. Мошенники и жулики наживаются не на богатых – они делают свой капитал на бедняках, Чарльз. Лживая, поддельная реклама сильнее всего обманывает бедных, необразованных людей.
– И все равно я думаю, что, если достаточное количество денег…
Мейлман фыркнул.
– Да ты еще даже не начинал думать!
Чарльз почувствовал скорее испуг, чем унижение. Он хотел учиться.
– Если решение не в деньгах, тогда в чем же?
– В упорной работе.
– Старая пуританская этика?
– Слушай, Чарльз, избавь меня от того дерьма, которым тебе набивали голову в твоей школе!
– Хорошо. Давайте сделаем так: вы будете меня учить, а я внимаю вам с прилежностью первого ученика в классе. Идет?
Мейлман рассмеялся.
– Вон там, на следующем холме, наша гончарная мастерская. Производство глиняных горшков во всей Южной Америке имеет для крестьян первостепенное значение. И очень важно, чтобы наши люди тоже умели это делать. Еще мы учим их, как использовать власть, как находить слабые места в своих оппонентах, как обращать их себе на службу. Когда наши люди уезжают отсюда, они умеют применять современные методы ведения сельского хозяйства для повышения урожайности. Они говорят на языке того народа, который населяет область, где они будут работать. Они знают, как поднять самосознание индейцев, научить их ценить свой труд. Здесь мы учим бедняков, что богатые не обязательно умнее их или лучше – они просто богаче…
– Прелестные рассуждения, – сказал Чарльз. – Только я уже слышал все это на вечеринках с коктейлями для либералов. Старая песня. Вы просто стараетесь превратить бедняков в потребителей, заставить их примкнуть к своей тупой и безликой человеческой расе.
Мейлман зло усмехнулся.
– А ты предпочел бы, чтобы они голодали в своем первозданном и неиспорченном состоянии? Какая романтика…
– Вы не понимаете. Изменения действительно необходимы; другие системы пробовали произвести их…
Мейлман рассмеялся, и Чарльзу захотелось его ударить.
– Системы становятся деспотами, они превращают нас – как ты, возможно, слышал краем уха – в своих рабов. Я же пытаюсь работать с людьми, с индивидуалами. В конечном итоге все системы обречены на провал, разница только в том, в какой степени они позволяют людям противостоять себе. Системы и их машины – вот божества-близнецы этого мира, которых ты должен низвергнуть. Я, кстати, являюсь вроде бы как специалистом по машинам. Я делал себе состояние, создавая машины, а потом торгуя ими по всей Латинской Америке. И наконец, я стал таким богатым, что у меня появилось время посмотреть на то, что я делаю, и на то, что мои машины делают с народом, которого они должны были обратить в счастливую, богатую и мудрую нацию. Когда ты превращаешь людей в дырки на перфокарте, тебе есть за что ответить.
– И чем вы заняты сейчас, – сказал Чарльз, ощущая себя немного загнанным в угол, – пытаетесь запустить часы в обратную сторону?
– Я не знаю. В каком-то смысле – да, может быть. Но в основном я просто стараюсь, чтобы они показывали правильное время – для всех.
Общая комната «Эль Ранчо» представляла собой длинную, светлую залу, обставленную колониальной, сделанной из темного дерева мебелью и украшенную яркими, цветастыми драпировками. На обоих концах комнаты были сложены массивные открытые очаги. По углам висели стереодинамики, откуда сквозь приглушенную музыку угадывались интонации Джеймса Тейлора, исполняющего «Огонь и дождь».
Мейлман и Чарльз сидели друг напротив друга за небольшим резным деревянным столиком – пили кофе, слушали песню, изредка переговаривались. У Чарльза возникло такое ощущение, как будто он уже очень много времени прожил на «Эль Ранчо», как будто его место именно здесь. Каким-то странным образом это ранчо и эти лица отражали дух самого Мейлмана: здесь была атмосфера уверенности, но без самодовольства, атмосфера целеустремленности и хорошего настроения.
– Мне нравится Джеймс Тейлор, – сказал Мейлман. – В его голосе нет жалости к себе самому.
– А «Битлз»?
– Большие таланты, верно. Но они всех нас обвели вокруг пальца; вся эта их любовь и нежность существовала лишь тогда, когда они вчетвером готовились выйти в звезды.
– Я верил в них.
– А теперь?
– Теперь они больше так просто не спускаются вниз.
– Вот видишь – не всем фальшивкам перевалило за тридцать.
Чарльз усмехнулся.
– Один – ноль в вашу пользу.
– Парнишки часто прибегают на «Эль Ранчо», бранясь и рассуждая о том, что неправильно устроено в этом мире и что они намерены сделать, чтобы исправить его. Все подходит.
– А вам на своем пути разве не приходится бороться со страхом?
– Допустим. И что дальше?
– Мы построим правильный новый мир.
– Ты хочешь сказать, превратим его в сплошной Вудсток[139]139
Вудсток – город в США в северо-восточном Иллинойсе, место проведения рок-фестивалей.
[Закрыть]?
– Верно.
– А что если вместо этого в Алтамонт? Мик Джаггер нанимает рокеров, банду «Ангелов Преисподней», в качестве своих телохранителей, а потом стоит в сторонке и смотрит, как они до смерти затаптывают черного парня?
– Наверное, я вернусь к грибам…
– Наркотики это выход, а не вход.
– А что еще вы предлагаете? Я не хочу быть похожим на своего отца, который трясется над каждым долларом.
– И это единственные альтернативы, которые ты видишь? Деньги и наркотики. Может существовать и другой путь.
– Как я его найду.
– Ищи в нужном месте, – ответил Мейлман, и Чарльзу показалось, что тот потерял к нему всякий интерес.
Утром после завтрака Мейлман подвел Чарльза к своему «джипу». Рюкзак Чарльза валялся на заднем сиденье. За рулем сидел худой мексиканец.
– Цезарь отвезет тебя обратно в Оахаку, – сказал Мейлман.
Чарльз выглядел очень бледным.
– Верите или нет, но я не спал почти всю ночь, думал. И мне кажется, я хотел бы остаться здесь, выйти в поле, помогать людям…
– Сначала помоги себе самому, – холодно оборвал его Мейлман. А потом добавил, уже мягче: – Я хочу сказать, тебе самому придется выяснять, как стать самым лучшим Чарльзом Гэвином в мире. Ответ на этот вопрос в тебе самом.
– Как мне это сделать?
Мейлман улыбнулся, и Чарльз был вынужден невольно улыбнуться ему в ответ.
– Скажи себе сам…