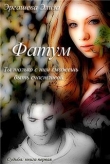Текст книги "Акапулько"
Автор книги: Берт Хэршфельд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
– Я все еще слушаю, – сказал Форман. Он посмотрел на свой стакан – тот был пуст. – Если вы все еще покупаете…
– Ну, конечно…
Официант с бутылкой снова подошел к их столику.
– Расскажите мне все о вас, Харри Бристол, – попросил Форман.
– Да что рассказывать! Всю свою жизнь я продавал и покупал. Пару лет назад, когда люди прекратили тратить деньги, у меня возникли неприятности.
– Вы разорились.
– Разорение – чепуха. Я разорялся десятки раз с тех пор, как за чаевые стал открывать дверцы экипажей на вокзале Пенн Стейшн. Мне тогда было пятнадцать, и с тех пор я кручусь как белка в колесе. Дело в том, что когда я решаю сменить занятие, то сначала определяю, где сейчас разворачиваются события, и потом на ходу впрыгиваю в дело.
– Харри пошел в киноиндустрию, – объяснила Шелли.
– Я делал «клубничку», – вызывающе бросил Бристол. – А почему бы и нет? Верховный Суд разрешил чуть ли не все на свете. Я просмотрел дюжины две этих паршивых кинишек, а потом понял, что такую же дрянь могу снимать и сам. Нашел несколько придурков с камерой, пару прожекторов и одну-две девицы. За пятьдесят монет в день согласится любая девица. Просто скажи такой, что ее покажут в кино, и дело в шляпе.
– Грязное кино, – ухмыльнулся Форман.
– Мои картины были хорошими! Я делал их правильно. У меня были настоящие драматурги и настоящий сценарий, все! Каждая последующая картина была лучше предыдущей. Я даже сделал два цветных фильма!
– Надеюсь, вы проделали весь этот путь сюда не для того, чтобы предложить мне место режиссера в короткометражках для холостяков?
– Нет конечно. «Клубничка» хороша только в качестве разгона. Теперь с ней покончено. В этом бизнесе дела сложились так, что кино сейчас может делать любой, у кого есть мозги и достаточно упорства.
– А у вас есть и то, и другое?
– Да, и в большом количестве.
– Харри хочет сделать по-настоящему выдающуюся картину, – вставила Шелли.
– Коммерческий рынок велик, – продолжил Бристол. – Нужно только правильно читать дорожные указатели и давать людям то, что они хотят получить. Тогда они будут наперегонки бежать, чтобы первыми занять место в очереди в кассу кинотеатра, и стоять там до умопомрачения, зажав хрустящие доллары в мокрых маленьких кулачках и рассуждая о кино и об искусстве. Я знаю только одно: если я приношу проект, который вписывается в смету фильма, фильм будет сделан. Проиграть невозможно.
– Возьмем «Любовь, любовь». У меня уже есть около двадцати минут отснятой цветной пленки, полностью отработанной и готовой к употреблению. Хороший, чистый материал. Ну, может, его нужно еще немного смонтировать. Так, чисто лабораторная работа. Как раз такие вещи производят впечатление на детей, которые ходят в кино.
– Я выскажусь за тебя, Форман. Ты сделал парочку пьес, проку от которых для тебя в обозримом будущем не предвидится. Одно или два хороших ревю, но навара с гулькин нос. Но ты ставишь картину быстро, и, я полагаю, ты умен. Именно это мне и нужно – скорость и ум.
Даже не выслушав Бристола до конца, Форман уже знал, что хочет принять его предложение, так как это его шанс сделать еще один фильм, доказать, что он сможет его сделать. «Каковы будут последствия, если я добьюсь успеха?» – Форман решил не думать об этом, по крайней мере сейчас.
Итак, прочь сомнения. Он знал, что может сделать хороший фильм – фильм, который не только развлекает, но и говорит что-то зрителю. Не набившие оскомину банальности о человеке и обществе, а просто одно-два замечания по поводу мира, в котором он живет, мира, чье совершенство несколько меньше, чем хотелось бы.
«А что насчет Харри Бристола? Явно не злой гений – обычный человек, из породы дельцов. Не обладая никакими особыми талантами или интеллектуальным даром, он компенсировал все это напористостью, напряженным трудом и отчаянной решительностью – и что в этом такого уж неправильного?»
В Бристоле Форман увидел и распознал тот компонент, то составляющее, которого не хватало ему самому, – способность начать дело, не имея при этом ничего, за исключением своего собственного честолюбия, характера и смелости, да еще нахальства. Форман всегда нуждался в человеке, который зажег бы эту первую искру, стал бы источником этой начальной и непрекращающейся энергии. «Ну, Харри Бристол, добро пожаловать…»
– Делать быстро, Форман, делать дешево. Как ты делал те рекламные ролики на телевидении. В тебе это есть. Сделай так же и для меня.
– Вы хотите, чтобы я создал проект картины, спланировал каждый этап, свел к минимуму количество мизансцен…
– Точно! Ты можешь это сделать. Хитчкок ведь делает.
«Хитчкок, – хотел было сказать Форман, но не смог, – гений, способный замыслить в голове весь фильм целиком, а потом шаг за шагом поставить его, превратить задумку в реальность. Но Пол Форман принадлежит к другому племени режиссеров…»
– Импровизация, свобода передвижения для моей камеры, для моих актеров – вот в чем я силен. Я не намерен делать статичную картину.
– Делай все, что хочешь, но при условии, что ты будешь делать это быстро и…
– … дешево. – Форман прижал ладони к глазам, пытаясь упорядочить мысли. – Я дал себе слово никогда ни с кем больше не работать.
– Пол, – сказал Бристол с самой обаятельной из своих интонаций. – Ты сможешь работать на меня, обещаю тебе.
Глаза Формана остановились на Шелли:
– «Одиночество и страх в том из миров, что создан был не мною…» – Он подождал ее реакции.
– Это вы написали? – спросила она. Голос Шелли был тих и ласков.
– Нет. Кто-то другой, тот, кто искал конечную истину. Не использовать ли нам, кстати, это в качестве основной мысли для вашего фильма «Любовь, любовь»? – обратился Форман к Бристолу. – Я имею в виду поиск конечной истины.
– Меня волнует сейчас одно – мы договорились? – спросил в ответ Бристол. На губах его была видна улыбка, но глаза оставались светлыми и холодными. – Сейчас давай поговорим о делах. Книги и писателей оставим на потом. Так мы договорились?
– А что насчет того двадцатиминутного цветного фильма, который у вас уже есть? Того «хорошего, чистого материала»?
Выражение лица Бристола изменилось – грубоватые черты оживились:
– Я сажаю Шелли в пляжный домик где-нибудь в Малибу вместе с симпатичным жеребцом по имени Джим Сойер. Он пытается заполучить ее, Шелли сопротивляется. Действие разворачивается. В доме, в спальне, на бильярдном столе, в туалете. Потом в открытом солярии, на пляже, днем и ночью. Постепенно, шаг за шагом, она уступает ему…
– Мне нужно посмотреть отснятый фильм.
Бристол резко подался вперед, тяжелый кулак замер над столом. «Что он означал? Угрозу? Победу?» – Форман не мог понять.
– Я собирался отснять всю картину в окрестностях Лос-Анджелеса, но в Калифорнии нет ничего нового. Поэтому я выбрал Акапулько. Синатра, Джон Уэйн, Кэри Грант, парни вроде этих как бы создают фон действию. Игровая площадка для целого мира. Тела и бикини. Везде блеск и краски. Кругом солнце, и море, и песок. Кроме того, Акапулько хорошо сочетается с тем материалом, который я уже отснял.
– Написанного сценария ведь у вас нет, так?
– Я вчерне набросал что-то вроде сюжета, расписал там все по сценам. И сделал план съемок. К черту сценарий! Чем меньше говорильни, тем лучше, как в том французском фильме, как его… – он вопросительно посмотрел на Шелли.
– «Мужчина и женщина», – выручила она. – Он был прелестен.
– Угу. Потом я вставлю туда парочку диалогов, если будет нужно. А может, найму какого-нибудь лохматого парня, для того чтобы он написал мне что-нибудь рок-н-ролльное к фильму. Ну, мы договорились?
– Мне нужно тысячу в неделю…
– Господи, ты думаешь, что я президент MGM[22]22
MGM – крупная американская кинокомпания.
[Закрыть]?! Ладно, пусть будет тысяча. Это решено.
– И надбавка до двух тысяч, если это продлится более четырех недель…
– Четыре недели предел. Мы уложимся в этот срок.
– И еще одно, – сказал Форман, исследуя остатки скотча в своем стакане. У основания его шеи билась какая-то жилка, а во рту стоял мерзкий привкус. – В контракте четко оговоренное условие: у меня право окончательной редакции.
Массивное лицо Бристола приняло свое обычное выражение. Форману оно напомнило римскую статую, которую он видел в каком-то музее в давно забытом городе в Америке, – «Голова гладиатора»: то же ожесточенное бесстрашие.
– Деньги, что ты назвал, ты получишь, – ответил он в своей педантичной и ясной манере, которой, видимо, специально учился. – Прибавка за дополнительное время тоже, решили. Но никакой окончательной редакции. Занимайся своим собственным делом, вот мой девиз. Хочешь, соглашайся, хочешь – нет.
Форман хотел поспорить, отстоять свою позицию, но понял, что не сделает этого. Его уже сбили, как куропатку, не только застрелили, но и положили в ягдташ. Все внутри него горело огнем – он жаждал сделать этот фильм, любой фильм. Предчувствие, опасение, ожидание работы заставили его ощутить себя живым, более живым, чем за много прошедших месяцев. За целые годы. Форман сделал последний глоток скотча. Стакан опустел.
– Я поставлю ваш фильм.
– Я очень рада, – сказала Шелли.
Лицо Бристола не изменилось. Он откинулся назад на своем стуле.
– Хорошо. Как только я тебя увидел, я сказал себе, что могу положиться на тебя. Первое, что мы сделаем утром, – отправимся в Акапулько. Ты будешь сменять меня за рулем, и по пути я посвящу тебя во все детали.
Форман поднялся.
– Я сказал, что поставлю вашу картину. Если вам нужен шофер, – найдите другого мальчишку. Я поведу свою собственную машину. Будьте у входа в собор в девять утра. Вы поедете за мной. Мы отправимся кружным путем, так будет быстрее…
Глава 2
К концу дня они прибыли в Мехико-Сити и зарегистрировались в отеле «Мария Изабель». Ужинать, по совету Формана, они отправились в ресторан при «La Fonda del Recuerdo», где в зале играл оркестр – одетые во все белое музыканты на гитарах и арфе исполняли национальные напевы «Веракрус»[23]23
Веракрус – город и штат в восточной Мексике, у побережья Мексиканского залива.
[Закрыть]. На ужин было подано вино «Торито де Мамей» и такос – свернутые в трубочки кукурузные лепешки, начиненные свининой, говядиной и сыром. Бристол от салата категорически отказался.
– Не собираюсь рисковать, – громогласно заявил он. Во время ужина он отдал Форману контракт. – Обычные условия, стандартный договор. Деньги, предварительная редакция, я все вписал. Отметь все изменения и подписывай.
Форман убрал контракт в карман.
– Я прочитаю его сегодня вечером. Если можно, я верну его тебе завтра.
– Ты мне не доверяешь, – сказал Бристол.
– Думай об этом по-другому: скажем, моя паранойя всплывает на поверхность всякий раз, когда я ставлю на клочок бумаги свое имя. Не напрягайся, Харри. На ближайшие четыре недели я твой безраздельно. Давай лучше поговорим о картине.
– Она совсем незамысловата. Женатому парню попадается одинокая дама. Сначала он просто хочет с ней поразвлечься. Он ей нравится, и она начинает с ним хитрить, дурачить его, потому что на самом деле вовсе не такая простушка, как он думает. Вот такой сюжет, как видишь.
– Да, сюжет что надо, – с иронией заметил Форман.
– Он остается с ней до тех пор, пока она не уступает ему. Они занимаются этим по всему Акапулько. В гостиницах, загородом, на пляже. Помнишь Берта Ланкастера и Дебору Керр, как они катаются по песку на фоне морского прилива? Как назывался тот фильм, не могу сейчас вспомнить? Прояви такой же художественный вкус в моей картине, Форман, и ты сделаешь меня счастливым.
– Я хочу сделать тебя счастливым, – ответил Форман. – Но только не ценой собственного несчастья.
– Что должны означать твои слова?
Форман выложил контракт на стол и осторожно проговорил:
– Либо режиссером буду я, либо ты, Харри.
– Послушай, ты…
– Харри… – ласково-предупреждающе вступила в разговор Шелли.
После небольшой паузы Бристол пожал плечами.
– Ладно, ты режиссер, я продюсер. Но это мой проект. Хозяин – я.
– «Любовь, любовь», – негромко произнес Форман, возвращая контракт на прежнее место.
– Тебе нужно только оставаться в рамках сметы, – объяснил Бристол. – Соблюдай график съемок. Сделай мне добротный фильм, и чтобы в нем было достаточно плоти, обнаженного тела, похоти. Сделай его таким, чтобы о нем заговорили критики, чтобы они назвали его интересным, чтобы сказали бы о нем, что это «событие». Разве это не сделает тебя счастливым?
– Безусловно. И чтобы доказать это, я собираюсь в ознаменование столь важного события заказать нечто особенное – café de olla[24]24
Café de olla – буквально: кофе из котла (исп.).
[Закрыть] – кофе, сваренный в горшке. Черный кофе с сахаром и корицей. Настоящее мексиканское удовольствие, Харри.
– Обойдемся без удовольствий. Я пью кофе очень крепким, с изрядным количеством сливок и сахара – то есть, конечно, если никто не будет возражать.
Форман, соглашаясь, поднял руки.
– Было бы о чем говорить, Харри…
В десять минут четвертого утра Бристол проснулся от своих собственных стонов – в перекрученном, стиснутом желудке все горело огнем. Он кинулся в ванную комнату.
На протяжении последующих четырех часов эти посещения приобрели характер прочно устоявшейся практики; Монтесума мстил Харри Бристолу. Шелли позвонила Полу Форману и описала ситуацию перед тем, как передать трубку самому Бристолу.
– Для меня путешествие на сегодня закончено, – пробормотал продюсер, и его прежде могучий голос звучал сейчас слабо и немощно. – Ты поезжай дальше. Начинай без меня. Осмотри место съемок. Поговори с моим новым оператором, Гарри Макклинтоком. Он живет в отеле «Сеньориал». Там для тебя зарегистрирован номер. Если к вечеру я выздоровлю, завтра уже буду в Акапулько. К тому времени как я туда приеду, я хочу видеть, что работа уже началась. Я зарегистрируюсь в Хилтоне, завтра днем позвони мне туда. Послушай, Форман, – Бристол собрал остаток сил, – я сделаю так, чтобы картина имела большой успех. У Стенли Крамер получалось. У Джо Левина получалось. У меня тоже получится. А ты можешь проехаться бесплатно. Заберешься на меня верхом, проедешься на моей спине…
– Харри, работа с тобой будет для меня настоящим университетом.
– Что ты хочешь сказать?
– Только то, что я собираюсь самым тщательным образом поразмыслить над тем, что ты только что сообщил.
– Поразмысли, поразмысли. И не забудь оставить для меня на регистрационной стойке контракт, когда будешь уезжать из гостиницы.
– Харри, – сказал Форман, – салат-латук очень хорош для пищеварения. И вообще, чаще ешь салаты. – И он, не дожидаясь, пока Бристол ответит ему, повесил трубку.
Покидая Куэрнаваку, платная автострада вела прямо в Акапулько. Форман автоматически вел свой шумный красный «фольцваген», то и дело мысленно возвращаясь к недавнему разговору с Харри Бристолом. «Так уж повелось, что режиссер и продюсер никогда не ладят друг с другом, – напоминал себе Форман, – ведь одного заботит прибыль, а другого эстетика. Или, по крайней мере, так подсказывает теория.»
Честность заставила Формана признать, что вопрос материального благополучия не совсем безразличен ему. И он неплохо получал за свою работу. Взять его театральные постановки, к примеру. Мнение Харри Бристола не выдерживает никакой критики. Пьесы Формана вызвали множество положительных отзывов; ряд продюсеров заинтересовались его следующей работой. Но у него нечего было показать им тогда – ни одной новой пьесы, ничего хотя бы частично готового. Время вышло, и весь театральный интерес к Полу Форману иссяк.
Он снова вернулся к своей прежней работе – телевизионной рекламе. «Чтобы не отказываться от ставшего уже привычным… и такого дорогостоящего!.. богемного образа жизни», – сказал он себе тогда.
Потом был «Самый последний мужчина». Один из актеров, знакомый Формана, решил заняться производством фильмов. Выбрал какой-то малоизвестный роман, уговорил автора обработать его и написать сценарий, набрал труппу актеров, согласных работать по фиксированным расценкам, и попросил Формана быть режиссером. Они снимали фильм по субботам и воскресеньям в Нью-Йорке и его окрестностях, потратили полгода на то, чтобы смонтировать и озвучить его, и еще полгода на то, чтобы подписать контракт на распространение картины. Критики сдержанно хвалили фильм, а тем людям, которые приходили его смотреть, он, по-видимому, нравился; но без имен кинозвезд в титрах, при отсутствии денег на рекламу и неимении других средств для того, чтобы убедить довольно-таки обширную публику в том, что на фильм стоит сходить, «Самый последний мужчина» постепенно сошел с экранов и был забыт.
Тем не менее Форман, как режиссер, стал моден. Он получил два предложения из Голливуда – одно от независимого продюсера из Нью-Йорка, а другое от французского критика, который написал сценарий фильма и хотел, чтобы Форман его поставил. Пол отказал им всем, отказал, чтобы вернуться в театр, к своей первой любви. Он хотел написать большую, настоящую пьесу. Но на бумаге успели появиться только три короткие сцены из нее – у Формана кончились деньги.
Он опять занялся производством телевизионной рекламы. Мэдисон Авеню[25]25
Мэдисон Авеню – улица в Нью-Йорке, где сосредоточены офисы многих рекламных компаний; название улицы стало символом американской рекламной деятельности.
[Закрыть] с охотой была готова использовать способности Формана и его быструю, интеллигентную манеру работы. Они хорошо платили ему, предлагали крупные заказы, но он предпочитал оставаться свободным и самостоятельным и не связывать себя никакими обязательствами.
Теперь, оглядываясь назад, Форман мог видеть, что все неприятности начались внезапно, разом. Прежде всего это коснулось работы. Катастрофы на фондовом рынке привели к тому, что многие компании урезали свои расходы на рекламу. Внезапно стали доступны сорокалетние директора, к которым раньше было просто не пробиться. А управляющие компаний, которые до этого с радостью угощали Формана обильными, дорогостоящими, включающими в себя целых три мартини завтраками, теперь предпочитали через своих секретарш передавать Форману, что их нет на месте.
А тут еще женитьба. Действительность размылась, и поток памяти выбросил на поверхность беспорядочные, как обломки кораблекрушения, воспоминания. «Двадцать сумасшедших лет, двадцать лет, потраченных на писание рекламных текстов и постановку рекламных роликов, – все пошло псу под хвост, все бесславно и бесприбыльно кончилось. Если не считать того, что выиграла для себя Лаура.»
Для активного, деятельного, беспокойного ума Лауры роль супруги и домашней хозяйки была явно мала. Она страстно мечтала делать что-нибудь творческое, созидательное. И Форман согласился научить ее писать рекламные материалы. Час за часом, вечер за вечером, он рассказывал ей о теории рекламы, о правилах и способах ее воплощения на практике. Он помогал отшлифовывать ее мышление, направлял его в профессиональные рамки, обсуждал, критиковал, следил за каждым написанным ею словом. Он был превосходным учителем, требовательным, но терпеливым; он постоянно заставлял ее думать, вносить в работу свои мысли, использовать собственные, часто весьма причудливые вкусы и пристрастия. И наконец, его усилия были вознаграждены – ее работа стала профессиональной.
Удостоверившись, что Лаура может управляться со своим ремеслом самостоятельно, Форман организовал для нее встречу с Милтоном Уолленстайном; тот взял ее к себе и поручил вести какие-то незначительные фирмы. Через два года она стала начальницей отдела, а спустя пару лет ее назначили на должность управляющего. Вскоре после этого она перешла на работу в компанию Томаса Чилдресса. Прошло три месяца, прежде чем Форман узнал, что Лаура спит с Томасом Чилдрессом, спит с ним на протяжении вот уже почти целого года.
Словно поменявшись обычными супружескими ролями с женой, он пытался спасти их брак, пуская в ход уговоры, лесть, просьбы сохранить семью, завести детей, предложения купить старый дом в Коннектикуте.
Лаура нашла все это скорее забавным, чем убедительным. За уговорами последовала безобразная сцена, в которой отличиться старалась каждая из сторон, но ни одна из них не добилась победы; тут было все – и ругательства, и угрозы… Пол ударил ее, а она швырнула в него мраморную пепельницу, которая, угодив ему в голову, буквально выбила у Пола почву из-под ног. Когда Форман был в состоянии снова подняться на ноги, ее уже не было.
Он направился в ближайший бар, а потом в еще один и еще. Дважды его выкидывали из баров за хулиганство, один раз избили до потери сознания; спал он на улице. Один раз его арестовали и отвезли в вытрезвитель. Выйдя на свободу, он напился снова. Через три дня и три ночи он вернулся домой, весь в крови, в грязной вонючей одежде. Лауры не было. Она оставила записку, в которой извещала Формана, что намерена начать бракоразводный процесс.
Днями позже, а может прошли целые недели, Форман очнулся в лечебнице, в Беллеву, в смирительной рубашке. Приятный чернокожий мужчина в белом халате рассказал ему, что он напился в каком-то баре, ввязался в драку, кто-то вытащил нож, и этот нож в конце концов оказался у Формана. Выбравшись из свалки, Форман убежал, а потом, прямо на улице, пытался перерезать себе вены. Услышав о том, как ему не повезло, Форман только покачал головой.
В течение последующих двух недель он четыре раза встречался со штатным психиатром лечебницы, полненькой жизнерадостной женщиной, которой, казалось, нравился его горький юмор (по крайней мере, она на него не обижалась) и которая старалась убедить Формана, что он не сумасшедший. Она, правда, допускала возможность того, что Форман изо всех сил старался сделаться им. Она предложила ему после выхода из больницы посещать ее кабинет пять раз в неделю, по тридцать пять долларов за визит. Форман знал, что он не настолько сумасшедший, но по тактическим соображениям согласился с ее предложением, и на следующее утро был выписан из госпиталя.
Одолжив у приятеля, знакомого по прежней рекламной деятельности, тысячу долларов, Форман приобрел у торговца в Квинз[26]26
Квинз – район на востоке Нью-Йорка, на Лонг-Айленде, где живут в основном бедные слои населения.
[Закрыть] красный «фольцваген» и немедленно отбыл в Мексику, твердо решив привести свою жизнь в порядок. Намерения его были хорошими, но процесс претворения их в жизнь, как и раньше, оказался далеко не безупречным. «Может быть, “Любовь, любовь” станет поворотным моментом, решительно все изменит в моей жизни… Я надеюсь на это. Я буду из кожи вон лезть, чтобы это случилось»…
Заплатив дорожный сбор в Икуале, Форман остановился на заправке. Пока в бак заливали бензин, а мальчишка-подручный протирал лобовое стекло, Пол наведался в туалет, а потом выпил кока-колы, пытаясь снять напряжение в занемевших плечах.
– Направляешься в Акапулько?
Форман поднял глаза. В нескольких шагах от него стоял высокий американец, который в своих сапогах, сомбреро и кожаной куртке с бахромой выглядел как воскресший Джордж Кастер[27]27
Джордж Армстронг Кастер (1839–1876) – американский генерал, воевал с индейцами.
[Закрыть]. Худой, с длинными русыми волосами и редкой бороденкой и усиками того же цвета, незнакомец своими водянистыми глазами вглядывался в лицо Формана. Голос его звучал требовательно, почти обвиняюще.
– Держу пари, ты едешь туда же, – ответил Форман.
– Угадал.
– И хочешь, чтобы тебя подбросили?
– Точно так, приятель.
– У меня какое-то странное чувство, что ты специально устроил на меня здесь засаду.
– По существу, ты, наверное, прав. Но я все утро спрашивал всех проезжавших мимо.
– И что?
– В этом мире осталось очень мало любви.
Форман хрюкнул и указал на свой красный «фольцваген». Бородач забрался внутрь и вздохнул.
– Ох уж эти маленькие автомобильчики. Такому большому парню, как я, некуда даже вытянуть лапы.
– Прости, – ответил Форман, выруливая на автостраду. – Останови меня, когда я буду возвращаться из Акапулько. Возможно, тогда я смогу тебе угодить.
Вскоре после пересечения с Рио-Балсас дорога начала карабкаться вверх, и машина замедлила ход. Форман включил вторую скорость.
– Вечная беда с этими «насекомыми»[28]28
Намек на разговорное название модели «фольцвагена» Формана – микролитражку «жук».
[Закрыть], – отозвался на происходящее бородач. – Силенок маловато. Такими темпами мы и до темноты до Акапулько не доберемся.
– Тогда тебе надо было остаться, подождать какой-нибудь «кадиллак».
– Ну уж нет, приятель. Эти жирные коты слишком любят важничать на дороге, чтобы подвозить такого ненормального, как я. Мой стиль им просто как нож в сердце.
– Ну, твой внешний вид не внушает человеку очень уж сильного доверия.
– Таков уж Лео, хочешь смотри, хочешь нет.
– Лео, а как дальше?
– Просто Лео.
– Ладно, Лео. Меня зовут Пол Форман.
– Полагаю, ты забронировал себе номер в «Лас-Брисас» или еще где-нибудь в этом роде?
– В «Сеньориале».
– Хм… Неплохо ты устроился!
– А что ты мне порекомендуешь?
– Сходи на пляж. Там и песок, и тишина, вся вселенная. Знаешь, что сказал Галлилей?
– Думаю, ты мне сейчас расскажешь.
– Запоминай. «Тот, кто наблюдает самые высокие вершины, тот самого высокого качества». Потрясающе!
– Давно в Мексике, Лео?
– «Время» – искусственное понятие, приятель. Просто – живи, врубился? Есть настроение, я рисую. Бренчу на гитаре. Травку кое-какую жгу. Ловлю кайф, малыш, вот так и живу. Немного ты в Акапулько встретишь таких, вроде меня. Эта песочница – для богатых. Оргии там всякие – сплошная показуха и все такое. Даже когда они любовью занимаются, все у них не настоящее. Эй, девульки-красотульки, хотите получить подлинное удовольствие – обращайтесь к Лео! Он знает дорогу к наслаждению.
– Могу поймать тебя на слове. Где мне тебя разыскать?
– Здесь и там.
– Там, это где?
– На автобусной станции есть один пижон, звать его Франко. Он будет знать, где я обретаюсь. Этот Франко, он знает абсолютно все. – Лео изучающе посмотрел на Формана, как будто рассматривал какой-то организм под микроскопом. – А ты что за птица, приятель? Бизнесом занимаешься, да? Мой старик, к примеру, жил в картонных коробках. Как, пробирает тебя это?
– Я режиссер – делаю в Акапулько фильм.
– Без балды?
– Без балды.
Лео с серьезным видом погладил свою козлиную бородку.
– Дам тебе умный совет, приятель. На автозаправках смотри в оба. Эти местные, у них дурная слава, хорошего от них не жди. Когда начнут заправлять машину, проверь, чтобы счетчик стоял на нуле. И никогда не доверяй мексиканцу, вот что я тебе скажу…
Форман ответил, что он обязательно запомнит совет; про себя же он отметил внезапный прыжок или, скорее, падение Лео с темы единения и тождества со вселенной – если только в ней есть место для не заслуживающих доверия мексиканцев и для отца, спящего в картонных коробках.
«Роялтон» был в Акапулько самым новым отелем, построенным меньше года назад. С тремя массивными крыльями, двадцатидвухэтажное здание теплого, розового цвета напоминало гигантскую букву «Y». В каждом номере был свой собственный балкон, выходивший на пляж с ласковым названием «Калета»[29]29
«Калета» – (Caleta) – бухточка (исп.).
[Закрыть], и небольшой укромный залив, гладь которого почти всегда была испещрена маленькими точечками – лодками. Отель «Роялтон» гордился своими тремя плавательными бассейнами, каждый из которых по размеру не уступал олимпийскому, открытым и закрытым гимнастическими залами, пятью теннисными кортами, полем для занятий ручным мячом, помещением для игры в шаффлборд[30]30
Шаффлборд – игра с передвижением деревянных кружочков по размеченной доске.
[Закрыть] и игровой комнатой. В гостинице было три ресторана, по одному в каждом крыле, а также шесть коктейль-баров – три на цокольном этаже и еще три на крыше. «Роялтон» был одним из самых дорогих отелей в Акапулько.
– Вот именно поэтому я его и выбрал, – объяснил Тео Гэвин своему сыну, Чарльзу. – Особенность богатых людей в том, Чак, что они понимают ценность денег, это у них в крови. Когда у человека есть деньги, он может расслабиться, отдохнуть, он в состоянии правильно понять другого человека с деньгами, оценить его настоящую сущность. В такой атмосфере, как здесь, мне не нужно все время быть настороже, не нужно беспокоиться о том, чтобы произвести впечатление.
– Понятно. Следовательно, надо просто сделать бедных богатыми, и все вокруг будут доверять друг другу.
– Это же отпуск, Чак, – сказал Тео с упреком. – Давай стараться не портить друг другу настроение.
Не ответив отцу, Чарльз вышел на балкон. Спелое полуденное солнце, заливавшее все вокруг ослепительным светом, наводило на мысль об антисептике. Однако Чарльз всерьез подозревал, что ни одно место в Мексике не заслуживает подобного опасения. Акапулько казался отдаленным, лоснящимся, как бы прилизанным солнцем. Вид как на вульгарной почтовой открытке. Увеселительно-льстивый вакуум с тщательно отобранными для пущего эффекта декорациями.
Чарльз чуть не рассмеялся вслух своей собственной циничной предвзятости. Он мог бы сказать про город то же самое, еще и не уезжая из Нью-Йорка. Сейчас он хотел видеть Акапулько пустым и поверхностным, некоей сверкающей громадой баснословно дорогой мишуры. Он хотел, чтобы его, составленные еще в Америке, суждения об этом городе подтвердились. «Скорее – предубеждения», – мысленно поправил он себя.
И все-таки, сказать правду, он с нетерпением ждал этого путешествия в Мексику, мечтал узнать чужую страну и культуру, встретить людей, не похожих на него. И в то же самое время он ощущал какую-то необычную скованность, какое-то странное нерасположение, неприятие чуждой ему земли. Сначала он объяснил это своей враждебностью по отношению к отцу, но потом пришел к заключению, что дело тут в нем самом – в его боязни неизведанного, в его страхе раскрыть и узнать самое себя перед лицом этого непреодолимо и неизбежно чужого. Но со временем этот прославленный и имеющий дурную репутацию, этот славный и скверный, этот замечательный и порочный мексиканский город настолько возбудил его любопытство, что последнее взяло верх над всеми остальными соображениями, и он принял приглашение Тео.
Позади Чарльза, в гостиной комнате их номера, Тео развел оживленную деятельность. Он заказал в службе доставки завтрак, попросил коридорного отнести свой смокинг в чистку, сделал распоряжения насчет ужина и навел справки касательно аренды автомобиля. Тео Гэвин был организованным мужчиной.
– Ей, Чак, брось ты все это, иди сюда, мальчик! Давай-ка лучше поболтаем о чем-нибудь.
Чарльз придал своему лицу приветливое выражение и покинул балкон. Походка его была расхлябанной, и при виде ее на ум почему-то приходила мысль о тягучем и липком киселе – туловище при ходьбе подпрыгивало вверх и вниз, руки хлопали по бокам… «Определенно, – в сотый раз сказал себе Тео Гэвин, – у него походка ничего общего не имеет с походкой настоящего мужчины.» Надо сказать, что и в остальном Чарльзу было далеко до того, чтобы завоевать одобрение своего отца. Во-первых, мальчик явно уступал ростом Тео, а плечи его были узки и неразвиты. Все тело Чарльза несло отпечаток какой-то почти неприличной мягкости – слишком уж оно было худым, слишком хрупким и слабым. Очертания суживающегося к подбородку лица были неопределенны и размывчаты; рот казался слабым и безвольным; влажный блеск светло-карих глаз создавал впечатление, что мальчишка вот-вот разревется. А его волосы – такие чертовски длинные волосы! В мальчике воплотилось слишком много от Джулии – ее терпимость и такая же, как у нее, слабость… А ведь Тео хотел, чтобы у него был сын, похожий на него самого, – мужественный мальчик, способный совершать поступки. Тео даже сомневался, что Чарльзу удалось хоть раз переспать с женщиной.