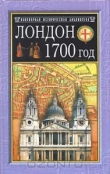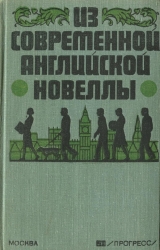
Текст книги "Из современной английской новеллы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Вступить в клуб
Для начала я взял парочку уроков – надо же было убедиться, что игра у меня пойдет, что я сумею попадать по мячу. Оказалось, что сумею. Профессионал в универсальном магазине даже сказал, что у меня удар от природы поставлен. Конечно, они на похвалы не скупятся, но я и сам это заметил – глаз у меня еще верный.
По правде говоря, я в свое время в какие только игры не играл: и футбол, и теннис, и крикет, даже и кроссы бегал, да только теперь это дело прошлое. Однако не зарастать же вовсе мхом, и я подумал – гольф! Как-никак на свежем воздухе, ну и компания может подобраться приятная. А потому я купил набор клюшек, а дальше, само собой, надо вступить в гольфовый клуб.
Мне советовали: "Вступайте в "Милл-Лодж" (это еврейский клуб в Хертфордшире). А я отвечал: "Почему обязательно "Милл-Лодж", если есть десяток клубов куда ближе?" Они говорят: "Зачем напрашиваться на неприятности?", а я говорю: "Неприятности так неприятности". Меня многие предупреждали, только я как-то не мог отнестись к этому серьезно. Ведь играл же я в футбол, в крикет – и без всяких неприятностей.
Сперва я испробовал "Брук-Парк", потому что он был ближе всего. У меня в этом клубе приятель, Уилли Роуз, и он сказал, что рекомендует меня. Я играл там полтора месяца – у них такой испытательный срок. Секретарь мне сказал:
– Вы посмотрите, нравимся ли мы вам, а мы посмотрим, нравитесь ли нам вы. – Он был министерский чиновник на пенсии. И он сказал еще: – Откровенно говоря, мистер Ричардс, мне, как правило, достаточно просто поглядеть на человека. Нельзя ли узнать ваше занятие?
Я говорю:
– Я занимаюсь мебелью.
Уилли потом мне сказал:
– Он сукин сын. Они все тут такие.
Но мне нравилось там играть. Поле очень приятное. Играл я обычно четвертым – с Уилли и двумя его приятелями, – а иногда присоединялся к другим членам клуба. Ничего плохого не скажу: все держались очень дружески, хотя меня не слишком-то устраивала их манера после игры обязательно идти в бар. Уилли говорил:
– Послушай, просто они такие. Их не переделаешь. Так уж они привыкли жить.
Но по мячу я бил все точнее. Понемножку осваивал приемы. И одного хотел – играть себе спокойно, а они пусть пьют, сколько им вздумается.
Через полтора месяца я пришел к секретарю. И сказал:
– Ну, я решил, что хочу вступить в клуб.
А он говорит:
– Так-так.
Что-то в нем переменилось. Он был из этих, из тощих, с усиками и отрывистой речью. Словом, всегда как будто на все пуговицы застегнут.
– Вы ведь играли главным образом с мистером Роузом? – говорит он.
– Совершенно верно, – говорю. – Мистер Роуз рекомендует меня.
– Мистер Ричардс, – говорит он, – вы еврей?
– Да, – говорю, – только какое отношение это имеет к гольфу?
– К сожалению, у нас еврейская квота, – говорит он.
Я говорю:
– А что это значит?
Он говорит:
– Это значит, что мы не можем вас принять.
– Так-так, – говорю.
Честно говоря, я не сразу поверил, что это всерьез. Меня как оглушило, и ничего понять не могу, словно во сне. Я спрашиваю:
– Ну а в очередь меня записать нельзя? – А сам себя слышу со стороны, как будто даже голос не мой.
Он говорит:
– Это особого смысла, право, не имело бы.
– Почему? – спрашиваю, а он отвечает:
– У нас нет строгой очередности.
– Ну что же, – говорю, – значит, нам больше разговаривать не о чем. – И встал. Руки я ему не протянул, но, когда я уж открывал дверь, он спросил:
– Мистер Ричардс, а мистер Роуз – еврей?
Я говорю:
– Мне очень жаль, мистер Питерс, но, боюсь, у меня нет обыкновения наводить справки о расовой принадлежности и религии людей, с которыми я имею дело.
Пусть, черт его подери, устраивает свои погромы без моей помощи.
Но это было только начало. Рассказать вам, каких унижений я натерпелся и каким оскорблениям подвергался за эти полтора года, вы не поверите. Я и сам поверить не мог. Но это только прибавляло мне решимости.
Следующий клуб, куда я сунулся, оказался даже хуже первого – "Риджентс-Хилл". А ведь началось все прекрасно! Я побеседовал с секретарем, очень милым и обходительным, совсем не таким, как первый. На нем был твидовый костюм в клетку, и он все время смеялся. Он сказал:
– Вот и отлично: приходите, играйте – ну, например, месяц, – познакомитесь поближе с членами и найдете двоих, кто вас рекомендует.
Я играл и все больше осваивался. Конечно, форы я еще не давал, но ударов затрачивал все меньше. Публика там была приятная, солидная: банковские управляющие, предприниматели и прочие в том же роде. Разговаривать нам особенно было не о чем, ну да меня это не волновало. Я приходил играть в гольф, а поговорить мне и дома найдется с кем.
Когда месяц кончился, я снова пошел к секретарю. Он меня встретил так же дружески, как в первый раз, да и вообще все это время держался со мной любезней некуда. Он сказал:
– А, мистер Ричардс! Зашли за вступительной анкетой?
– Да, будьте так добры, – говорю.
– Вот, пожалуйста, – говорит он, а когда я уже дошел до двери, вдруг окликнул меня и добавил: – Еще один вопрос.
"Вот оно", – думаю, и у меня прямо под ложечкой заныло.
– Что такое? – спрашиваю, а он говорит:
– Когда станете членом клуба, пригласите меня сыграть партию?
Я уехал. Думаю: все прекрасно. Потом дома развернул анкету, посмотрел, и нате вам – вопрос одиннадцатый: "Религия". Как ногой в живот ударили.
Несколько дней я не знал, на что решиться. Десять дней прошло, анкета лежит, а я к ней не притрагиваюсь. В конце концов я ему позвонил и сказал:
– Говорит Лайонел Ричардс.
Он отвечает:
– Ах да! Вы же еще не прислали анкету.
– Не прислал, – говорю. – Меня немножко смущает один пункт. Мне не совсем понятен вопрос.
– Неужели? – говорит. – Какой же?
– Одиннадцатый, – говорю. – "Религия".
– А! – говорит он. – Так мы же его просто вставили, чтобы не допускать евреев.
И снова меня как будто ниже пояса ударили.
– Ну, – говорю, – мне очень жаль, но я еврей.
А он вдруг затараторил:
– Это не мое правило. Я его не вводил. Так решило правление.
– Так-так, – говорю. – Ну, большое вам спасибо.
И тут я чуть было не махнул рукой. Жена меня просто умоляла. Она говорила:
– Ты, того гляди, заболеешь. Ну зачем тебе это нужно?
А мой компаньон сказал:
– Если ты хочешь играть в гольф, так вступи в "Милл-Лодж".
– Не хочу я вступать в "Милл-Лодж", – говорю. – Почему я обязан вступать в "Милл-Лодж"?
Он говорит:
– А чем тебя "Милл-Лодж" не устраивает? Ну, не спорю, взносы там высоковаты.
– Да при чем здесь это? – говорю. – Я не хочу, чтобы меня вынудили туда вступить. Если я вступлю в "Милл-Лодж", так только если сам захочу.
Через месяц он говорит:
– Послушай, я из-за тебя скоро свихнусь. Вступай в "Милл-Лодж"! Я тебя рекомендую. Заплачу за тебя вступительный взнос, черт бы его побрал!
– Нет, – говорю. Потому что я уже твердо решил. – Я тогда себя буду презирать.
Кто-то посоветовал попробовать "Масуэлл-Парк".
Я поехал туда, посмотрел на секретаря, и сразу все ясно стало. Это был какой-то полковник. Таких среди них не меньше половины: глядят на тебя, словно ты стоишь перед военно-полевым судом. Он достает анкету и говорит:
– Религия?
Я ответил, и на этом все кончилось. "Мы вам позвоним". Разумеется, никто мне не позвонил.
Я в Северном Лондоне все перепробовал – кроме муниципальных полей. В одном клубе мне дали двухмесячный испытательный срок. Через три недели секретарь попросил меня зайти к нему. Вид у него был смущенный, надо отдать ему должное. Он сказал:
– Надеюсь, вы поймете меня правильно, мистер Ричардс, но мне было высказано предположение, что вы, возможно, еврей.
– Высказано? – говорю. – Кем же?
– Ну, – говорит он, – одним из наших членов.
– Что же, – говорю, – он не ошибся. А теперь вы, вероятно, объясните мне, что у вас квота. Не трудитесь, я и так уйду. Я сейчас же уйду.
Он говорит:
– Пожалуйста, не считайте это чем-то личным.
– А что же еще прикажете мне считать? – спрашиваю. – Если в этом нет ничего личного, то почему вы меня не принимаете?
– Такое правило, – говорит он.
Но уж тут я не выдержал. Сколько можно!
– Правила сами собой не появляются, – говорю. – Кто-то их составляет! Они что, опасаются, что я рукой мяч подправлю? Что я ногой его в лунку закачу, пока никто не видит?
– Мистер Ричардс, – говорит он, – но я же объясняю вам, что лично к вам это никакого отношения не имеет. Просто некоторые евреи…
– Какие евреи?
– Ну, не такие, как вы, – говорит он.
– Откуда же вы можете знать, какие они, – говорю, – если вы не разрешаете им играть тут?
Еще один из них – еще один секретарь – сказал:
– У вас, евреев, есть ваши гольфовые клубы, мистер Ричардс, а у нас есть наши.
Я говорю:
– Да, но почему у нас есть наши клубы? А потому, что вы нас не допускаете в ваши.
Можете мне поверить, по временам я готов был махнуть на все рукой, вообще выбросить клюшки, или все-таки вступить в "Милл-Лодж", или… ну, в общем, что угодно. Я сидел в баре такого гольфового клуба и смотрел на тех, кто там пил, смотрел на них в раздевалке, смотрел и думал: ну что в нас есть такое? Что они против нас имеют? Чем мы так уж отличаемся? И я почувствовал, что начинаю проникаться к ним неприязнью. Сначала я злился на секретарей, но что в конечном счете делали секретари? Просто выполняли распоряжения вот этих людей. Гольф мне больше никакого удовольствия не доставлял – я думал только о том, что они не стали бы играть со мной, если бы знали, а потому начал опережать развитие событий. Я приходил к секретарю и говорил: "Прежде всего я хочу вас предупредить, что я еврей. Мне это безразлично, но вам, возможно, нет". А они отвечали: "Мы вам позвоним". А кто почестней, говорили прямо: "Боюсь, у нас квота".
Но я решил взять над ними верх во что бы то ни стало и в конце концов добился своего – довольно-таки неожиданным образом. Один оптовик, с которым у меня дела, как-то в разговоре упомянул, что едет отдыхать в Шотландию – будет там играть в гольф. Он спросил:
– А вы играете?
Я говорю:
– Когда мне это разрешают.
Он спрашивает:
– Как так – разрешают?
Ну я и рассказал ему всю историю. Он-то не еврей.
– Какая нелепость, – говорит. – А почему бы вам не вступить в мой клуб? Я вас рекомендую. – И назвал клуб.
– Не беспокойтесь, – говорю, – я уже пробовал. Я все клубы Северного Лондона перепробовал.
– А "Три вяза"? – спрашивает.
Это уж совсем загородный клуб.
– Там я не был, – говорю. – Но ведь будет то же самое.
– Нет, не будет, – говорит он. – У меня там друг. Он старшина. И если он вас рекомендует, можете считать себя принятым, неважно, кто вы и что вы.
Ну, мы пообедали втроем: он, я и этот его друг. Очень приятный оказался человек. Что-то там по пластмассам. Он сказал:
– Конечно, мы вас примем. О чем может быть речь? Поехали сейчас. Сыграем партию с секретарем.
Я так и сделал. Очень приятный клуб. В анкете у них есть пункт "религия", но я ее заполнил, старшина меня рекомендовал, а недели через две я получил письмо, что принят. Я там играл около полугода, и все со мной были очень любезны. А потом я ушел.
Секретарь спрашивает:
– Что произошло, мистер Ричардс? Разве вам тут не нравится?
– Очень нравится, – говорю. – В этом нет ничего личного. Просто мне хочется, чтобы и еще кто-нибудь мог воспользоваться квотой.
После этого я вступил в "Милл-Лодж". Я свое доказал.
Arrivederci, Elba[1]1
До свидания, Эльба (итал.).
[Закрыть]
Деревушка изменилась – ее колонизировали. Теперь она принадлежала туристам. Дома расцвели пронзительно яркими жалюзи, пляж покрылся грибами голубых зонтиков, по узкой прямой дороге, ведущей к бухте, рыча, сновали машины. В море далеко за ревущими моторками и водными лыжниками вставал туманный горб Корсики, а закаты пылали багрянцем облаков, их курчавые башни закручивались, словно краски, выдавленные из тюбиков великана художника.
Все пансионаты были переполнены – переполнены римлянами и миланцами, которые питали друг к другу легкую неприязнь и гоняли свои машины по узкой грунтовой дороге с бесцеремонной скоростью и шумом. Номер в "Альберго дель Гольфо", белом и новом, который нагло торчал на берегу бухты, стоил семь тысяч лир в день.
Оставался только крестьянский дом в полумиле от деревни, и я устроился там в спальне, которая явно принадлежала хозяину и его жене – в сумрачной, душной комнате, задавленной занавесками и семейными реликвиями. Лиловые занавески, лиловое покрывало на кровати, а над ними – извивающееся на кресте тело.
– Ма vengono i fiorentini, – сказали мне так, словно речь шла о неизбежном стихийном бедствии: скоро приедут флорентийцы.
Они приезжают каждый год, объяснили хозяева, и тогда мне придется спать в столовой.
Хозяин и его жена были до смешного не похожи друг на друга. Он – синьор Ансельмо – выглядел воплощением простака поселянина, эдаким разиней мужичком из народных побасенок, в которых крестьянская сметка в конце концов берет верх над хитростями городского пройдохи. У него было добродушное лицо, круглое и красное, точно яблоко, и немигающие серые глаза, смотревшие с обманчивой доверчивостью. Он ходил в сдвинутой на затылок соломенной шляпе, под его верхней губой зияла дыра, и, когда его лицо было спокойно, для полного эффекта не хватало только свисающей изо рта соломинки. Он переселился на Эльбу из Пармы и не доверял островитянам – "gente strana"[2]2
Странные люди (итал.).
[Закрыть]
Его жена, сама уроженка Эльбы, в ответ только смеялась, как, впрочем, смеялась по любому поводу, подрагивая жирным телом – обрюзглая толстуха с обнаженными руками и полным ртом серебристых стальных зубов.
"Ай-ай!" – пыхтела она и смеялась. "Ай-ай!" – словно жизнь так нелепа, что нет смысла огорчаться и грустить.
У них была дочь, столь же удивительно непохожая на них, как они – друг на друга: десятилетняя Мариза, тоненькая, красивая ласковая девочка с пепельными волосами до плеч. В их отношении к ней проглядывала какая-то любовная почтительность, словно они все еще изумлялись ее красоте и задорной живости.
Дом был небольшой, квадратный, сложенный из дикого камня. Они провели себе электричество, но водопровода не было, а уборная стояла в глубине пыльного заднего дворика. По стенам столовой висели легионы умерших родственников в виде фотографий: гроздья унылых голов и плеч, замкнутые черными рамками. Но они не имели тут власти: Ансельмо улыбался, сидя во главе стола, а его жена смеялась, наливая вино и нарезая консервированного тунца.
Флорентийцы приехали через три дня. Когда я вернулся с пляжа, они уже сидели за обеденным столом – мужчина, женщина и юноша.
– Кавадзути! – сказал мужчина и вскочил, не дожидаясь, чтобы нас познакомили. Маленький, щуплый, он стиснул мою руку и потряс ее. – А это моя жена и мой сын Франко.
Кавадзути было за пятьдесят – жилистый, смуглый, неугомонный, как мартышка, с седыми, коротко остриженными волосами и голубыми настороженными глазами. Он держался с бойкой развязностью, словно смутно ощущал, что для него это единственная замена интеллекта. Его жена, наоборот, выглядела унылой – бесцветная, вялая женщина, которая всегда обматывала голову шарфом, молчаливая, замкнутая.
Зато сын их был красив ясной флорентийской красотой – жесткие каштановые кудри, широкий рот с прекрасными белыми зубами, глаза голубые, как у отца, но не бегающие, не беспокойные. Я бы дал ему лет девятнадцать-двадцать. Он поздоровался со мной не так бурно, но с искренней приветливостью.
Кавадзути посадили справа от меня, и он тотчас же с чрезвычайной любезностью принялся мне услуживать.
– Ломтик хлеба? Не хотите ли масла? Вы же англичанин, а? Я очень уважаю англичан. Великие писатели. Великие поэты. Как фамилия того поэта, который жил во Флоренции? Браунер…
– Браунинг.
– Вот видите? Браунинг. Grande poeta. Sono molto amico degli inglesi. Я большой друг англичан. Я работаю в ратуше, в палаццо Веккьо. Вы знаете палаццо Веккьо?
– Разумеется.
– Красивое здание. Красивая piazza. Одна из самых красивых площадей в мире.
– Я знаю.
– Ну вот видите! Синьору нравится Флоренция, англичанам вообще нравится Флоренция.
– Да, существует такая традиция.
– Прекрасная традиция. Все лучшие английские писатели и поэты. Браунинг. И Шекспир тоже.
– По-моему, нет.
– Ма si, mа si[3]3
Ну да, ну да (итал.).
[Закрыть]. И Шекспир тоже.
Его жена на секунду подняла голову от тарелки со спагетти и сказала, словно продолжая какой-то внутренний монолог:
– В этом году мы должны купить лосьон от загара.
Ее бледная глянцевитая кожа выглядела так, словно – никогда не знала солнца.
– Конечно, конечно! – сказал ее муж, нетерпеливо дернув кистью, и она вновь кротко наклонилась над своей тарелкой, ссутулившись, пригнув голову, сосредоточенно, как пасущаяся корова.
– Мы приезжаем сюда каждый год, – сказал Кавадзути. – Ведь верно, Франко? Ведь так, синьор Ансельмо?
– Certo[4]4
Конечно (итал.).
[Закрыть], – сказал синьор Ансельмо и кивнул, глядя рыбьими глазами – театральный пейзанин рядом с Кавадзути, законченной карикатурой горожанина. И действительно, между ними чувствовалось какое-то отталкивание. В присутствии Кавадзути Ансельмо менялся, становился молчаливым и отвечал, только когда у него спрашивали подтверждения, а в тоне и манерах Кавадзути проскальзывал легкий покровительственный оттенок.
– Так сколько же это лет? Пять? – спросил он.
– Четыре, – сказал его сын. – Четыре года. Прежде мы всегда ездили в Виареджо.
У всех троих был флорентийский выговор – резкие взрывчатые переходы, "к" с придыханием: "хаза" вместо "каза", "хон" вместо "кон". Торопливость и воинственный задор Кавадзути тоже были типично флорентийскими – его упоение словами, его уважение не столько к культуре, сколько к атрибутам культуры. Мы уже получили Шекспира и Браунинга, а к концу обеда к ним прибавились Леонардо, Джотто и Толстой. Синьора Ансельмо оглядывала стол и улыбалась, словно одобряя этот дух, хотя частности и были ей непонятны.
– Когда будете во Флоренции, – сказал мне Кавадзути, – я покажу вам, где жил Браунинг. Загляните в ратушу и сходим вместе.
К ужину он явился с маленьким белым транзистором и поставил его на столе возле себя. Время от времени он крутил ручку настройки, и танцевальная музыка сменялась популярными песнями, а потом он поймал последние известия.
– Вы слышали? Человек в Лондоне написал статью против английской королевы. А королеву в Англии любят?
– Большинство – да.
– Но ведь в Лондоне всегда туман.
– Зимой иногда бывает.
– Всегда, всегда!
– Ай-ай! – смеялась толстая синьора. – Ай-ай!
Утром меня разбудил шум. Они завтракали. Я спал на диване у стены, в нескольких шагах от стола, под угрюмыми взглядами полка усопших родственников. Занавески были отдернуты, солнце било мне в лицо, а со стороны стола то и дело доносилось громкое хлюпанье. Когда я открыл глаза, чей-то голос прошипел:
– Ш-ш! Синьор спит!
Кавадзути сидел спиной ко мне в белой рубашке и голубых футбольных трусах. Его голые ноги были худыми, смуглыми и жилистыми. Напротив, бледная и глянцевитая, как восковая кукла, сидела его жена. Их сын примостился у дальнего конца стола. Все трое, словно тайно соревнуясь, пригибали головы к большим кофейным чашкам, крошили в них хлеб, а затем подцепляли намокшие кусочки и всасывали их с ложки. Они почти не разговаривали, но не из вежливости, не потому, что боялись меня разбудить, а потому, что все их внимание было поглощено этим занятием: кусочки хлеба быстро и ритмично падали в чашку, ложка подхватывала их, губы громко хлюпали, и все повторялось сначала.
Я лежал, притворяясь, будто сплю, пока они не кончили и не ушли из комнаты. Но укрыться от Кавадзути было невозможно – даже в уборной: ее запертая дверь действовала на него, как вызов, как повод для того, чтобы возмущенно дергать и трясти ручку.
На пляже он все время сидел рядом со своим транзистором, не рискуя войти в воду. А его жена и вовсе была в платье и даже не сняла шарфа с волос. Солнцу были открыты только ее лицо и кисти рук, тщательно смазанные лосьоном из флакона. Пляж, жгучее солнце, рев моторок – их приходилось терпеть, как, впрочем, и все, из чего слагается жизнь. Вокруг лежали журналы и газеты, словно Кавадзути щедро потратил на них все те деньги, которые сэкономил, не взяв пляжный зонт. Время от времени он принимался читать вслух, но его жена как будто не слышала. У нее на коленях тоже лежал открытый журнал, но страниц она не перелистывала.
Однако их сын получал полное удовольствие: он купался, болтал с девушками, прогуливался по пляжу, красивый, стройный, в голубых плавках.
Мимо пробежала Мариза, мокрые пряди ее волос разлетались, как у русалки, и тут я увидел, как синьора Кавадзути подняла голову, наконец улыбнулась и сказала: "Beilina!"[5]5
Прелесть (итал.).
[Закрыть] Это было видение радости, за которое надо быть благодарным, которое нельзя трогать, но Кавадзути крикнул вслед девочке:
– Поди-ка сюда, Мариза.
А когда она послушно повернулась и подошла к нему, он сунул ей несколько лир "на конфетки".
– Только смотри ничего не говори маме!
Потом он забрался с журналом под мой зонт.
– Вы читали? Тут есть статья про Англию.
– Благодарю вас.
– Если хотите почитать газету или журнал, только скажите. У меня их целая куча.
Он ушел. Мне было неприятно, что я не испытываю к нему никакой симпатии, но я ничего не мог с собой поделать.
Обедать он сел в тех же голубых трусах и белой майке. Транзистор играл неаполитанские поп-песенки.
– Неаполитанская музыка, – сказал он. – Из Неаполя. Она вам нравится?
– Иногда.
– А у нас есть секрет, верно? – сказал он Маризе. Она хихикнула.
– Секрет? – переспросила мать девочки. На этот раз мне показалось, что ее улыбка была только данью вежливости.
– Да, секрет. Наш секрет. Наш с Маризой.
– Ай-ай!
– Она ела карамельки. Мариза ела.
– Он сам их мне дал! – воскликнула Мариза. – Синьор Кавадзути!
– Molto gentile, molto gentile![6]6
Очень любезно, очень любезно (итал.).
[Закрыть]
Я попросил его жену передать мне воду. Она ухватила кувшин за носик и угрюмо протянула его через стол.
– Acqua, – сказал Кавадзути, – А как "вода" по-английски? Извините! – Он наклонился и смахнул прилипшие к моей щеке песчинки. – Grande scrittore, Шекспир великий писатель. Ма piu grande Dante. Но Данте еще более велик!
– Дело вкуса, – сказал я. Его сын ухмылялся, как добродушный, веселый пес.
Прежде мне нравился флорентийский выговор, словно отзвук едкого юмора Санто-Спирито, Борго Сан-Фредьяно. Но теперь, слушая, как разговаривают эти трое, я чувствовал, что он начинает действовать мне на нервы – "к" с придыханием казалось ненужной вычурностью, оно было оскорблением для слуха, для итальянского языка.
После обеда Кавадзути взял свой транзистор, повернулся к сыну и сказал:
– Allora un ро’ di caccia. Поохотимся немножко.
Несколько минут спустя со двора донесся негромкий щелчок выстрела. Я поглядел на Ансельмо. Он пожал плечами с неловкой улыбкой.
Я вышел на заднее крыльцо. Там стояли Кавадзути и Франко. Кавадзути прижимал к плечу мелкокалиберную винтовку. Он целился в сизого голубя, который бесцельно бродил по двору. Кавадзути улыбался улыбкой напроказившего ребенка. Франко тоже улыбался – но без тени смущения.
Голубь подошел ближе – до него было теперь не больше семи шагов. Кавадзути нажал на спуск, взметнулось облачко пыли, и голубь взлетел, тяжело хлопая крыльями.
– Что за интерес? – сказал я. – Стрелять по голубям, да к тому же не влет.
– Но какой от этого вред? – сказал он. – Винтовка старая. Никого даже не поранит.
На землю опустились еще два голубя, и он опять выстрелил. Снова голуби взмыли вверх и улетели. Он протянул винтовку мне.
– Хотите пострелять?
Вечером после ужина они все трое отправились на автобусе в Портоферрайо.
– Может быть, и вы хотели бы… – сказал Кавадзути. – Вам будут очень рады. Наш английский друг.
Его громкий удаляющийся голос еще раздавался в вечернем мраке, когда Ансельмо встал из-за стола.
– Ну, коли они уехали, – сказал он, улыбнувшись мне своей деревенской улыбкой, – можно достать хорошее винцо.
Его жена посмотрела на меня и засмеялась – на этот раз заговорщицким смехом.
Ансельмо отпер дверцу массивного лакированного буфета и достал две бутылки местного красного вина.
– Что поделаешь, – сказал он, вытаскивая пробку. – Они приезжают. Они платят.
– Иногда, – сказала его жена, улыбаясь всеми серебристыми зубами.
– Это верно. Иногда.
Перемена в нашем настроении была полной и естественной, словно всех нас троих сплотило единое чувство – общая антипатия.
– А что он делает в ратуше? – спросил я.
– Выдает разрешения на собак! – сказала синьора, точно это было что-то нестерпимо смешное.
– Это правда, – сказал Ансельмо. – Разрешения на собак.
– Вы бы ни за что не догадались, верно? – пропыхтела синьора. – Ведь держится-то он, что твой мэр! – И она снова безудержно захохотала.
– Когда они приехали в первый раз, – сказал Ансельмо, – он мне сразу заявил: "Можете не беспокоиться. Я человек состоятельный. Я работаю в ратуше".
– Да! – воскликнула синьора, прижимая ладонь к мощной колышущейся груди. – А сам выдает разрешения на собак! Как-то вечером его жена проговорилась.
– А помнишь, что он сказал? – мрачно спросил Ансельмо. – Он сказал: "Чуть какие-нибудь неприятности, собака кого-нибудь покусает, они приходят ко мне, к Кавадзути. Они знают, что я все могу уладить".
– Ай-ай! – смеялась синьора, тряся головой, поблескивая серебристыми зубами.
– Но он как будто не замечает… – сказал я.
– Ну да! – Она улыбнулась. – Он не замечает. Он ничего не замечает.
– В прошлом году он перегнул палку, – сказал ее муж.
– А чего ты хочешь? – спросила она. – Так уж он устроен.
– Я хочу, чтобы люди вели себя честно, – сказал Ансельмо. – Я с ними по-хорошему, так хочу, чтоб и они со мной по-хорошему.
– Он мне все время твердит: "Я солидный человек", – сказала синьора.
– Какой там солидный, – сказал Ансельмо. – В прошлом году он перегнул палку. Я готов терпеть, но всему есть предел. И уж тогда – стоп! – Он поднял руку, словно регулировщик на перекрестке.
– А что он сделал в прошлом году?
– Привел приятеля, познакомил со мной. Муж и жена – они приехали, когда Кавадзути уезжал, и прожили месяц. Он сказал: "Не беспокойтесь. Я за него ручаюсь. Он мой друг. Он состоятельный человек, вроде меня. Non abbia paura. Не бойтесь". А тот уехал и не заплатил. Месяц прожил и не заплатил. Сказал, что вышлет деньги из Флоренции. Я ждал два месяца, потом написал ему. Он не ответил. Я еще раз написал. Он опять не ответил. Тогда я написал Кавадзути, и он тоже не ответил.
– И тем не менее приехал.
– Да-да, приехал, – сказала синьора, смеясь и этому.
– Он приехал, – сказал ее муж. – И я спросил его. Я сказал: "Этот ваш друг. Он так мне и не заплатил". И знаете, что он ответил? Он ответил: "А при чем тут я? Это не имеет ко мне никакого отношения". Да и сам-то он. Тоже должен еще с прошлого года. За неделю полного пансиона. Он говорит: "Я заплачу вам в этом году. Заплачу перед отъездом". С меня хватит. После этого года – стоп!
Но ничто не действовало на хорошее настроение Кавадзути. Оно было столь же неизменным, как его майка и трусы, как его транзистор. Он приехал отдыхать, а потому наслаждался жизнью и даже мысли не допускал, что кто-то не разделяет его удовольствия. Что могла деревенская щепетильность противопоставить такой городской целеустремленности? Кавадзути был стихийной силой, а крестьяне хорошо знают, что такое стихийные силы. С ними нельзя бороться прямо, старайся только избежать лишнего вреда. Иногда я замечал, как на лице Ансельмо в минуты расслабления появлялось выражение угрюмой злобы, но Кавадзути продолжал болтать и ничего не видел.
– Здесь жил Наполеон, – сказал он. – Здесь, на острове Эльба. Вы знали это?
– Да.
– Он был тут в изгнании, но бежал. От англичан. Можно посмотреть его дом – неподалеку от Портоферрайо. Bella casa[7]7
Красивый дом (итал.).
[Закрыть]. И великолепная спальня. – Он подмигнул. – Но без Жозефины. Э, синьора? Без Жозефины.
И синьора вежливо посмеялась.
Каждый вечер, если трое Кавадзути куда-нибудь уходили, Ансельмо доставал свое лучшее вино.
– Он уплатил? – спросил я.
– Нет. Он пока еще ничего мне не платил.
– Даже за этот год?
– Ничего.
– Ну и что вы будете делать?
Он пожал плечами. Даже синьора не засмеялась, хотя на следующий день она смеялась, когда после обеда вышла вслед за мной на крыльцо.
– Anche il figlio e scemo. Сын тоже глуп!
Сын вел собственное существование – красивый, добродушный, нетребовательный. Они с отцом как будто ладили: они были словно огорожены каждый в собственном мирке и только перекликались с веселым безразличием.
Они приехали на две недели. Прошло десять дней, а Кавадзути все еще ничего не заплатил. Ансельмо вовсе перестал говорить за столом, и теперь его молчание было проникнуто давящей враждебностью. Но голос Кавадзути звучал за столом по-прежнему, и музыка из его транзистора, и примирительный смех синьоры – "ай-ай!"
– Gente simpatica, mа contadini, – сказал мне Кавадзути на пляже. – Симпатичные люди, но крестьяне. У флорентийцев ум живее. В живости ума с флорентийцами никто не сравнится.
– Maledetti toscani, – сказал я. – Проклятые тосканцы.
– А, вы знаете это выражение! Просто нам завидуют.
По мере того как его отпуск приближался к концу, он начал упоминать об этом все чаще, и мне даже казалось – с каким-то злокозненным удовольствием.
– Я пришлю тебе открытку, Мариза. С видом Флоренции. В прошлом году я ведь прислал, верно? Я всегда держу свои обещания. Она у тебя цела? Вид на Понте-Веккьо.
И в другой раз:
– Значит, скоро мы скажем друг другу arrivederci до следующего года. До следующего, и до следующего, и до следующего. Прекрасный остров Эльба. Самый simpatica остров Италии. Уж наверное, в Англии нет таких островов, как Эльба.
Утром в день их отъезда я по дороге на пляж увидел Ансельмо. Он косил высокую траву на лугу над дорогой. Его руки двигались в неторопливом, размеренном ритме, в свист косы вплетался пронзительный стрекот кузнечиков. Заметив меня, он повернул свое круглое красное лицо и улыбнулся бесхитростной, почти беззащитной улыбкой.
– Значит, они сегодня уезжают, – сказал я.
– Meno male. Слава богу.
– Ну и как, расплатились?
Он снова пожал плечами.
– Посмотрим.
Кавадзути уже сидел на пляже.
– Ah, buon giorno, buon giorno[8]8
Добрый день, добрый день (итал.).
[Закрыть], – сказал он, приветственно протягивая мне худые руки. – Мы здороваемся в последний раз. После ужина мы уедем в Портоферрайо, чтобы успеть на первый утренний пароход. Возвращаемся во Флоренцию, самый красивый город на свете.
– Buon viaggio[9]9
Счастливого пути (итал.).
[Закрыть]
За обедом он был весело лиричен, за ужином – лихорадочно болтлив, Ансельмо и его жена, наоборот, хранили полное молчание. Один раз синьора поглядела на меня и покачала головой, но и в этой безучастности все-таки прятался отзвук смеха. А когда Кавадзути принялся настраивать свой транзистор, на меня посмотрел Ансельмо и тоже покачал головой, но медленно и угрюмо.
– Ну, – сказал Кавадзути, – все готово?