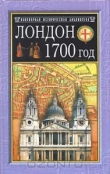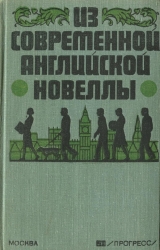
Текст книги "Из современной английской новеллы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
Фрэнсис Кинг
Их ночь
В те давние годы, еще задолго, задолго до войны, когда они с Сэнди купили этот коттедж, их улица была такая чудесная – одна из самых лучших улиц в Брайтоне! Напротив стояла гостиница «Челтенем-холл» – здание в стиле эпохи Регентства, с портиком и с разными викторианскими ухищрениями; люди там жили самые порядочные: мало кто из «длинноносой братии», как называл их Сэнди; на той же стороне в гору шел ряд больших домов с фронтальными выступами, а на углу у эспланады два прелестных коттеджа – тот, который купили они, и второй, где жил милейший полковник Аллен со своей больной женой, бедняжкой.
Тогда тут было тихо, жили почти как в деревне. Сэнди говорил, что их коттедж – единственное место, где он крепко спит по ночам. В поездках и даже в кенсингтонской квартире его постоянно мучила бессонница. Лежа последние полгода почти без сознания, он будто наверстывал сон, которого ему не хватало всю жизнь! Ну что ж, по крайней мере бедняжка не видел, что случилось с их улицей. И его и старика полковника по крайней мере уберегло от этого. А миссис Аллен – ту просто убило.
Вскоре после войны гостиница была продана, и ее обитатели, многие из которых обосновались там как дома и жили лет по двадцать и больше, все получили предупреждение о выезде. Ах! Это было так грустно, со многими они подружились, многие с таким сочувствием отнеслись к ней во время последней болезни Сэнди и после его смерти. Потом гостиница долгое время стояла пустая. Говорили, будто ее хотят заново перестроить, говорили, будто ее снесут, чтобы освободить место под строительство целого квартала жилых домов. Но тут дело почему-то застопорилось. Кто-то рассказывал, что это здание имеет "историческое значение" и что новые владельцы не могут добиться разрешения на его снос. А потом она прочитала в газете, что между многочисленными наследниками человека, который купил это здание и чуть ли не тут же умер, возникли осложнения судебного порядка. В таких вещах редко когда узнаешь, как это все на самом деле.
Оконные стекла одно за другим перебили, воры утащили красивую чугунную ограду и свинец с крыши и даже кусты из заросшего, как джунгли, сада. Потом в бывшей гостинице открылся клуб – первый. Назвали его "Времена Регентства", и он занимал подвальное помещение. В клубе этом было спокойно, тихо, и люди, которые его посещали – большей частью немолодые мужчины (женщины туда никогда не заглядывали), были по виду вполне респектабельные, были хорошо одеты и вели себя вполне прилично. Ей казалось, что это какой-нибудь клуб, где играют в бридж, но, когда она обмолвилась об этом мистеру Лоренсу – владельцу канцелярского магазина на углу, он как-то странно усмехнулся и сказал: "Ну, вряд ли".
Потом "Времена Регентства" то ли переехали в другое помещение, то ли закрылись, и вместо них открылся "Лотос". С этого-то все и началось. К нему подъезжали в любой час ночи, и соседи то и дело жаловались на безобразные скандалы, на оглушительную музыку, крикливые голоса и хохот. Следом за "Лотосом" открылся сначала "Погребок", потом "La Siesta", но завсегдатаи этих мест были совсем не то, что клиенты "Лотоса", а только зеленая молодежь. Потрескавшаяся облицовка обшарпанной гостиницы, когда-то такая нарядная, теперь была вся завешена объявлениями, которые рекламировали людей с прозвищами вроде Сверх Лорд Сякой или Полудикий. На машинах туда подъезжали редко, а все больше на мотороллерах или на мопедах. Столпотворение, которое начиналось там вечерами и по пятницам и субботам, переносить было просто немыслимо!
Большие дома продавали один за другим, а их владельцы перебирались в спокойные Хоув и Ротингдин. Ей бы тоже следовало так поступить, она, конечно, сглупила, но, когда решение наконец было принято, ее коттедж пошел бы буквально за гроши. Ведь за № 16, который Сэнди считал самым красивым зданием в Брайтоне, получили всего пять тысяч! И она решила, что надо во что бы то ни стало вытерпеть. В конце концов примут же какие-нибудь меры. Если не кто другой, так полиция возьмется за дело и наведет тут порядок.
Но годы шли. Великолепные дома превратились в далеко не великолепные квартиры и меблированные комнаты, где селилась весьма странная публика – ирландцы-рабочие и неряшливые женщины, которые среди дня показывались в окнах в одних халатах, жили там и цветные пары. Когда она брала такси на вокзале и давала свой адрес шоферам, те часто спрашивали: "В какой конец, в хороший или в плохой?" До чего же это было унизительно! А ведь раньше хорошим считался именно их конец, и они свысока смотрели на тех, кто жил в верхней части улицы в одноэтажных домиках с одной общей стеной между ними.
Теперь после наступления темноты стало страшно выходить на улицу, и страшно даже не столько за себя, сколько за Коко. Собаки породы чиуауа – комок нервов, и негодяи, наверно, прекрасно это знали. Мальчишки и даже распутные девицы, выходившие из подвала, куда они сползались точно крысы, шаркали ногами или топали по тротуару позади Коко, так что он в ужасе рвался на поводке чуть ли не до удушения. Если она останавливала их, они насмехались над ней или издавали непристойные звуки. Был еще ужасный случай, когда один из этой компании спросил ее… нет, лучше не надо, вспоминать тошно. Хотя он, конечно, просто так сказал.
Во всяком случае, это было еще не так отвратительно, как тогда с пьяным ирландцем. Рабочий-ирландец, такой красивый мужчина, споткнулся о поводок, потом и о самого Коко и пробормотал что-то невнятное. Но все-таки удержался на ногах и, покачиваясь, стал извиняться перед ней, как истый джентльмен. – Я его зашиб, бедняжку? Вы уж меня простите, сударыня. – А она подхватила повизгивающего Коко на руки, и ирландец протянул руку и стал поглаживать его по голове, – Ах ты, бедняга! Бедняга ты маленький! Зашиб я его?
– Да нет, ничего! Право, ничего! Он просто очень привередливый. Чуть что, и сладу с ним нет. Вы его не ушибли. Просто он струсил.
Ирландец все рассыпался в извинениях и таким голосом – да, да! – будто, того и гляди, заплачет. Но не стоять же ей было всю ночь с собакой на руках! И, заверив его в последний раз, что с Коко ничего плохого не случилось, она повернулась и пошла дальше. Вот тут-то он и начал кричать ей вслед. И такие слова – такие нелепые, без всякой причины, без всякого повода! Правда, он был пьяный, а может, даже и сумасшедший. Но что она такого сделала и что Коко сделал, чтобы заслужить ту грязь, которой он облил их!
Сколько раз компания этой наглой молодежи – мальчишки, девчонки – не разберешь, кто из них кто! – сталкивала ее с тротуара в канавку! Сколько раз из-за их пронзительных криков и хохота она просыпалась с мучительным сердцебиением, и Коко, дрожа, лез ей на руки. Многие из этих хулиганов были, конечно, иностранцы, и самые отъявленные среди них – французы. Им полагалось посещать курсы английского языка в городе, а они чуть ли не все время только и делали, что досаждали людям и крушили все, что можно, заставляя налогоплательщиков расплачиваться за это.
Да, хуже всего были французы, но скандинавы мало в чем им уступали.
Потом бедняжка миссис Аллен умерла, и ее прелестная племянница, врач, приехала распорядиться имуществом, оставшимся после покойницы. – Коттедж вы оставите за собой? – И та ответила: – Жить здесь? Да ни за что на свете! Продам его как можно скорее. – В общем-то она была безобидная, хотя всегда отличалась некоторой бестактностью. Но надо же вообразить, что тут найдутся покупатели!
Месяц за месяцем доска с объявлением о продаже так и стояла у коттеджа, а он, подобно зданию гостиницы, все ветшал и ветшал и становился совсем заброшенным, Если б бедный полковник увидел теперь свой сад, весь захламленный, с покосившейся изгородью, увидел бы, как туда забираются парочки и занимаются там бог знает чем почти на глазах у прохожих, это разбило бы его сердца. Он так гордился своим маленьким садиком. Она дала знать в полицию и агентам по продаже, что владение приходит в упадок, что туда проникают посторонние, но и в полиции, и в агентстве, видимо, отмахнулись от этого.
Потом наступило лето, и город заполнили толпы приезжих и все больше и больше этих ужасных иностранных студентов, которые только и знали, что гоготать, кричать друг другу какие-то несуразности и целоваться на улицах. Вот тогда-то и началось битье стекол. Она просыпалась от очередного звона и дребезга, и Коко поднимал лай. Когда это случилось в первый раз, она решила, что к ней кто-то лезет. Потом услышала взрыв хохота и топот убегающих ног.
В полиции пообещали установить там пост – двоих полисменов для наблюдения за улицей, агентство же долгое время спустя прислало стекольщика вставить стекло. Но полисменов часто на улице не было. Те хулиганы, а может, и не те, а другие, продолжали свои набеги. Несчастный дом! Теперь редко бывало, чтобы, проходя мимо него во время своих прогулок с Коко, она не видела хотя бы одного выбитого стекла.
Ей стало ясно, что заснуть в ожидании битья стекол нельзя. И ночи напролет она лежала без сна до самого рассвета и, услыхав сначала голоса и тут же следом этот ужасный звон, дребезг и взрывы хохота, подбегала к окну. И сразу же хваталась за телефон. Но когда патрульная машина подъезжала к коттеджу, эти бандиты успевали удрать. Как ей хотелось, чтобы их поймали у нее на глазах! Как ей хотелось, чтобы их избили, избили нещадно! А иностранцев посадили бы на баржу, на ту, что перевозит скот, и отправили прямиком домой! Всему виной, конечно, не только спиртные напитки. Нет! Это все стимуляторы и даже нечто худшее. Эти люди не отвечают за свои поступки, они потеряли всякое чувство элементарной порядочности.
И вот пришла их ночь – та ночь, которую они с Коко никогда не забудут. Ей послышались знакомые голоса – язык иностранный, кажется шведский, во всяком случае, один из скандинавских языков, но на этот раз говорили долго, и все громче и громче, и все свирепее, точно там, у коттеджа, ссорились. Она медленно поднялась с постели и, держа Коко на руках, подошла к окну – на цыпочках. Как будто ее могли услышать! Выглянула на улицу, чуть раздвинув занавески. Запомнить бы их лица, если они начнут крушить тут все, может, это помогло бы тем круглым дуракам из полиции. Коко лизнул ее, мягко ткнувшись в наспанное ухо своим влажным носом.
Их было человек семь – и боже! – что за компания! Одна, в юбке, с длинными патлами белесых волос, – эта стояла под самым фонарем, так что ее было хорошо видно. Может, там крутились еще какие-нибудь девчонки. Один мужчина был с остроконечной бородкой и с волосами, колечками свисающими до плеч. Смотреть на него было тошно.
Вдруг один из них кинулся на блондинку, которая стояла теперь, прислонившись к фонарному столбу, закрыв глаза, сложив руки под животом. Он рванул ее на себя, но она сразу высвободилась от него. Он опять схватил ее за кисть, и тут бородатый взмахнул рукой с растопыренными пальцами, сжал их в кулак и кулаком ткнул тому в лицо.
Вот тут началось что-то страшное! – Смотри, смотри, Коко! Нет, ты посмотри! – Всей кучей, мальчишки и девчонки, они мотались из стороны в сторону, крякали, время от времени гортанно вскрикивая, пронзительно визжа, топча заросшие клумбы (гордость бедного полковника), взметая ногами песок, спотыкаясь о ноги друг друга и снова вскакивая, и тогда охвативший ее было ужас сменило какое-то непостижимое возбуждение. В их драке было что-то зверское, страшное, и все-таки, когда чей-нибудь кулак, шмякнув, попадал в цель, она чувствовала такое удовлетворение! Хорошо, как хорошо! Пусть изничтожают друг друга!
Бородач, человек гигантского роста, обхватил своего противника поперек туловища, и оба они замотались из стороны в сторону, отбрасывая огромные тени на облупившийся фасад коттеджа. Коко тихонько заскулил и завозился у нее на руках. Но ты смотри, смотри! – сказала она ему и сама не сводила с этого побоища глаз, поблескивающих в свете уличного фонаря.
Бородач приподнял своего противника и с каким-то странным возгласом, не то крикнув, не то яростно взвыв, швырнул его к окну. На улицу посыпались осколки разбитого стекла, и, точно их кучу разбросало этим взрывом, все они, кроме осевшего на подоконнике, разбежались кто куда.
Мальчишка свалился с подоконника и с глухим стуком упал на дорожку. Он долго лежал там; ей были слышны его невнятные стоны. Потом на четвереньках, с огромным трудом выполз на улицу, то и дело замирая на ходу.
Когда он выбрался на тротуар, под фонарь, она увидела, что за ним тянется след. Как за слизняком, точь-в-точь как за настоящим слизняком! Он поднял голову, будто потянувшись к ней, но нельзя же было ее разглядеть, ведь она стояла за кружевной занавеской, держа на руках маленького Коко. Он опять застонал. Потом послышался какой-то странный клекот. Кто знает – может быть, позвал на помощь на своем языке? Лицо у него было почти черное от крови. Сейчас такого даже родная мать не узнала бы.
Медленно, дюйм за дюймом, он подтягивал свое тело, и след тянулся за ним. Вот подполз к ее двери. О господи! Не запачкал бы он ступеньки! Он лежал там минуту-другую, а потом поднял руки и стал слабо постукивать ими по дверной панели. Подтянулся повыше, стараясь достать звонок или дверной молоточек (такой хорошенький, в форме прелестного зайчика, молоточек, его купил Сэнди в Стейнинге, в той лавке, где продается всякая всячина), но после каждой очередной попытки с глухим стуком падал обратно на колени.
Она погладила Коко по голове, пропуская его шелковистые уши между пальцами, как он любил, потом прижалась лицом к собачьей мордочке. – Смотри, смотри, что он делает! Смотри, что он, дрянной, делает!
Мальчишке наконец удалось привалиться к дверному косяку и нажать пальцем кнопку звонка. Должно быть, он налег на него всей своей тяжестью; звонок звонил и звонил в темноте дома. Потом он крутнулся всем телом, протянул вперед обе руки, будто защищаясь от кого-то, рухнул на тротуар и замер там, уткнувшись головой в канаву.
– А теперь давай баиньки, – шепнула она Коко и сопроводила свои слова вздохом удовлетворения. Потом забралась под одеяло, обняла Коко, прижала его к себе и со смешком прошептала в его крохотное ушко: – А мы с тобой все время спали. Не забудь, лапочка! Мы с тобой все время спали.
Вот так и надо уходить
Как-то внезапно и совсем просто это пришло к нему: довольно, хватит с меня.
Потом, немного погодя он смог установить точно, когда именно это случилось: верхняя лампочка на кухне отторгла его от опустевшего мира, руки, скрюченные артритом, брезгливо вытаскивали молочно-белую, острую, точно копье, кость из рыбного пирога, который оставила ему миссис Крофорд, велев разогреть его к ужину. Он не почувствовал ни испуга, ни потрясения. Да, хватит с меня, повторил он, ссутулившись над столом в своем заштопанном джемпере, не слушая транзистора, который потрескивал рядом, сообщая очередную сводку последних известий. И опять ткнул вилкой в начинку. Довольно, хватит с меня, надо что-то предпринять по этому поводу.
Череда всяческих событий, и важных и пустяковых, могучим, извилистым потоком поднесла его к такому решению и на том и бросила. В свое время он ушел в отставку, и они с женой и со своей уже не первой молодости незамужней дочерью перебрались из большого дома в Патни в эту небольшую подвальную квартиру неподалеку. Жена его умерла внезапно, так же некстати, как она, бывало, вмешивалась в разговоры, перебивала телевизионную или радиопередачу очередным своим вопросом или просьбой. Года два спустя незамужняя дочь, служившая в медицинской библиотеке, объявила, что она уезжает из дому и будет жить со своей свирепой приятельницей-гинекологичкой в сыром коттедже в Нью-Форесте. Он так и остался в подвальной квартире вдвоем с сиамской кошкой. Изредка его навещала дочь, еще того реже сын с женой и с детьми и ежедневно – деловитая, бесцеремонная миссис Крофорд, которая обслуживала стольких вдовцов и холостяков, что у нее не хватало времени ни на разговоры, ни даже на чашечку чая или кофе.
Кошка была старая, мордочка у нее посеребрилась, движения стали осторожные, медлительные. Она уже не могла вспрыгивать на высокую металлическую кровать и становилась рядом, подняв кверху хвост, скрипуче мяукая, точно кто-то водил мелом по грифельной доске, стояла до тех пор, пока он, потеряв терпение, не бросал отгадывать кроссворд в "Таймс", над которым засыпал каждую ночь, нагибался и не брал ее к себе. От кошки пахло теперь затхлостью, как от одежды, долго провисевшей в нежилой комнате, нити слюны из приоткрытого, почти беззубого рта пачкали пуховое одеяло, иногда попадали даже на простыню. – Эх ты, неряха! – бранил он ее вслух, вытирая мокрое пятно носовым платком, но у него было странное чувство родства между своим дряхлеющим телом, своими немощами, скованностью движений и необходимостью облегчаться два-три раза за одну короткую ночь и дряхлеющим телом зверька, прикорнувшего рядом с ним.
Однажды ночью она не подошла к его кровати, и, наконец хватившись ее, он, тощий, хилый, вылез из тепла своего широкого ложа, прошел чертыхаясь в кухню и в гостиную и нигде ее не нашел. Кошачья еда стояла на полу нетронутая, кусочки печенки, мелко настриженные ножницами, подсохшие, скореженные, лежали на тарелке, точно вялые лепестки какого-то багряного цветка. Кухонное окно, которое смотрело на жалкий дворик, входивший в его владения, было открыто, наверно, он забыл закрыть его, как это часто с ним случалось, и тогда миссис Крофорд говорила ему: – Залезут к вам когда-нибудь, – а иногда добавляла: – Хороши вы тогда будете! – Но теперь кошка редко отваживалась выходить из дому даже вот в такую теплую летнюю погоду.
– Ах, чтоб тебя! – бормотал он, поворачивая ключ в замке, открывая дверь во двор, и стал, поджимая узкие босые ступни, на первую каменную ступеньку. Он позвал ее, свистнул, потом отважился подняться на вторую, снова позвал. Его глаза постепенно привыкали к предгрозовой темноте и наконец разглядели в густой тени под разлапистой бузиной две крошечные, напряженно поблескивающие светлые точки. Он снова позвал ее, но она не двинулась с места. Он шагнул к ней, попав голой пяткой во что-то противно мокрое, липкое, и остановился. Ветка бузины царапнула его по щеке. – Вот глупая кошка! – Когда он поднял ее, она прерывисто пискнула. Она была очень легкая, почти невесомая. Он понес ее в комнаты, прижимая одной рукой к груди, другой стараясь закрыть кухонное окно и дверь, и положил на привычное ей место поверх той половины одеяла, под которой раньше всегда лежала съежившись и похрапывала его жена. Потом нагнулся, выключил лампочку у кровати и тронул кошку, пропуская ее ушко между указательным и средним пальцем. Чего-то ему не хватало; несколько минут он лежал в темноте, держа пальцами кошачье ухо, похожее на сухой листик, и наконец понял, в чем дело. Кошка не мурлыкала.
Когда он проснулся наутро, с обычной дурнотой оторвал голову от подушки, с обычной ломотой в костях поднялся с постели, кошки опять рядом с ним не было. В халате и на сей раз в шлепанцах он пошел искать ее, как искал ночью, и снова нашел во дворе под разлапистой бузиной. Бледно-голубые кошачьи глаза, устремленные куда-то поверх его плеча, были теперь как два мутных опала. С подбородка тянулась нитка слюны. Он перенес ее на кухню и налил ей сливок из почти пустого пакета. Но она так и осталась сидеть там, где он ее посадил, безучастно повесив голову. И, готовясь прожить наступивший день, он не заметил, как она ускользнула во двор и села на свое прежнее место под бузиной.
Где-то в квартире была плетеная кошачья корзинка, и он наконец-то извлек ее, забитую густым слоем пыли, из-под кровати в той комнате, которая когда-то принадлежала его дочери, а теперь все больше пустовала. Раньше кошка сопротивлялась, когда ее сажали в эту корзинку, но теперь, вялая и как-то странно невесомая, она позволила ему взять и запихать ее туда.
Ветеринарша, пожилая женщина, сама как голодная бродячая кошка, быстро прощупала бока животного своими длинными, костлявыми пальцами, и по столу тут же расползлась отдающая разложением и смертью оранжевая жидкость. – Опухоль, – лаконично бросила она. Потом: – Почки задеты. – Ее помощница – молоденькая девица с красным, как надраенным лицом и с грубыми руками – подтерла лужицу, будто это был всего-навсего пролитый чай.
Во время смертельной инъекции кошка лежала у него на коленях. Он чувствовал ее тепло, и что-то протекло ему сквозь брюки, но его это не покоробило. Точно так же он держал и свою жену в минуту ее смерти.
Он вышел из лечебницы с таким ощущением, будто ему что-то безболезненно ампутировали и его как бы перекосило на один бок и движения стали неловкие. Появилось чувство пустоты, и, хотя, занимаясь своими домашними делами, отправляясь за покупками, готовя обед, стоя над раковиной, он забывал о чувстве пустоты, это было ненадолго. Его приезжал навестить сын со своей словоохотливой женой, но чувство пустоты не исчезало. Он сыграл в шахматы с прикованным к постели стариком со второго этажа, и в паузы между ходами – старик был медлительный – пустота по-прежнему напоминала о себе.
Но однажды в том месте, где была пустота, внезапно появилась страшная боль, точно туда влили расплавленный свинец и он застыл там невыносимым грузом. Он лежал на кровати и стонал, и по щекам у него текли струйки холодного пота. Боль вернулась, и теперь, во второй раз, было так, точно электрический волосок накала, проложенный у него вдоль левой руки, вдруг вспыхнул огнем.
Прошло несколько дней, и он пошел на прием к тому нетерпеливому молодому человеку с патлами белесых волос до воротника, который сменил его бывшего врача, терпеливого старика, эмигранта из гитлеровской Германии. Молодой человек сказал ему, что у него грудная жаба, но это не страшно, и, если он будет следить за собой, ему еще жить да жить, и до семидесяти доживет. Молодой человек только одного не удосужился заметить – хотя история болезни лежала перед ним, – что его пациенту уже семьдесят один год.
Вот почему он пришел к своему решению: довольно, хватит с меня. Пришел спокойно, просто, не взволновавшись, не почувствовав испуга. Он сходил к своему адвокату и составил новое завещание, решив оставить поменьше денег сыну и дочери, что им вряд ли должно было понравиться, и побольше Королевскому обществу защиты животных от жестокого обращения. Он стал наводить порядок в квартире, откладывая в сторону то, что никому не понадобится, и уничтожая копии налоговых квитанций за многие годы (он всю жизнь проработал старшим бухгалтером), оплаченные счета, фотографии, письма. Он разложил костер во дворе и побросал в него все эти обломки прошлого, когда-то так важные для него, теперь же такие ничтожные, стоял и смотрел, как фотографии темнеют и загибаются по краям (да, это он сам в нелепейшем купальном костюме с юбочкой до колен, а вот это его дочь в школьной спортивной куртке, в соломенной шляпке), как налоговые квитанции вспыхивают и тлеют пунцовым цветом, как письма (полученные им в окопах от медицинской сестры, на которой он впоследствии женился) превращаются в серый пепел. В то летнее утро дул ветер, и все сгорело быстро.
У него уже были припасены таблетки, прописанные не ему (он никогда не страдал бессонницей), а жене. Вот кончится череда этих ярких, погожих летних дней, покинет его чувство радости от того, что ему удалось внести порядок в беспорядочность прожитой жизни, и тогда он эти таблетки проглотит.
У него вошло в привычку ходить перед ужином на небольшую прогулку по бечевнику вдоль реки. Вернувшись со службы, он, бывало, гулял там с женой и с детьми; потом, позднее, гулял с дочерью и собакой – дворняжкой, которую дочь увезла с собой в Нью-Форест, где она вскоре и погибла – по иронии судьбы на загородной дороге под машиной с компанией подвыпивших туристов. Теперь он, такой моложавый на вид, шел вдоль реки решительной, бодрой походкой, хотя тот нетерпеливый молодой врач и предупреждал, что ему нельзя переутомляться, нельзя спешить.
В тот вечер, уже на закате, река была особенно хороша; она разворачивалась не спеша, точно громадная, поблескивающая на солнце змея. Несколько мальчишек в закатанных до колен штанах ходили по воде, выгребая что-то со дна. Руки у них были грязные, все в тине, даже щеки измазаны. Позади них скользнула восьмерка, рулевой покрикивал фальцетом: – Весла!.. Весла! – Мимо пронеслась собака, слюни вожжой, в зубах нечто ужасное, нечто вроде разложившейся требухи. Грусть прощания охватила его, когда он ступил в тень, падавшую от четырех буков, и снова вышел на солнечный свет, где по ту сторону покосившейся ограды по зеленому ковру крикетной площадки не спеша двигались плоские белые фигуры. Его сын когда-то играл там, пока не женился, не раздобрел и стал персоной состоятельной и важной.
Он шел дальше все таким же бодрым шагом, хотя и ощущал неприятное, но теперь уже привычное чувство сжатия в груди, которое вынуждало его время от времени останавливаться и переводить дыхание. Солнце тепло светило ему в лицо; ветерок тепло ерошил волосы.
Он миновал четыре дома без оград, убранных во время войны и так и не поставленных больше, с заросшими лужайками перед входными дверьми, которые из-за речных разливов были приподняты на несколько футов выше уровня бечевника. В одном из этих домов когда-то жила проститутка, пока возмущенным соседям не удалось выжить ее. Такими вот вечерами, как этот, она эдакой неподвижной глыбой сидела на лужайке в полосатом, красно-синем, шезлонге, в обтягивающем ее ситцевом платье, физиономия в обрамлении пчелиного роя оранжевых волос, размалеванная, как у клоуна. Он улыбнулся при этом воспоминании. Его жена присоединялась ко всеобщему негодованию – ведь это ужасно, когда дети видят, что делается у них под самым носом! Но если дети и поглядывали на эту огромную, застывшую в неподвижности женщину, которая поджидала своих клиентов на исходе таких вот летних вечеров, то лишь мимолетно. Она их совершенно не интересовала.
И вдруг он услышал мяуканье своей кошки, остановился под буковым деревом, поменьше тех четырех, и у него захватило дыхание при одной только мысли: "Что это – галлюцинация?" Он посмотрел вверх, и оттуда, с высокой ветки, она глядела на него, и взгляд ее прозрачно-голубых глаз казался совершенно спокойным, хотя мяуканье, раз за разом повторявшееся на тех же двух нотах, все настойчивее говорило о том, что ей страшно.
И тут из-за дерева, с плешивой лужайки, где раньше, развалившись в шезлонге, сиживала проститутка, послышался голос:
– Просто не знаю, как мне снять ее оттуда! Наверно, придется вызвать пожарных, но ведь за это, кажется, надо платить?
– Так это… это ваша кошка? – Потому что он все еще думал, что кошка его.
– Да. Вот глупышка! Забирается туда за птицами, а слезть не может. Раньше ее оттуда доставал мой муж, а недавно мне пришлось нанять мальчишку, чтобы он за ней слазил.
Это была женщина средних лет с прямыми белокурыми волосами, с округлым, румяным лицом, широкая в бедрах, икры толстые, как у русской крестьянки. Зубы у нее были белые, крупные, и, когда она улыбнулась, он заметил, что один, тот что в уголке рота, со щербинкой.
– Вашего мужа нет дома?
– Да что вы! – Она громко, звонко рассмеялась, будто он сказал что-то очень забавное. – Мой муженек уже несколько месяцев как удрал от меня.
Кошка продолжала свое жалобное мяуканье, и теперь оба они, подняв голову, всматривались в переплетение ветвей. Наконец он сказал:
– Может, мне ее снять?
– Вам?! – Потом, спохватившись, как бы ее недоверие не обидело его, она поторопилась добавить: – Нет, у вас такой хороший костюм. Вы еще испачкаетесь.
А на нем были старые серые фланелевые брюки, которые так сели, что не доходили до полотняных туфель, рубашка с открытым воротом и заштопанный свитер.
– Я все-таки попробую.
– Может, не стоит?
Он взялся за ветку и, подтянувшись вверх, услышал, как у нее вырвался испуганный возглас: – Ой! Только осторожнее! – А это было так легко, сущие пустяки. Он не чувствовал ни малейшей одышки, ни малейшего затруднения. Он стал подниматься выше, безошибочно нащупывая ногами опору за опорой. Один только раз посмотрел вниз и сквозь листву, мельтешащую в вечернем свете, увидел ее округлое, поднятое к нему лицо и прищуренные глаза. И вдруг ему стало так приятно! Это лицо было прекрасно – лицо, пышущее здоровьем, доброе, прекрасное, оно виднелось сквозь трепетание зелени. И у меня совсем не кружится голова. Ничуть не кружится.
– Смотрите, как бы не оцарапала, – крикнула женщина. – Осторожнее!
Но когда он протянул руку, уговаривая кошку: – Кис, кис! Ну, будь умницей, иди ко мне. Кис, кис! – она с перепугу все же оцарапала его. Он и не заметил, как эти когти, жестокие, острые, прошлись ему сбоку по шее.
Но лишь только он прижал ее к себе, она сразу же замурлыкала. Он стал медленно спускаться, на минуту останавливаясь, чтобы поглядеть вниз то на освещенное солнцем запрокинутое лицо, то вдаль, за бечевник, на лениво извивающееся змеей русло реки.
– Дайте я ее возьму. – Женщина протянула руку, и он заметил, что ладонь у нее загрубевшая, шероховатая. Ему представилось, как она чистит картошку, моет полы, копается в саду. Он передал ей совершенно обмякшую кошку, и она прижала ее к своей полной груди, точно кормящая мать.
– Какой вы молодец! Я вам так благодарна! – начала было она. Но когда он спрыгнул с нижней ветки и стал вытирать руки носовым платком, вынутым из брючного кармана… – Ой! Смотрите, что она наделала! Оцарапала вам шею! Вот бессовестная!
Тронув длинную царапину, испачкав в крови кончики пальцев и прижав к ранке уже нечистый платок, он сказал, что это пустяки, сущие пустяки. Но она сказала, что никакие это не пустяки, что так можно внести инфекцию и что она сейчас промоет ему ранку и прижжет ее йодом.
И вот почему он вошел в этот ветхий, неприбранный дом, совершенно непохожий на его комнаты, только что оставленные в таком порядке; вот почему он сидел на крышке сломанного унитаза, пока она промывала ему рану и потом, предупредив его: – Сейчас будет больно, – приложила к ней смоченную йодом ватку; вот почему, когда восьмерка уже шла в обратный путь вверх по реке, они пили из стаканов тепловатый, чересчур сладкий херес, сидя на вытоптанной плешинами лужайке.
– Странно, что я никогда вас раньше не видел, – сказал он. – А гуляю я здесь почти каждый вечер.
– А я часто вас видела.
– Когда-то, много лет назад… – Он осекся, не договорив про монументальную проститутку, восседавшую вот на этой же самой лужайке, на которой сидели сейчас они.