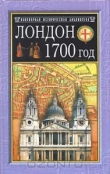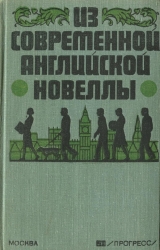
Текст книги "Из современной английской новеллы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Его жена поглядела на него стеклянным взглядом и кивнула.
– Tutto pronto[10]10
Все готово (итал.).
[Закрыть], – сказал сын.
– В десять придет машина, – сказал Кавадзути. – В половине одиннадцатого мы сядем в автобус и – arrivederci, Elba.
Синьора засмеялась, Ансельмо отчужденно и мрачно молчал.
– Ваше общество было мне очень приятно, благодарю вас, – сказал Кавадзути мне, – Я был очень рад познакомиться с англичанином. Шекспир и Данте!
Я в свою очередь поблагодарил его.
Он налил себе еще вина и начал потчевать нас одним многословным тостом за другим. В первый раз Ансельмо выпил, но потом только слегка наклонял стакан и сразу ставил его на стол. Его уныние возрастало прямо пропорционально веселому возбуждению Кавадзути. Раза два синьора поглядывала на мужа, а потом даже потрогала за плечо и что-то спросила шепотом, но он ничего не ответил.
Наконец Кавадзути поглядел на часы.
– Уже десять! – сказал он. – Сейчас придет машина. – Он встал из-за стола.
Ансельмо тоже встал и нагнал его у двери.
– Momento, eh?[11]11
Можно вас на минутку? (итал.).
[Закрыть] Мне надо с вами поговорить.
Я услышал, как закрылась дверь – по-видимому, дверь спальни, затем заговорил Кавадзути, повысив голос, что-то доказывая, перебивая робкое бормотание Ансельмо.
Мы все молча смотрели на дверь. Франко уперся ладонями в стол, точно готовясь броситься на помощь отцу. Глаза у него испуганно расширились. Даже его мать вдруг ненадолго словно очнулась, широкое смуглое лицо синьоры Ансельмо было настороженным, но непроницаемым, однако уже то, что она перестала смеяться, указывало на внутреннюю тревогу.
Кавадзути повысил голос настолько, что можно было разобрать слова:
– Это неправда. Я солидный человек! Если вы мне не доверяете…
Ансельмо что-то негромко пробормотал.
– В таком случае мы больше не приедем. Ноги нашей здесь больше не будет. Вы меня оскорбляете!
Дверь спальни со стуком распахнулась, в столовую вбежал Кавадзути. Ансельмо шел за ним и глухо говорил:
– Вы бы меня выслушали…
– Ничего не желаю слушать! – закричал Кавадзути и обернулся к нам, точно к присяжным. – Он оскорбил меня! Назвал мошенником! Я мог бы привлечь его за это к суду! Я всегда плачу то, что я должен! Спросите кого угодно. Любого человека во Флоренции.
– Ну так заплатите, – сказала синьора улыбаясь. – Вы нам должны, вы нам заплатите, и все довольны.
– В чем дело? В чем дело? – спросил Франко, а его мать открыла рот, точно сонная рыба, и произнесла:
– Calma, calma![12]12
Спокойно, спокойно (итал.).
[Закрыть]
– Ма niente calma![13]13
Да никаких «спокойно»! (итал.).
[Закрыть] – крикнул Кавадзути. – Как можно стерпеть, когда тебя оскорбляют! Разве я не платил вам каждый год? Ну да, ну да – в прошлом году, всего за неделю. Если бы у вас был счет в банке, я бы прислал вам чек.
– Va bene[14]14
Прекрасно (итал.).
[Закрыть], – сказала синьора, – но продукты стоят денег. Мы люди небогатые, а лавочник не будет ждать год.
– Не говорите со мной, как с идиотом! Конечно, продукты стоят денег! – Он ухватил меня за плечо. – Пусть скажет синьор, он англичанин. А англичане – справедливые люди. Я una persona seria[15]15
Солидный человек (итал.).
[Закрыть] или нет?
– Вы всегда так говорили.
– Ну вот! А он – англичанин. Разве я виноват, что мой друг не заплатил? Я убеждал его, настаивал. Я всегда считал, что он такой же честный человек, как я сам.
– Allora, – сказал Ансельмо, – paga о non paga? Вы заплатите или нет? – Жена положила широкую загорелую руку ему на локоть, словно удерживая. Тут я увидел, что руки у него сжаты в кулаки, а уголок рта подергивается.
– Заплачу ли я? – сказал Кавадзути. – Конечно, заплачу. Раз вы мне не доверяете, я заплачу сейчас же. Я заставлю вас устыдиться.
– Calma, calma, – сказала его жена.
– Macche calma![16]16
Какое там спокойно! (итал.).
[Закрыть] Мы сюда больше ни ногой! Гнусная лачуга! Никаких удобств! Рыбные консервы изо дня в день! Я заплачу вам, и больше вы нас не увидите! Сколько? Сколько с нас причитается?
Ансельмо не ответил. Его лицо исказилось от напряжения, которое, казалось, вот-вот должно было привести к взрыву, но тут его жена невозмутимо ответила:
– Пятьдесят четыре тысячи лир. А с прошлым годом – семьдесят две тысячи.
– Va bene, va bene, – сказал Кавадзути и, сунув руки в карманы, швырнул на стол деньги: огромные, неудобные зеленые и коричневые банкноты по пять и десять тысяч лир, серые бумажки поменьше, достоинством в тысячу.
– Тут больше, – сказала синьора и отдала ему серый банкнот. Остальные деньги она собрала в аккуратную пачку и положила ее перед собой.
– Andiamo![17]17
Идемте! (итал.).
[Закрыть] – крикнул Кавадзути. – Мы подождем машину снаружи! – Он решительно зашагал к двери, но вдруг повернулся и пошел назад, чтобы пожать мне руку. – Мне очень жаль, что вам пришлось присутствовать при такой неприятной сцене, но вы ведь понимаете. Quando с’e in mezzo gente maleducata, когда люди плохо воспитаны…
Жена и сын неуклюже и смущенно вышли вслед за ним, молча притворив дверь. Потом мы услышали их голоса в спальне.
Ансельмо все еще неподвижно стоял у стола. Казалось, по его телу, словно электрический ток, пробегают волны бешенства.
– Insomma[18]18
Ну вот (итал.).
[Закрыть] – сказала его жена и засмеялась. – Деньги мы получили, и они уезжают. И больше не вернутся. Он сам сказал!
– Если он вернется… – пробормотал Ансельмо. – Если он вернется…
– Я достану вино, – сказала она и тяжело поднялась со стула, но тут раздался стук дверного молотка.
– Входите! – крикнула она. – Не заперто!
В комнату вошел длинноногий, черный от загара мальчишка.
– Машина сломалась, – объявил он. – Отец говорит, что меньше чем за два часа ее не починить.
Ансельмо хлопнул рукой по бедру.
– Я пойду предупрежу их, – сказала его жена и неторопливо вышла за дверь.
– Два часа… – сказал Ансельмо.
– Отец очень извиняется, – сказал мальчик и ушел.
– Два часа, – повторил Ансельмо. Он сел, уныло сгорбившись. – Но тут они ночевать не будут. Пусть едут на машине прямо в Портоферрайо. Basta. Gente vigliacca[19]19
Хватит. Подлецы (итал.).
[Закрыть].
– Они уедут, – сказал я, стараясь успокоить его. – Два часа – это пустяки.
– Ма[20]20
Все-таки (итал.).
[Закрыть].
Вернулась его жена. Она смеялась.
– Вы только подумайте! Они хотели остаться на ночь! Но я сказала: нет, никак нельзя. Машину пусть подождут, и все. Теперь он говорит, что заплатит только за дорогу до деревни. Ай-ай! – Она достала бутылку, откупорила ее ловким, сильным движением и разлила вино в три стакана. Но Ансельмо не стал пить.
– Выпей же! – сказала синьора. – Они уезжают.
Но он покачал головой, а потом сказал:
– Когда они уедут, я буду счастлив. Только когда они уедут.
Лишь через двадцать минут он наконец поднял голову, посмотрел вокруг, точно человек, очнувшийся от тяжелого сна, и взял свой стакан.
Десять минут спустя дверь спальни открылась, в коридоре послышались бодрые шаги, и, когда Ансельмо резко обернулся, на пороге возник Кавадзути.
– Извините, – сказал он. – Моя жена не очень хорошо себя чувствует. Все это ее очень расстроило. Она выпила бы воды.
– Certo, certo, – сказала синьора и, тяжело переваливаясь, снова вышла из комнаты.
– Вы очень любезны, – сказал Кавадзути. Он казался притихшим и говорил нерешительно, вполголоса. Тем не менее он остался. – Значит, все в порядке, – сказал он Ансельмо и указал худой рукой на пачку банкнотов. – За прошлый год и за этот год.
– Да, – сказал Ансельмо.
– Машина сломалась, – сказал Кавадзути. – Он сейчас ее чинит. Нам придется ехать прямо в Портоферрайо.
Ансельмо кивнул.
– Я считаю, – добавил Кавадзути, – что он нарушил свои обязательства. Он знал, что мне надо успеть на автобус. И он должен отвезти меня в Портоферрайо за те же деньги. Просто обязан.
Ансельмо ничего не ответил, но Кавадзути все говорил, и к нему прямо на глазах возвращалась обычная самоуверенность, возраставшая по мере того, как он убеждался, что может продолжать, ничего не опасаясь.
– А когда я вернусь домой, – сказал он, – я займусь этим делом. Я поговорю с ним. Заставлю его заплатить вам.
Я перехватил его взгляд и покачал головой, но он не понял и опять повернулся к Ансельмо.
– Я считаю, – сказал он, – что это какое-то недоразумение.
Я потрогал его за плечо:
– Лучше не стоит.
– Ведь он честный человек, – сказал Кавадзути, – только рассеянный.
– Неужели вы не видите? – перебил я, – Он не хочет разговаривать.
Кавадзути умолк, снова поглядел на меня с недоумением, потом посмотрел на Ансельмо, как будто увидев его только сейчас.
– Он утомлен, – шепнул он мне и вышел из комнаты.
– Grazie,[21]21
Спасибо (итал.).
[Закрыть] – устало сказал Ансельмо и поглядел на меня, как благодарный пес.
Вернулась его жена, и я решил, что им лучше остаться одним. Деваться мне было некуда, и я вышел на улицу.
Ночь была темной. Вокруг смыкался холодный мрак. Я медленно пошел к морю и по дощатым мосткам спустился на пляж. Зонтики были сложены, шезлонги убраны. Я слышал шуршанье песка у меня под ногами и шипение отбегающих волн. Вдруг я подумал, что мои хозяева, наверное, сами никогда не купаются. Почему-то я был в этом уверен. Они были родителями русалки, но море для них не существовало.
Я поднялся по крутому склону на мыс и поглядел оттуда на "Альберго дель Гольфо", сокрушающий ночь и тишину своими огнями, судорожной музыкой своего оркестра. Когда я подходил к дому, машина уже подъехала, и до меня донесся голос Кавадзути:
– Arrivederci! Arrivederci до будущего года!
И вниз по склону прокатился смех синьоры – "ай-ай!".
Пенелопа Джиллиат
Завидные судьбы
Епископ Херлингемский, девяноста двух лет от роду, радикал, вдовец, хоть и приводился троюродным братом королеве Виктории, никогда не помыслил бы добиваться монаршего расположения, тем более что был предостаточно занят мыслями о книгах, голубях, политике, а сейчас еще и тревогой в связи с добровольной голодовкой его красавца скакуна, победителя Дерби. По ночам же, когда он, ненадолго забываясь сном, лежал в библиотеке, которая служила ему и спальней, – вдобавок мыслями о Всемогущем, о своей покойной жене, о благодетельном влиянии молодежи, а также о своем высокородном родителе, который, как он подозревал, был глуп куда безнадежней, чем то запечатлела история.
В этот вечер, восседая во главе дубового стола, который исстари передавался от отца к сыну в его прославленной фамилии, этот и вовсе прославленный бунтарь пытался с первозданным увлечением занять общим разговором трех своих сотрапезников. На другом конце стола сидела его младшая сестра Бидди, ей было восемьдесят шесть лет. Незадолго до первой мировой войны епископ вкупе с Бидди и собственной женой приковал себя к перилам парламента, за что и был посажен вместе с обеими суфражистками в тюрьму, где из солидарности с ними объявил голодовку.
Слева сидел местный врач по уху-горлу-носу, доктор Спенсер, который много лет пытался залучить епископа к себе, чтобы лечить от глухоты.
– Приходите во вторник, а после составим партию в бридж, – громогласно обратился к епископу доктор Спенсер. – И вообще, нам надо заняться вашим слухом. Я хочу попробовать полечить вас одним методом, который, правда, почти перестали применять между первой и второй мировыми войнами, но лучшего никто пока еще не придумал.
– Вот как! – сказал епископ, глядя на другой конец стола и огорчаясь, что там нет его жены. – И что же вы применяете?
– Медные проволочки.
– Простите, не расслышал?
– Медные проволочки.
– A-а, я думал, что ослышался.
– Их пропускают через нос и выводят из ушей. Тонкие, как усики бабочки.
– Как-как? Насчет бабочек? Остальное я понял.
– Ничего страшного, – сказал доктор Спенсер.
Риджуэй, молодая американка, сидящая по правую руку епископа, поежилась.
– Скажите пожалуйста, – сказал епископ. Учтиво склонясь к доктору Спенсеру, он подтолкнул новенький хромированный столик на колесах, уставленный тарелками бульона, к Риджуэй, хорошенькой длинноволосой мятежнице, с которой он на Трафальгарской площади участвовал в сидячей демонстрации в защиту Родезии.
– Хорошо, что вы выступили в защиту Южной Родезии, – сказал епископ. – Вы ведь не отвечаете за грехи нашего правительства.
– А вы – тем более, – сказала Риджуэй.
– Да, но все же трудно отрешиться от того, в какой стране ты живешь, – сказал епископ. – Я, например, не сразу решился публично выступить против войны во Вьетнаме. Считал, что надо сначала наводить порядок в своем доме. А для этого от англичан требуется больше расторопности, когда речь идет о протестах.
Бидди сказала:
– Помню, твоя жена раз заметила, что общество, которое запрещает простым смертным вмешиваться в его дела, идет к упадку, каким бы изобилием благ ни пользовались в это время его граждане. Эта мысль врезалась мне в память. Она это сказала, когда мы приковали себя к перилам Даунинг-стрит.
– Такое лечение ему действительно поможет? – обратилась Риджуэй к доктору Спенсеру.
– Бидди, милая, медные проволочки, верно, напомнили тебе времена, когда тебя кормили насильно, – сказал епископ. Он также в 1912 году подвергался принудительному кормлению и был одним из немногих, кто не убоялся стать мишенью насмешек других представителей сильного пола в клубах и в парламенте. – Что за варварство. И вдобавок, тюремные врачи даже не считали нужным снять шляпу в присутствии женщин. Иных суфражисток это сердило не меньше, чем сама прискорбная процедура, хоть я-то лично склонен считать, что в таких условиях несколько неумно настаивать, чтоб соблюдалась вежливость. Больше того, по-моему, пытаться совместить политические требования с соблюдением политеса – значит угождать и нашим, и вашим, хоть я и признаю, что всякий человек имеет право на чудачества. В американцах мне, помимо прочего, нравится то, что если уж они ринутся в бой за вопросы нравственного порядка, то не остановятся ни перед чем безнравственным. Должен признаться, что я временами готов прийти в отчаяние, думая о нас всех.
Епископ повернулся к Риджуэй и выразил восхищение тем, как она ловко управляется с супом, ни разу не угодив в него распущенными волосами. Разговор иссяк. Спас положение, как всегда, опять-таки епископ.
– Что ж, двинемся дальше. Будьте добры, подтолкните столик к моей сестре, – обратился он к Риджуэй, когда столик опять оказался рядом с нею. – Только осторожней, пожалуйста, чтобы не расплескалось, там бульон.
– У моей золовки был в свое время очень милый повар, и один раз он спросил, какой варить бульон – погуще или пожиже, – прокричала Бидди.
– Милая, не стоит так надрываться ради меня, – сказал епископ; сам он говорил тихо. – Вас не коробит от того, что мы пользуемся этим столиком? – спросил он Риджуэй. – Это чтобы нашему дворецкому, он же мой камердинер, не приходилось обносить обедающих. Я говорю про Рена. На войне он был серьезно ранен шрапнелью в ногу, и не все осколки удалось извлечь. В политике он, как и все мы, придерживается левых взглядов. Он сказал мне вчера, что нашел с вами общий язык. Оказывается, до вас он никого не знал из Америки, если не считать кардинала из Нью-Йорка – нам пришлось принимать его, когда еще была жива моя жена. Мы с кардиналом сошлись во всем, кроме пресловутого вопроса о сходстве христианства с капитализмом. Боюсь, что этот вопрос несколько отвратил меня от церковной догмы, но, надеюсь, не отучил размышлять. Ибо если способность мыслить когда-то и вызывала у меня разочарование, то как раз в связи с этим вопросом.
– А не в связи с таким вопросом, как старость? – спросил доктор Спенсер.
– Ха, старость не такая уж беда. Возвращаясь к теме разговора, прибавлю: я все более склонен считать, что главный грех капитализма – помимо ростовщичества, алчности, эксплуатации и прочего, – возможно, сродни главному греху христианской церкви, если говорить о ересях. Капитализм на деле порождает раскол. Так, западный капитализм, подобно западному христианству, создал в теории великолепную этику большинства, однако такого большинства, к которому никто из живых людей себя не относит.
– Мы относили, когда сидели на Трафальгарской площади, – сказала Риджуэй.
– Боюсь, что мы представляли не целое, а лишь ничтожную часть. Но вы хорошо сделали, что пришли туда. Всегда надеешься, что иностранцы тебя поддержат. Я тогда обратил внимание, какие у вас хорошенькие ножки.
– А политические взгляды у нее какие? – добродушно сказала Бидди.
– Смело скажу, первый сорт! Да! Да! Ветер новых идей всегда ласкает ноздри. Подтолкни столик дальше, Бидди. Рекомендую воздержаться от тертой моркови, возьми себе лучше еще бульона. – Он вновь обратился к Риджуэй. – Война, – я говорю о второй мировой, – изрядно восстановила нас против моркови. Лорд Вултон, тогдашний министр продовольствия, очень пропагандировал корнеплоды, потому что англичане могли сами их выращивать в садиках перед домом и на загородных участках. Морковь у него, если можно так выразиться, ходила в фаворитках. Считалось, что морковь укрепляет зрение у летчиков, поэтому в каких только видах мы ее не ели – и морковное суфле, и торт из моркови, – хотя у нас в семье летчиков не было. Считалось также, что от моркови лучше видишь в темноте, а от затемнений, разумеется, приходилось страдать всем. У меня лично эти морковные восторги не вызывали особого доверия, а вы как полагаете? – сказал он, обращаясь уже к доктору Спенсеру. – Просто нужно было как-то набить нам животы.
– Мне тогда было слишком мало лет, – сказал доктор Спенсер.
– Как я об этом не подумал. Глупо. И все равно, это факт истории, а от истории никому из нас не уйти. – Епископ обрезал корку с ломтя хлеба и стал жевать мякиш. – Возвращаясь к лорду Вултону – а он, надо признать, отнюдь не был таким уж сухарем, как может показаться, – он проявил, можно сказать, провидческую зоркость в подходе к корнеплодам. Нам всем тогда намозолил глаза в газетах популярный рекламный персонаж по прозвищу Крис Картофель – его рисовали человечком с головой в виде картофельного клубня и помещали рисунок над рецептами блюд из картошки. Я теперь сам стал на него похож. Вчера брился и был поражен тем, какое сходство.
Сестра внимательно поглядела на него.
– У Криса Картофеля были не такие косматые брови, и он был совсем не такой смешливый, хотя иной раз я, честное слово, не понимаю, что ты находишь кругом смешного.
– Видишь ли, Бидди, во-первых, с годами яснее понимаешь, что все кругом – балаган, и это забавно; во-вторых, там и сям наблюдаешь движение вперед, и это радует; в-третьих, существуют книги, и среди них много новых, которые с удивительным комизмом изображают человеческую глупость. Кроме того, существует наш донкихот Буцефал, гениальный конь, и мне с каждым днем все интересней разгадывать, что у него на уме. И наконец, есть этот славный уголок, в котором трудно пасть духом. А-а, вот и пирог!
Слева от Риджуэй возник еще один столик на колесах, с которым вошел Рен.
– Пирог с перепелками? – спросил епископ, вглядываясь в блюдо, стоящее на серебряном георгианском подносе.
– Да, милорд.
– Как к вам следует обращаться? – спросила Риджуэй.
– Да полагается называть "милорд", хотя при обычной беседе мне это как-то не по вкусу, а вам? Слишком уж пышно. Остается "доктор Херлингем" или "епископ" – на выбор. Или "епископ" тоже тяжеловато? При рождении меня нарекли Павлом. Не скажу, чтобы мне были ниспосланы испытания, равные апостольским, однако в Савла меня разжаловать тоже едва ли можно, раз мои родители возлагали надежды на другое имя. Так ведь? Да и вообще, в наши дни имя Савл связывают прежде всего с молодым человеком, который столь блистательно подвизается в кино, разве нет?
– Вы говорите про Савла Басса? Откуда же вам известно о нем? – спросила Риджуэй.
– Ну что вы, кто же о нем не знает? Сколько в нем жизни. Великолепно работает. Бедняжка, – прибавил епископ, глядя, как девушка мучается с пирогом, лежащим на царском серебряном подносе. – С перепелиным пирогом справиться нелегко. Я вижу, вы попали вилкой в двух перепелок сразу. Тут главное – определить на глаз, какой величины намеченная перепелка, но как это определить, если под корочкой не видно, где кончается одна и начинается другая. Не представляю себе. Надо было, чтобы пирог заранее нарезали на кухне.
Риджуэй успела воткнуть в пирог три вилки, и каждой попала в другую птицу – вытащить вилки значило раскрошить всю корочку. Пирог напоминал теперь быка, поверженного на колени перед исходом корриды.
– Секрет прост: подденьте корку ножом и гляньте, что под ней, – сказал епископ. Риджуэй так и сделала.
Пирог, к этому времени уже порядочно искромсанный, двинулся в сопровождении трех видов овощей и сухарного соуса к доктору Спенсеру мимо обеих дам.
Епископ сказал:
– Вы не возражаете, если я пропущу пирог и сосредоточусь на прочем? В мои годы такая игра уже не стоит свеч, а в картофельном пюре и соусе с сухарями тоже есть своя прелесть.
– А в мясной подливке – тем более, – сказала Риджуэй.
– Не сомневаюсь, что ваши зубы вполне можно бы поставить на ноги, – сказал доктор Спенсер.
– Зубы – на ноги? – Епископ залился смехом, из глаз его брызнули слезы, и он отер их щегольским батистовым платком. – Фу ты, как коварно порой шутит над нами язык. Бедный папа в Организации Объединенных Наций молил о том, чтобы на земле царил мир, а в переводе читаешь, будто он призывал народы мира жить так, чтобы те, кто придет после нас, пришли в лучший мир. Я даже пожалел, что не умею рисовать. – Он вынул фломастер и набросал карикатуру на задней стороне тарелки для сыра.
– Ты за что бы ни взялся, милый, все у тебя получается, – сказала Бидди.
– Видишь ли, для этого нужно очень захотеть, и только. Хотя я вот сейчас очень хочу, чтоб Буцефал опять начал есть, иначе сезон для нас потерян, а он все равно ни к чему не притрагивается. У моей покойной жены он всегда прекрасно ел перед важными скачками. – Епископ ушел в мысли о статном победителе Дерби, который сейчас изнурял себя голодом на конюшне.
– Надеюсь, вы извините меня, я не стану дожидаться сладкого, – сказал он, поднимаясь из-за стола. – Предвижу, что меня ждет творожное суфле. Повар делает его мне каждый вечер, потому что его легче жевать, а я не могу к нему притронуться. Возможно, у нас с Буцефалом есть нечто общее. Я было думал, что Рен, а он поразительно наблюдателен, разгадал, что происходит с Буцефалом. Он заметил, что конь ест, только когда у него в деннике голубь. Этот голубь обычно садился Буцефалу на спину. Потом голубь умер. И вот вам трагедия. В смысле кормежки. От коня остались кожа да кости. Смотреть больно. Тогда Рен завел другого голубя, и Буцефал, кажется, принял его недурно, но к овсу все равно не притрагивается… Итак, вы меня извините? Вы едва пригубили херес, – сказал епископ доктору Спенсеру. – Рюмка осталась в гостиной.
– Я опоздал, к сожалению, – сказал доктор Спенсер.
– Очевидно, больные задержали.
– Нет, движение.
– Да, нынче все тормозят автомобили. Люди злятся друг на друга. А сейчас не время враждовать. Это только сгущает тучи, вы не находите? – обратился епископ к Риджуэй. Он поднялся без посторонней помощи, побрел по нескончаемому коридору, спустился по винтовой задней лестнице к конюшне и стал созерцать красавца коня. Конь тоже созерцал епископа – корм перед ним лежал нетронутый.
– Даже творог не стал есть, – Бидди, сидя за столом, смотрела на опустевшее место брата. – Хоть бы вы привели его в порядок, доктор Спенсер, а то ему уже и летний пудинг не по зубам.
– А это что? – спросила Риджуэй.
– Его любимое блюдо, еще с детских лет. По преимуществу белый хлеб и свежая малина. А теперь он его не ест – из-за косточек.
– Думаю, что зубы – это лишь полбеды, – сказал доктор Спенсер. – Возможно, что-то его гнетет. Он тоскует по жене, да?
– Тоскует, хотя прошло уже шесть лет. Да, я и сама это постоянно замечаю, но не придумаю, чем помочь. В обществе хорошенькой и неглупой девушки он бодрей, – обратилась она к Риджуэй. – Я заметила, как он при вас оживился.
– Что вы, куда мне за ним угнаться. Вы не против, если я пойду лягу? – сказала Риджуэй. – Я так устала, что не стану даже читать.
– Леность юных и энергия стариков, – заметила ей вслед Бидди. Она свернула свою салфетку, засунула ее в кольцо и проделала то же с салфеткой Риджуэй. – Эта девушка влияет на него благотворно. По-моему, полотняная салфетка для нее внове.
– Да, похоже, что она не знала, как салфетку вкладывают в кольцо, – сказал доктор Спенсер. – Или, может быть, бросила ее на столе, ожидая, что к завтраку дадут свежую. В Америке каждый раз за столом дают чистые салфетки.
– Помилуйте, сколько же им приходится стирать! А крахмалить! А гладить! И зачем их менять каждый раз? Если б она еще красила губы, тогда куда ни шло. В двадцатые годы, когда все мы красились, тогда, конечно, после обеда салфетка приходила в негодность. Спаржу и артишоки, например, никак не съешь, не размазав помаду. А подкрашиваться за столом, как нынешние девушки, мы себе не позволяли.
– Для своих лет он держится превосходно, – сказал доктор Спенсер. – Вы зря за него тревожитесь. Годы, кажется, не убавили в нем любознательности и, уж конечно, не укротили его мятежный дух.
– Да, это правда, – сказала Бидди. – Жизнь, видите ли, так уж устроена, что в конце ее за тобою тянется груз. – Она помолчала немного. – По-настоящему плохо лишь то, что он так тоскует по жене, а впрочем, он не поддается. Я, кстати, не раз замечала, что иногда люди даже острее ощущают возможности, которые сулит жизнь, когда главное для них, казалось бы, уже утрачено.
Разыскав конюшенный двор, Риджуэй увидела епископа: он стоял, перегнувшись в денник через полуоткрытую дверь. Жеребец при виде незнакомого человека мотнул красивой головой и снова стал наблюдать за епископом. Голубь поклевывал овес и на жеребца не глядел.
– Я подумываю, не составить ли жизнеописание Буцефала, – сказал епископ. Рядом с ним три английские овчарки переступали на задних лапах по булыжнику, положив вытянутые морды на нижнюю половину двери денника. – Сегодня утром проснулся и понял, что у меня в голове уже сложился план биографии. Непростительно было бы не написать. Меня угнетают мысли о том, чего я почему-либо так и не сделал в жизни.
– Жизнеописание коня? – спросила Риджуэй.
– Да. Не вижу в этом ничего безрассудного, хотя есть нечто очень существенное в складе мышления Буцефала, что я пока не уловил. Да и вообще, почему бы не коня? История жизни Буцефала в высшей степени интересна, благородна, и развивалась она непроторенными путями. У вас удивительно хорошенькие ножки.
Риджуэй посмотрела себе на ноги.
– Вы не согласились бы на отдыхе ходить гулять с овчарками? – спросил епископ. – Им не хватает развлечений.
Риджуэй все еще разглядывала свои ноги.
– Не знаю, красивые ли у меня ноги или нет, но это в любом случае не значит, что я хороший ходок, – сказала она.
– Разумеется, просто у меня такое чувство… Словом, поразмыслите над моим предложением.
Сам он тем временем думал о ее ножках, о голубе, о своем голодном и пленительном коне.
– Конечно, справиться с очерком его жизни будет нелегкой задачей.
– Иными словами, если бы ваш герой глядел веселей, вы уже приступили бы к работе?
– Да, это было бы существенно. А как же иначе. Риджуэй, ну как не зайти в тупик, когда победитель Дерби так сильно тоскует по голубю, что готов уморить себя голодом? Одиночеством тяготится, в этом разгадка? Тогда чем ему плох вот этот голубь? – Епископ захохотал, и его щетинистые седые брови взметнулись вверх. И тут же спокойно спросил: – Что вас, собственно, рассмешило?
– И гетры ваши, и голубь, и конь, и эта грязь.
– Ах да, здесь действительно грязно. – Он направил фонарик, который держал в руке, себе на ноги, хотя собственные ноги и не представляли для него особого интереса. – Хотелось бы, понимаете, чтобы жизнеописание получилось достойное Буцефала. – Свет фонарика скользнул по левой руке Риджуэй. – Вы разве не замужем? Впрочем, наверное, у вас кто-то есть в Америке.
– Увы, я развожусь.
– Что ж, и правильно делаете, смею полагать. Но что причиной?
– Он банкир, а я по молодости лет слишком поздно поняла, что такой род занятий и я – несовместимы. – Она умолкла.
– И как же это вам открылось? – спросил старик, покачивая головой.
– Какая разница? Неужели вам будет не скучно слушать?
– Нет.
– Он слишком смутно представлял себе, что происходит в мире. И следствия, и уж подавно – причины. Да и о себе имел неверное представление.
– Не мог оставить по себе след, мгновенно приняв правильное решение, этого не хватало?
– Как-то весной мы отдыхали в Вест-Индии и купили у местного молодого художника превосходный пейзаж. Я, во всяком случае, была в восторге. А муж спросил, нельзя ли изобразить на этом же полотне банк. Художник смерил его взглядом и за пять минут изобразил. Ему нужны были деньги.
– Я, возможно, ошибаюсь, но мне кажется, ваше поколение и ваша страна наиболее полно и непосредственно выражают себя в поступках, – сказал епископ. – Как другие эпохи и другие страны – в ваянии или литературе. Это еще вопрос… Постойте, наконец-то меня осенило: разумеется, голубь не того пола. Это еще вопрос, случалось ли нам видеть у какого-либо народа по-настоящему яркое выражение его национального духа иначе как в… – Риджуэй ожидала, что он скажет «в религии» – …в искусстве. В поступках по крайней мере – едва ли. В религии все смешалось из-за расколов и вопроса о преуспеянии. Вы, конечно, слышали о сектах девятнадцатого века, у которых преуспеяние почиталось божьим даром, и не преуспеть было для сектанта позором. Ну и жаль еще, что люди почти разучились молиться наедине.
В конюшне раздался бой часов. Епископ сказал, размышляя вслух: – Голубка нужна, голубка – как та, что умерла.
– Вы тоскуете по жене?
– Да.
– А я, признаться, вовсе не тоскую по мужу.
– Чем же он был плох, на ваш взгляд?
– Скучный человек.
Епископ помялся.
– Я не люблю об этом рассказывать, но у меня был брат, и он погиб, потому что любил рисковать, – так вот мне кажется, он рисковал жизнью, борясь со скукой.
– Сколько ему было лет?
– Семнадцать.
– Не рановато ли он начал скучать?
– Вовсе нет, напротив, с годами все становится увлекательней. Возьмите хотя бы случай с этим конем и этим голубем. Я думаю, если бы у брата хватило терпения подождать, ему со временем стало бы интереснее жить. Видите ли, в то время, когда случилось несчастье, он больше не мог мириться с природой собственного мышления, ибо мыслил плоско, шаблонно. С годами он научился бы думать иначе.
– Вы считаете, что самоубийство смертный грех?
– Не стоит об этом, хорошо? Вы не замерзли? Ах, но как же я рад, что нас осенила мысль о голубке.
– Как вы раздариваете свои удачные мысли. Это вас она осенила.
– Скажите пожалуйста! А у вас зоркий глаз. Надо, пожалуй, смахнуть пыль с гетр.
– Он для того рисковал жизнью, чтобы вернуть себе остроту ощущений?
– Я был тогда молод, но думаю, да – надеялся вновь почувствовать вкус к жизни, рискуя ею. Он играл в так называемую русскую рулетку, то есть перебегал через улицу прямо под колесами летящей кареты. Сегодня многие находят, что эта история колоритна. Он нарочно сошел на мостовую, когда прямо на него неслась карета. Вы, я думаю, так не делали? Когда решили разойтись с мужем?