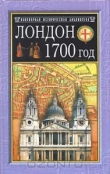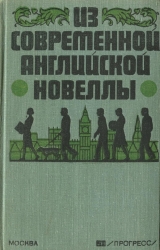
Текст книги "Из современной английской новеллы"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Новелла
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц)
– Да?
– Я ходил в эти места еще с детьми, – сказал он. – И с нашей собакой. Но это было, наверно, задолго до того, как вы поселились здесь.
– Мой муж настоял на покупке этого дома. А я была против. Потом он удрал и только его мне и оставил. А больше ничего.
– Теперь дом, должно быть, поднялся в цене. Дома, которые выходят на реку…
– Да, может быть… Но он сырой, комнаты крошечные и полно крыс с реки. Поэтому я и завела кошку. Но она совсем не крысоловка.
– Сиамские тем и отличаются. Моя считала ниже своего достоинства охотиться за этими тварями.
О себе они мало что рассказали друг другу, сидели все больше молча, глядя на спокойную реку, по которой то проходила лодка, то проплывал лебедь, то так проносило что-нибудь. Она предложила ему еще стакан хересу, но он сказал нет, благодарю, мне пора домой. Она сказала: ну что ж, тогда как-нибудь в другой раз, и он сказал: да, конечно, в другой раз с удовольствием, с большим удовольствием.
Встав и собравшись уходить, он почувствовал какую-то неловкость, и на минуту смущение передалось и ей, хотя она была женщина не из робких.
– Надеюсь, ранка у вас не загноится, – сказала она, и ее простое, милое, округлое лицо неожиданно залилось краской.
– Да нет, конечно! Все это пустяки.
Выйдя на бечевник, он крикнул ей через плечо:
– Следующий раз буду проходить мимо, загляну к вам.
– Да, пожалуйста.
Он изобразил в воздухе прощальный знак, и она ответила ему тем же. Она взяла кошку на руки и теперь снова прижимала ее к своей полной груди, точно кормящая мать. Луч заходящего солнца блеснул на ее густых белокурых волосах. И хотя ей было… да, лет пятьдесят, а то и пятьдесят пять… она вдруг будто помолодела.
Он шел домой, переполненный спокойной, всеобъемлющей радостью. И шагал даже бодрее обычного, не чувствуя ни одышки, ни сжатия в груди, ни боли. Он вспоминал это округлое лицо, видневшееся сквозь трепетанье листвы, ее прищуренные, устремленные вверх глаза, приоткрытый рот с крупными белыми зубами. Вспоминал ее крепкие бедра и икры и то, как она лежала на шезлонге, держа стакан сладкого, липкого хереса на слегка выпяченном животе. Думал о прогулке, которую предпримет завтра вечером, о том, что она, может быть, выйдет тогда на лужайку перед домом.
Он разогрел тушеное мясо, приготовленное миссис Крофорд, и на этот раз съел всю порцию, как всегда слишком обильную, вместо того чтобы по меньшей мере половину спустить в канализацию. Потом налил себе виски и со стаканом в руках вышел в неухоженный, тесный дворик, куда из открытого на верхнем этаже окна неслись оглушительные звуки поп-музыки. Но сейчас этот грохот почему-то не раздражал его. Он подошел к бузине, повинуясь какому-то труднообъяснимому побуждению, наклонил стакан и пустил тонкую струйку виски вниз по стволу, на то место, где, вся сжавшись, сидела и сторожила приход своей смерти его кошка.
Он вернулся в дом и, хотя было еще совсем рано – солнце только что зашло, – начал раздеваться и готовиться ко сну. Ему хотелось, чтобы завтрашний день наступил поскорее, и тогда он опять пойдет по бечевнику, минуя собак и мальчишек, по колено в тине, минуя пролетающие по реке восьмерки, и тогда, может быть, за теми четырьмя высокими буками снова появится…
Стоя в пижаме, он выдвинул ящик тумбочки у кровати и вынул оттуда стеклянную пробирку с двенадцатью белыми таблетками. Он долго держал ее в руке; потом пошел в ванную комнату, вытащил из пробирки пластмассовую затычку, опорожнил ее в унитаз и спустил воду. Все еще держа пробирку в руках, он вернулся в спальню, лег в постель поверх одеяла и закрыл глаза. Листья колыхались, трепетали, и среди гущи листьев на него смотрело по-крестьянски округлое лицо.
Его сын и дочь, никогда особенно друг друга не любившие, делили оставшиеся после отца вещи. По молчаливой договоренности сын не привез с собой жену, а дочь не привезла свою приятельницу.
– Когда я увидел, как он лежит, сжав в руке пробирку, то сразу подумал, что это самоубийство, – сказал сын. Ему-то и позвонила миссис Крофорд, совершенно спокойная, хотя и несколько раздосадованная нарушением своего каждодневного распорядка.
– И у доктора Гамильтона, очевидно, были такие же подозрения, раз он потребовал вскрытия.
– Да. Он так и сказал.
Сын выдвинул второй ящик письменного стола, где все было в образцовом порядке, так же как и в первом. – Все прибрано!.. Точно человек готовился в долгий путь. Наверно, было у него какое-то предчувствие.
– Бедный папа! – И на секунду дочь прониклась жалостью к отцу. – Ничего удивительного, если бы он и правда покончил с собой. Ради чего стоило ему продолжать жизнь?
– Да, вот так и надо уходить.
Дочь вздохнула, решив, что брат пусть как хочет, а гравюру Стабса, которая висит над камином, она возьмет себе.
Братья
Сидя возле брата в тяжелом, как танк, кондиционированном кадиллаке, Тим едва не поддался желанию воскликнуть: «Ах, как чудесно, что мы снова вместе!» Но сказал это за него брат, Майкл, одетый в мятые джинсы и защитного цвета рубашку с распахнутым воротом – он и в пожилые годы одевался и вел себя, как мальчишка.
– Ах, как чудесно, что мы снова вместе!
Тим был неспособен выговорить такое вслух, как неспособен был даже в эту жару – а жара буквально валила с ног, стоило лишь ступить из-под прохладного свода машины на раскаленный тротуар – избавиться от крахмального воротничка, галстука и пиджачного костюма.
Майкл надавил на металлический выступ в дверце рядом с собой, и стекло в окне поползло вниз со слабым стрекотом, как если бы бабочка билась крылышками об абажур. Было время, когда стекло опустилось бы совсем бесшумно, но машина была старая. Майкл засмеялся от удовольствия, и Тим, который так часто одергивал своих студентов: "Не надо! Пожалуйста! Какой толк от кондиционера, если открывать окно в машине!", теперь только криво усмехнулся, хотя вообще улыбался нечасто.
– Балуют тебя. Или это ты сам себя балуешь?
– Ни то ни другое. Сдуру купил. Польстился, что досталась по дешевке от одного офицера, американца, когда он уезжал назад в Штаты. Меньше чем за полтысячи. А оказалось, что и бензину не напасешься, и улицы здесь узки для нее, а когда откажет что-нибудь – а что-нибудь отказывает сплошь да рядом, – никто не знает, как чинить, кончается тем, что нужно выписывать запчасти из Америки.
– Все равно. Мне нравится. Шикарная штука. – Тонкий, желтый от никотина палец опять надавил на выступ, только на этот раз не вниз, а вверх, и между оживленным лицом брата и лицами прохожих медленно, со стрекотом, возникла стеклянная перегородка.
– Какие они все женоподобные.
– Кто?
– Да японцы.
Тим не отозвался. Внезапное, почти пьянящее ощущение счастья кружило ему голову, точно с приездом брата, которого он видел так редко и так любил, он хлебнул натощак спиртного. Долго тянулись эти три недели, пока он жил в пустынном доме, пахнущем, как коробка из-под сигар.
– А уж уроды – я как-то раньше не обращал внимания, до чего они неказисты. Посмотрел бы ты на людей в Индонезии. Красота! – Его рука опустилась на руку брата, легонько погладила ее, и Тим, как ни странно, не испытал при этом ни капли неловкости, какая охватывала его, когда к нему кто-нибудь прикасался, пусть даже собственная жена или дети. Он не сжался, не отодвинулся смущенно, а, напротив, принял ласку с глубоким чувством благодарности, облегчения, даже радости.
После, когда они сидели, держа в руках тонкие, подернутые морозным бисером стаканы, и глядели в дышащий зеленоватыми испарениями сад – прислуга, впустив их в гостиную, задвинула дверь, и она покатилась по желобку, столь же мало нарушив тишину, как оконное стекло кадиллака, когда оно ползло вверх и вниз, – Тим сказал:
– На сколько же ты приехал?
– А тебе как хотелось бы?
"Навсегда!" Нет, он не сказал это вслух, потому что не умел говорить такое, хотя это была правда.
– Живи, сколько понравится.
– Посмотрим, как мне понравится Япония. Господин нахлебник не составил твердой программы своей развлекательной поездки. – Майкл открыто и беззастенчиво жил за счет других, и другие редко возмущались этим, как бы признавая, что сами в известном, хоть и трудно поддающемся определению смысле тоже живут за его счет. Он глотнул джина с тоником, глотнул еще раз, еще. Все. Он протянул стакан брату.
– Ну, пошли к столу? – спросил Тим. Он всегда пропускал стаканчик перед вторым завтраком и два перед обедом – таково было правило.
– Ой, а нельзя мне сперва еще один? Пожалуйста!
– Отчего же, изволь.
За жесткими телячьими отбивными и дряблой фасолью Майкл сказал:
– Скучаешь, поди, без своих.
– Да. Это есть. – Тим мог бы прибавить: "Но странное дело – приехал ты, и я уже не скучаю".
– Интересно. А вот я рад без памяти, что избавился от всей этой муры. Такое чувство иногда, словно и не было со мной этой жуткой бабы и этого жуткого пащенка. – Баба и пащенок жили теперь в Канаде, у фермера, к которому женщина кинулась, спасаясь из-под обломков своего замужества. – Как будто жили у меня из года в год два жильца, бесцеремонные, вечно недовольные – не одним, так другим, и нет, чтоб когда-нибудь внести за постой. Сегодня мне даже вспомнить о них что-нибудь трудно. – Он перегнулся через стол и подлил себе вина. – Но ты-то ведь своих любишь, верно?
– Да, люблю.
– Удивительно.
– Скучаю по ним. Дня не проходит с тех пор, как они уехали, даже часа не проходит, чтоб не скучал.
– Ах ты горемыка. – Рука скользнула вперед, ладонь, такая прохладная среди палящего зноя, легко легла на руку Тима, и снова Тим не испытал ни капли обычной неловкости от чужого прикосновения, а лишь глубокое чувство благодарности, облегчения, даже радости.
Ближе к вечеру Тим ушел на работу, оставив брата дремать на веранде, на шатком шезлонге, когда-то ярком, в веселую зеленую и красную полоску, – теперь полотно выгорело, поблекло. Волосы на голой груди у Майкла были курчавые и седые, костлявые длинные ноги он вытянул на припек, и жеваные купальные трусы врезались ему в пах. Когда Тим, жмурясь от слепящего солнца и заслоняя глаза газетой «Таймс», полученной по авиапочте, высунулся из дома попрощаться, Майкл пошарил рукой по шезлонгу и без тени смущения сказал:
– Уф! Гуляю по случаю приезда. – Рядом с ним стоял стакан – виски? коньяк? Сам взял, не спрашиваясь.
Рюкзак и обшарпанный чемоданчик с ручкой, обмотанной шпагатом, до сих пор стояли нераспакованными у него в комнате. Это было все, с чем он приехал, и, когда Тим по пути из уборной заглянул к нему, их вид вызвал в нем глухое раздражение, как теперь – вид клумбы перед верандой, где его жена всего за два-три дня до отъезда посадила цветы и где, душа их, уже вымахали по пояс прожорливые сорняки.
– Хочешь, дам тебе что-нибудь почитать?
– Нет, пожалуй. – Майкл в отличие от брата мог проводить часы за часами, ничего не делая.
– Вот "Таймс" пришла авиапочтой, за пятницу.
– Нет уж, избавь, ради бога!
Тим возвратился с работы в восьмом часу, а Майкл все еще праздно валялся на шезлонге, подставив теперь вечернему солнцу запрокинутое лицо. Стакан, явно не единожды осушенный за эти часы, покоился у него на животе, и Майкл поддерживал его обеими руками. Рядом с загорелым лицом брата щеки Тима казались серыми, как олово.
– Усталый вид у тебя.
– Я и правда устал. Такая всегда уйма дел. Кровопийцы какие-то, а не люди, притом учтивейшие кровопийцы. – Тим вздохнул. – Имаи-сан! – позвал он прислугу из задних комнат. – Имаи-сан!
Он велел ей подать джина с тоником, но, когда она вошла снова, увидел, что она принесла то, что он обычно пил по вечерам, – сухой мартини. Он прикрикнул на нее, презирая себя за это, и она вся сжалась, точь-в-точь как его дворняжка Триция, когда на нее замахнешься газетой. На ее широких, туго обтянутых кожей скулах зарделись пятна; забрав у него стакан, она поспешно засеменила прочь.
Тим прислонился спиной к пыльной стене и закрыв глаза.
– Зря я так накричал на нее, – сказал он с раскаянием.
– Слишком уж ты много взваливаешь на себя. Обычная твоя беда. Взваливаешь на себя слишком много, так что неизбежно нет-нет, да на чем-то и сорвешься. Старайся не делать сразу столько для стольких людей сразу. Ты устаешь, и порой творишь свои добрые дела не слишком, что ли, доброжелательно, и получается, что лучше уж ты вообще не брался творить добрые дела.
Тим знал, что брат говорит правду. Он вздохнул, выпрямился – на плече пиджака осталось пятно охряной пыли от стены – и сказал:
– Будешь дальше здесь сидеть или, хочешь, съездим со мной к ветеринару?
– К ветеринару?
– Мне надо забрать Трицию, суку нашу, дворнягу. Ей сделали операцию.
– Отчего не съездить.
В похожем на танк кадиллаке Майкл спросил:
– А что с ней случилось, с вашей сукой?
– Так, ничего страшного. Решили выхолостить.
– Нет! Не может быть! Как ты мог?
– Это совсем легкая операция.
– Да, но какая жестокость. Так… так противоестественно.
– Она уж два раза приносила щенят. Ты просто не представляешь себе, сколько с нею возни, когда начинается течка. Нет такого приблудного кобеля по соседству, чтобы не изловчился проникнуть в наш сад.
– Да, но вообще учинять такое над животным – по-моему, это ужасно.
Тим едва было не напомнил брату, как он сам упорно противился тому, чтобы жена завела еще хотя бы одного "пащенка", но смолчал. Майкл держал одно время датского дога, теперь его уже не было в живых, и любил говорить: "Я предпочитаю людям собак, Цезарь – людей собакам. Так что мы с ним ладим как нельзя лучше".
Когда ветеринар в долгополом, чуть не до пят, белом халате, покрытом ржавыми пятнами, удалился по длинному узкому коридору, Тиму почудилось, будто где-то внутри его черепа, в самой его сердцевине, кто-то острыми осколками стекла царапает по стеклу. На самом деле это где-то в невидимом отсеке визжали и тявкали собаки.
Поджав хвост, припадая всем телом к полу, дворняга Триция боязливо подобралась к хозяину. Майкл протянул вниз узкую руку, сука повернула морду, чтобы обнюхать ее, и застучала несуразно длинным хвостом по половицам, так что в столбе солнечного света взвихрились пылинки.
В машине Майкл взял ее к себе на колени и осмотрел то место, где свалявшуюся шерсть выбрили, чтобы сделать обезболивающий укол. Когда его пальцы принялись ощупывать ее, она тихонько взвизгнула, то ли от боли, то ли от удовольствия, возможно даже, и от того, и от другого разом. Он прижался щекой к ее морде, и длинный, упругий, точно резина, язык развернулся и лизнул его по носу и по губам.
– Напрасно ты позволяешь такое. В Японии от собак каких только паразитов не подцепишь.
– Тим! А ведь ты ревнуешь, ей-богу!
Тим пренебрежительно фыркнул, но Майкл не ошибся. Тим никогда сам не сажал собаку себе на колени, не давал ей лизать лицо или хотя бы руки, бранился, если это делали дети. И при виде того, как все это допускает Майкл, ему хотелось крикнуть: "Это моя собака! Спусти ее с колен! Не давай себя лизать! Это мое!"
Когда они ехали домой в наступающих сумерках, Майкл выглянул в окошко, на сей раз открытое, хоть воздух, который врывался в него, по-прежнему нес с собой пыль и обжигал лицо, и опять воскликнул с недоумением:
– Нет, все же какие они женоподобные! – Его руки почесывали дворнягу за ушами, и она сидела у него на коленях, зачарованно уставясь в одну точку бусинками глаз. Майкл обернулся к брату, чей светло-серый мохеровый пиджак все явственней темнел под мышками от пота, и попросил: – Расскажи мне, что с Рози.
– По-видимому, она умирает.
До сих пор это ни разу не осмелился сказать никто, даже неулыбчивый врач-американец из миссионерской больницы, который первым поставил диагноз "лейкемия", даже Лора в самые тяжелые и мучительные минуты, даже он сам, когда оставался наедине с собой. Но это была правда, и оттого, что Майкл не устрашился вырвать у него эту правду и выслушать ее, Тиму было почему-то совсем не так нестерпимо, как в тот раз, когда пожилая сестра-миссионерка рассказывала, что один ее маленький больной, страдавший тем же страшным недугом, выздоровел – да-да, полностью исцелился, или когда сам врач говорил, какие чудодейственные средства от болезней, которые принято считать неизлечимыми, буквально каждый день открывает медицина.
Лицо Тима вновь приняло оловянно-серый оттенок, лишь под глазами обозначились синяки.
– Да, по-видимому, вот так, – сказал он.
– Бедный Тим. Бедная маленькая Рози.
Узкая рука с желтыми от табака пальцами все так же поглаживала собаку за ушами, все так же хлестал сбоку в лицо обжигающий, насыщенный пылью воздух, и Тимом в какую-то минуту вдруг овладело тупое спокойствие, словно разом схлынули воды и из-под них обнажилась сплошная непролазная слякоть. Он глотнул, дернув кадыком, торчащим над запонкой воротника, которая, как шип, врезалась ему в горло (Майкл однажды заметил с беззлобной усмешкой: "В Англии, поди, мало кто, кроме тебя, до сих пор ходит в рубашках с пристежным воротником"), и единым духом выпалил:
– Лора, по-моему, знает. И, что хуже всего, Рози тоже знает, я думаю. Только мы никогда не говорим на эту тему.
– Лучше, может быть, говорили бы.
– Может быть.
– А возможно, и нет. Существуют вещи, которых не выдерживают слова. Как бывает, когда двое пытаются поднять ношу, которая им не по силам. Это их понуждает к нестерпимому напряжению. Что в свою очередь может привести, – он улыбнулся своей на редкость светлой улыбкой, – к разного рода трещинам и разрывам.
Но когда эти двое – мы с тобой, такая ноша по силам. Слова эти не были сказаны, и все же они были тут, между ними, и от этого губы Тима, сведенные в тонкую черту усилием подавить муку, не дать ей прорваться наружу, немного обмякли.
– Когда ты ждешь их назад?
Тим покачал головой, слыша опять, как где-то в глубине мозга, в самой его сердцевине, кто-то с хрустом и треском царапает битым стеклом по стеклу.
– Окончательно не решено?
– Надо сделать анализы – ну и прочее в том же духе. – Он глотнул, – Есть, конечно, надежда, что будут ремиссии.
И – чудо: сидя возле брата в тяжелом, как танк, автомобиле, который неуклюже двигался по улочке, такой узкой, что он, казалось, вот-вот заденет деревянные дома по обо ее стороны и разломает их на куски, как слон ломает ветки, пробираясь по тропе сквозь джунгли, Тим неожиданно сам испытал ремиссию, освободясь на время от прежних бессонных мук одиночества, тоски и безнадежного отчаяния.
– Чем ты теперь занимаешься? От тебя ведь никогда нет писем. Я никогда не знаю, что у тебя происходит.
Дворняга, изредка посапывая или ворча спросонья, спала у Майкла на коленях, серебристо-белый хвост ее, несуразно длинный при таком кургузом туловище, свернулся кольцом поверх его голой руки. У его стула опять стоял стакан – надо будет заказать завтра еще виски и джина, подумал Тим, вытряхивая последние капли "Белой лошади" из бутылки, утром едва только початой, – но он был совершенно трезв. Низко, прямо за краем забора, повисла луна, зеленоватые испарения, которые надышал сад за долгий знойный день, окружили ее радужным ореолом. Крошечными раскаленными дротиками вонзались в кожу укусы москитов, которые роились над ними, не обращая внимания на курильницу – змею, увенчанную язычком пламени и источающую сложное камфарно-плесенное благоухание.
– Почему, а открытка – я же послал тебе открытку из Бангкока, и какую красивую, и еще одну, из Гонконга, правда совсем не такую красивую, но послал. – А в открытках было сказано только, что странствия ведут его все ближе и ближе, и больше ничего.
– То есть я хотел сказать – где ты работаешь? И пишешь ли что-нибудь?
Время от времени Майкл поступал на работу то учителем в школу, то на Би-Би-Си, то в ЮНЕСКО, то в рекламное агентство. Ему хорошо платили, он работал блестяще, как того и следовало ожидать, – и добросовестно, что всякий раз бывало неожиданностью. Но проходило время, и им овладевали скука и нетерпеливое беспокойство – так у него произошло с браком, на первых порах счастливым, так много раз происходило в отношениях с друзьями. Вслед за этим наступал – не разрыв, нет, медленное, почти неуловимое скольжение прочь. "Вы чем-нибудь у нас недовольны? Может быть, вы считаете, что мы не так вас используем? Может быть, вам платить надо больше?" В ответ на каждый вопрос он отрицательно качал головой и улыбался этой своей на редкость светлой улыбкой, так непохожей на кривую, невеселую усмешку брата. Нет, что вы, говорил он. Мне просто требуется, как бы это сказать… petit changement de deсоr, слегка сменить обстановку.
– Работаю? – Он пропустил сквозь пальцы шерсть на собачьем ухе, наслаждаясь ее шелковистым прикосновением, как когда-то наслаждался – точно так же, не больше не меньше, – шелковистым прикосновением волос своей жены, той самой, о которой сегодня ему стоило труда хотя бы вспомнить что-нибудь. – Да нет, работы у меня в настоящее время никакой, и даже видов нету. Есть кой-какие сбережения, очень скромные. Ты ведь меня знаешь. Потребности мои нехитрые. Была бы еда приличная да выпивки вволю… Ах, кстати… – Он нагнулся за пустым стаканом и протянул его вперед.
– Виски кончилось, – сказал Тим, прибавив мысленно: мог бы, черт возьми, сам купить что-нибудь из спиртного в самолете, кстати, и пошлины платить не надо. – Могу предложить джин, бренди.
– А нельзя, чтоб эта твоя симпатичная прислуга-сан сбегала на угол в соседний бар или пивную или как их там еще называют в Японии?
– Боюсь, что она ушла домой. Она у нас не ночует.
– Что ж, тогда давай сюда джин. Я не любитель менять лошадей на полпути, но что поделаешь.
Возвратясь с бутылкой, Тим повторил настойчиво:
– Ну а стихи. Пишешь ты что-нибудь? – Охваченный вдруг обидой, что брат без конца пьет за его счет, да к тому же все-таки не пьянеет, он задал этот вопрос нарочно, из желания причинить боль.
– Стихи-то? Нет, милый мой, больше не пишу. Непрочное упоение вдохновенных минут… с этим покончено раз и навсегда. – Он вдруг свирепо дернул собаку за ухо, так что она тявкнула от боли, и сразу принялся вновь оглаживать, гладить, гладить, завораживая, усыпляя. – Поэзией, как и сексом, следует по-настоящему заниматься только в юности. А впрочем… – Он вздохнул и отхлебнул из стакана. – …случается, что и мараю кое-что изредка. Просто так, для развлечения.
– И что же ты пишешь?
– Книгу шаблонов, как я окрестил свое детище. И поверь мне, "шаблонный" для него самое точное слово – если брать в целом. Плоско, обыденно, мелко. Как моя жизнь за последнее время.
Из роящегося облака, которое внезапно окутало Тима, ему в кожу вонзилась раскаленная игла. Он хлопнул себя ладонью по щеке, потер ужаленное место пальцем.
– Пошли в дом, – сказал он. – Закусали до смерти.
Майкл нагнулся за стаканом, встал и свободной рукой обхватил брата за плечи.
– Ах ты горемыка! Странно, почему это все насекомые тебя едят поедом, а меня никогда не трогают. Видно, кровь у тебя слаще.
С окаймленного пальмами берега к нему тянулись руки, трепеща в мареве зноя, которым заволокло разделяющий их пролив. По ту сторону ждали примирение, забвение, прохлада. Но он не мог перебраться туда. Он вошел в воду, вот она ему по подбородок, вот уже во рту ее солоновато-горький, противный вкус – и тут его рвануло назад скрытым течением, заарканило, словно обезумевшего коня…
Он открыл глаза и уставился в дощатый потолок, за которым часто слышалась крысиная возня (как Лора всегда пугалась этого шума), дробный топот крысиных ног взад-вперед. Чего-то сейчас не хватало, и не только Лориного тела рядом, ее сонного лица, по которому струился пот, ее блестящей от пота руки, свисающей на пол; не только детей, чьи комнаты по обе стороны спальни опустели, наполнясь взамен запахом, отдающим золой, которая залежалась в прогоревшем камине, – нет, не хватало еще чего-то. Но чего же? Чего? И вдруг он догадался. Не хватало, чтоб под кроватью храпела дворняжка Триция. Эти мерные звуки – Лору они так раздражали, что нередко она вставала среди ночи и выволакивала собаку вниз, на кухню, а собака, съежившись, сопротивлялась, царапая когтями по голым доскам, – не мешали ему никогда. А в эти долгие три недели, средь мнимоподводного сумрака тюрьмы, в которой протекала его жизнь, они как бы отчасти умеряли даже, хотя никогда не могли прогнать совсем, его одиночество и тоску. Когда он спал, похоже было, что эти мерные, как волны, звуки уносят его все дальше, дальше, к заветному, недосягаемому берегу, окаймленному пальмами. Когда же он не мог уснуть и лежал, как сейчас, подняв глаза к потолку и обливаясь потом, они все равно поддерживали его, не давали утонуть окончательно. Порой, когда рассвет медленно, почти неуловимо высвечивал засиженный мухами трельяж стоящего напротив окна аляповатого туалетного столика, уже не заставленного Лориными флаконами, баночками, тюбиками, Тим протягивал вниз руку и негромко звал:
– Триция! Триция! – Дворняжка просыпалась, подбиралась ближе, стуча хвостом по полу, и ее клейкий, упругий, точно резина, язык обвивался вокруг его пальцев. Случалось, что она пробовала даже взобраться на кровать, скребя по полу коротенькими, как у таксы, напруженными лапами и нашаривая его лицо мордой, доставшейся ей от шпица. Но в этих случаях он командовал:
– На место, Триция! На место! Негодница! – И, пристыженная, словно застигнутая на месте преступления, собака опускала морду и снова забиралась под кровать.
Тим спустил ноги с постели и негромко позвал в темноту:
– Триция! Триция, ты где? – Тем же голосом, каким мог бы позвать: "Лора!"
Но никто не кинулся с привычной поспешностью на его зов. Он встал и подошел к окну, зябко поеживаясь вдруг, хотя было жарко и мятая простыня, с которой он поднялся, промокла от пота. Он осторожно ступил на балкон, такой хлипкий, что детям выходить на него воспрещалось – из опасения, как бы он не обвалился под их тяжестью. Из трех громоздких глиняных горшков раскинулись почерневшие вайи, похожие в лунном свете на ноги исполинских пауков. Он забыл, что Лора велела их поливать, забыл и то, что она велела пропалывать цветы в саду. Имаи-сан, которой даны были те же наставления, тоже либо забыла, либо умышленно не выполняла их, как не выполняла вообще никакие обязанности, которые считала выше своих возможностей или ниже своего достоинства. Не соблюдая больше осторожности, Тим оперся на перила и внезапно представил себе, как балкон рушится под тяжестью его тела, прогнившее дерево рассыпается едко пахнущим прахом и он падает вниз и, раскинув руки и ноги, остается лежать на террасе. На мгновение ему стало приятно, что он позволил себе дать волю воображению.
На земле, между двумя заросшими клумбами, лежал квадрат лимонно-желтого света. Либо Майкл уснул, не потушив лампу, либо еще не спал.
Шлепая босыми ногами, Тим вернулся в комнату и порывисто, раздраженно натянул пижамную куртку, брошенную на спинку стула. Потом вышел в коридор и еще раз негромко позвал из тишины дома:
– Триция! Триция, ко мне! – Ни звука в ответ. Он заглянул в ванную комнату, где в ванну с оранжевыми подтеками того же оттенка, что и табачные пятна у Майкла на пальцах, уныло капала вода из крана, заглянул в пустые детские, в уборную, где, как выражалась Лора, вечно "воняло канализацией", сколько она ни сыпала в унитаз порошков и сколько ни распрыскивала аэрозолей.
Он спустился по скрипучей лестнице, поминутно останавливаясь, не отнимая руку от перил.
Снизу, из спальни, раздался голос Майкла:
– Тим? Это ты?
– Я.
– Ты что, не спишь?
– Я искал собаку – Трицию.
– А она у меня.
Тим открыл раздвижную дверь и увидел брата – тот лежал поверх покрывала совершенно голый, подняв колени, на которых покоилась тетрадь. Он не сделал попытки прикрыть наготу, даже не шелохнулся. Собака лежала у него под коленями, как бы поддерживая их собою. Глазки-бусинки скользнули от одного брата к другому; она не завиляла хвостом.
– Ох, Майкл, не место ей здесь!
– Эка важность!
– Лора не любит, чтоб она лазила по кроватям, диванам и стульям. И ей это известно. – И тебе тоже, едва не прибавил он.
– Так Лоры сейчас нет. И знать Лоре не обязательно. Бедняжечка! – Он ласково провел рукой по острой, слишком вытянутой морде. – Намучилась, пока ей выдирали эти самые яичники. По такому случаю не грех ее и побаловать.
– Всегда есть опасность, что у нее блохи. В такую жаркую погоду уберечь от них собак практически невозможно. А уж от ветеринара она с ними возвращается каждый раз.
– Ну, ко мне-то, как я уже говорил сегодня, насекомые никогда не проявляли интереса. Так что мне это ничего.
Тим смотрел на узкое длинное тело с пучками седоватых волос на груди – их словно приклеили наудачу там и сям – и почему-то совсем юношескими ногами. Он ведь старше меня, думал Тим, на пять лет старше, а насколько лучше сохранился, если не считать седину. Ему вдруг стало стыдно за свое брюшко, туго обтянутое пижамными штанами, за пухлую, словно у девочки-подростка, грудь.
– Ты почему не спишь? Наверно, страшно поздно.
Он посмотрел на часы; таким тоном он разговаривал с детьми, когда, сидя с гостями за столом, слышал в разгар обеда, как они носятся или болтают наверху.
Теперь и Майкл взглянул на старомодные часы, которые перешли к нему от отца и которые он носил на выцветшем нейлоновом ремешке, тоже еще отцовском.
– Еще трех нет. Для меня это не поздно. Я ночью сплю часа три-четыре.
– Не знал, что ты тоже страдаешь бессонницей.
– А я и не страдаю. Бессонница – это когда тебе хочется спать, когда знаешь, что нужно спать. А мне и так расчудесно – либо читаю, либо пишу или думаю, а то лежу себе премило и жду, когда настанет новый день.
Тим подошел ближе к кровати, и сука, ожидая, что ее накажут, вдавилась всем телом глубже в постель, боязливо поглядывая на него снизу вверх маленькими глазками. Неожиданно его охватила ненависть к этому существу, такому трусливому, неверному, так легко поддающемуся обольщениям первого встречного.
– Что это ты пишешь? – спросил он.
– Так, заношу кой-какие шаблонности в свою книгу шаблонов, вот и все. Вроде того, какие женственные на вид японцы и как я сегодня первый раз прокатился в кондиционированном кадиллаке. Я никогда еще не ездил в кондиционированной машине и никогда – в кадиллаке. Стало быть, это нечто достойное внимания, правильно?
Тим не знал, поддразнивает его брат или говорит серьезно.
Майкл похлопал рукой по кровати.
– Садись-ка сюда.
Тим покачал головой.
– Нет. Пойду лучше постараюсь снова уснуть. – Во внезапном приливе тоски и отчаяния он подумал про руки, протянутые к нему с недосягаемого, окаймленного пальмами берега. – Это я просто так, – пробормотал он. – Из-за собаки. Это самое… волновался.
– Тим, милый, ты слишком много волнуешься. Какой смысл волноваться! От этого никогда еще никому не было пользы.