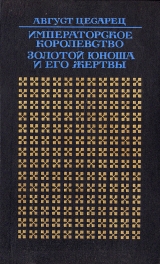
Текст книги "Императорское королевство. Золотой юноша и его жертвы"
Автор книги: Август Цесарец
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 47 страниц)
– По-моему, – тянет подавленный и разочарованный Майдак, – в состоянии транса все возможно, в трансе все прекрасно. Мне вчера казалось, будто небо открывается передо мной. Смотрите на меня, смотрите, добрый господин Марко.
С раскинутыми по стене руками Майдак в эту минуту был похож на влюбленную девушку, трепещущую в сладком восторге, поборовшую стыдливость и готовую отдаться сильному, необыкновенно сильному любовнику. Петкович с грустью смотрит на него. В эту минуту лицо его сделалось отрешенным, как будто навсегда исчезло прежнее выражение. А может, и в душе у Петковича все перевернулось. Ясно только, что все это время он думал о себе, а когда заговорил, речь его звучала странно, как внутренний монолог.
– А может, все-таки возвращаются. Знаете, когда мы с вами выйдем на свободу, я приду к вам или вы ко мне в Безню, и тогда мы вызовем наши души обратно. Наши, вы согласны?
– Устроим спиритический сеанс? – понимает его Майдак. Но он не убежден, что свою собственную душу и душу Петковича надо звать откуда-то обратно, когда они здесь, всегда с ними, только им надо сблизиться, – Мы объединим их, покажем одну другой, – уточняет Майдак, – вы свою – моей. О, это будет удивительно! Я ее сразу же увижу, впаду в транс. Но это и здесь возможно, господин Петкович. С помощью гипноза.
– Гипноза? – с остановившимся взглядом пробормотал Петкович. – Мне не нужна желтая могила. Зачем вы выкопали эту могилу? Вы, вы… – еще мгновение, и он бы беспричинно накричал на Майдака, но взгляд его вдруг смягчился и задержался на крыше стоящего на улице дома. – Но вон того голубя вы не закопаете, ведь правда, господин Майдак, его вы не похороните? Тот голубь – моя душа, посылающая привет. Она выпорхнула на свободу, греется на солнце и не хочет спускаться в желтую могилу.
Он радостно смотрит на голубя; там, на крыше, действительно среди прочих один белый голубь, но без письмеца на шее. Это он еще в камере вообразил себе, что привязал к его шее письмо с приветом Регине. Но почему он еще здесь, почему не летит дальше? Зрачки у него расширились от страха. Смущенный, ничего не понимающий, Майдак начинает его бояться. Почему вдруг Петкович так испугался этой могилы? Но может, в этом и состоит таинство транса? Петкович упорен, похоже, хочет его смутить и имеет на это право. Надо же знать, что он в своем трансе видит: голубь для него – душа, прекрасная мысль, ведь чистая и восторженная душа может быть только белой, тихой, как тот голубь.
– А кому шлет привет ваша душа, господин Петкович?
Майдак не получил ответа.
Как раз в это время во двор вышел Пайзл. Он отправил письмо правительству, и сейчас ему легче, как это всегда бывает с людьми после принятого решения. Он спустился во двор, потому что наверху ему скучно, да и не хочется ему, чтобы Рашула или Юришич считали его отсутствие бегством. Интересно также, как сегодня выглядит Петкович. И вот, Петкович весело поспешает к нему, становится рядом, сердечно справляется о его здоровье. Пайзл лицемерно улыбается, рустно и внимательно рассматривает своего шурина, как будто изучает.
– Я здоров, надеюсь, ты тоже, – повернулся Пайзл с явным намерением увести Петковича, если он действительно захочет остаться с ним, на другую сторону двора, подальше от Рашулы и его злобных взглядов.
– Как бык! – смеется Петкович. – Главное – здоровье, хороший стул и чистая совесть.
Это его любимая присказка. Он потирает руки и ни на шаг не отходит от Пайзла. Идут рядом, на минуту между ними воцаряется молчание.
– Ну, как ты? – прерывает молчание нетерпеливый Пайзл.
– Как прикажут.
Ответ банальный, Пайзлу он не нравится, ему кажется, что Петкович метит в него.
– Все так, как прикажут.
– Тебе виднее.
– Что виднее? Почему мне?
– Почему? Ну, например, ты знаешь, придет ли сегодня Елена.
– Елена? Думаю, нет. Не придет, это и ни к чему, сегодня или завтра я выйду отсюда.
– И ты? – удивился Петкович, словно услышал об этом впервые. – Ах да, ты говорил вчера. Я размышлял всю ночь и очень за тебя радовался. Поздравляю, Франё.
– Спасибо! – Неохотно и холодно Пайзл протянул ему руку.
– Значит, мы вместе, вместе. Я пойду к своим шахтерам. Хочешь со мной, Франё? Как было бы здорово основать рабочую партию, радикальную, антиреспубликанскую – только вместе с рабочими можно вести борьбу, но не против императора. Ну как, согласен? Сербия ведет войну и победит. Ее победа укрепит и нас в условиях монархии, только надо, чтобы сербы пришли к нам, укрепили и себя и нас. Ты радуешься, Пайзл.
Пайзлу скучно разговаривать с сумасшедшим о таких вещах. В сущности, его занимает другое: есть ли возможность, когда он выйдет на свободу, обмануть правительство, обвести его вокруг пальца? К Елене это никакого отношения не имеет. Но вопрос Петковича, придет ли Елена, заставил-таки его пожелать, чтобы она на самом деле пришла, чтобы была рядом. Кто знает, как долго это будет продолжаться? Пусть он снова переживет те муки, которые она ему доставила, – она прекрасна и в роли палача. Кто знает, его освобождение может затянуться. Ее приход полезен Пайзлу, потому что, во-первых, он хотя бы на краткое время отвлек бы ее от доцента и напомнил о себе – законном муже, и, во-вторых, убедил бы ее в том, что результаты ее хлопот в Вене не такие уж утешительные, чтобы считать ее спасительницей. Эти и многие другие размышления привели Пайзла к решению послать Елене письмо; тут же был найден и предлог – якобы из-за Марко. «Марко и вправду тяжело болен, хочет тебя видеть». Подействует ли это на нее, которая вчера отказалась увидеться с больным братом?
– Мое мнение, – нехотя выдавил он из себя, – для нас, хорватов, была бы предпочтительнее победа Турции. Но оставим это. Ты бы хотел увидеться с Еленой? Надо ей написать. Ты сам напишешь?
– Написать ей? Великолепно. Но лучше бы ей написал ты. И, пожалуйста, извини, что не пришел вчера, когда она хотела меня видеть. Она звала меня, давно я не видел свою сестренку.
Елена вчера его не звала, хотя Пайзл, желая прекратить объяснения с ней, просил об этом. Она отказалась, а Петковича, который позже узнал от Рашулы о ее приходе, он обманул, сказав, мол, сестра ждала, но его не нашли. Что значит не нашли? Странным казалось это Петковичу и сильно его угнетало, что Елена забыла о его существовании. Но сейчас все в нем бурлило от радости: он увидится с сестрой!
Пайзл, однако, на какое-то мгновение отказался от мысли звать Елену. Вдруг они опять повздорят, и она не преминет обвинить в этом его?
– Эх, совсем забыл, она не придет, не сможет, никак не сможет. У нее репетиция в театре.
– О, эти несчастные репетиции! Ими постоянно занята и госпожа Рендели, поэтому и она не может посетить меня. Всегда обещает и уверяет, что придет завтра, а назавтра опять какая-нибудь репетиция. Хорошо, если бы они обе пришли; могли бы и на автомобиле приехать.
– Непременно на автомобиле, – потешается Пайзл, шурин ему смешон.
– Было бы превосходно. Знаешь, мы бы все мирно уладили. Я согласен на то, чего вы от меня требуете, – зашептал он таинственно. – Я просил Его Величество быть моим опекуном. Да.
– Его Величество, – усмехается Пайзл. Он хорошо знает, что все письма Петковича дворцовой канцелярии попадают в правительственную корзину.
– Думаю, и ты будешь этим доволен. Ты, мой цензор. Мой цензор, – смеется Петкович.
– Какой цензор?
– Цензор моей жизни, ха-ха-ха. Но не смей сердиться, я тебе прощаю. Пойдем же, пойдем. Напишем письмо Елене, – тащит он Пайзла за рукав. А у Пайзла мелькнула мысль, что этот человек, не помешайся он, мог бы давно помирить его с Еленой, может, даже сегодня он мог бы это сделать. Но, кажется, он вообще не так безумен. В нем еще много здравого разума.
Они стояли на том же самом месте, где Пайзл, ссылаясь на своего шурина, пытался обмануть Рашулу. Сейчас Пайзл позволил Петковичу увести себя в здание тюрьмы. Ну, напишут они письмо, что из того? Написать еще не значит послать его.
Вот они уже у самого входа. С поленницы смотрит на них Юришич, особенно на Пайзла, смотрит с таким вызовом, ненавистью и так высокомерно, что Пайзл остановился, готовый принять бой.
– Идем, идем, – тащит его Петкович.
Быть может, Пайзл и не удержался бы, сделал замечание Юришичу, но вдруг увидел, что на него с какой-то странной усмешкой смотрит Рашула, поэтому он только презрительно кривит рот и идет за Петковичем.
Юришичу стало известно, что Пайзл не был утром У Петковича, поэтому-то он так вызывающе мерил его взглядом. Рашула усмехался по другой причине. Дело в том, что незадолго до второго появления Пайзла во дворе он забегал по своим делам в тюрьму, заглянул на второй этаж, где была камера Пайзла, и случайно услышал, как Пайзл передает надзирателю письмо в суд. Воспользовавшись хорошими отношениями с надзирателем, он разузнал, куда адресовано письмо; оно предназначалось члену правительства, о котором он знал понаслышке. Что это могло означать?
Старое предположение Рашулы, что Пайзл не добьется свободы, пока не удовлетворит бог знает какие требования правительства, подтвердилось теперь вопреки всем возражениям Пайзла, заявлявшем о своем освобождении, как о деле решенном, как о том, что вот-вот произойдет. Но если это так, не следует ли изменить тактику по отношению к Пайзлу, не попробовать ли уладить дела с ним после утренней ссоры? Пожалуй, так и следует поступить, а может, и нет – ведь письмо Пайзла могло означать нечто совсем иное. Но что именно?
Действуя скорее инстинктивно, нежели расчетливо, Рашула улыбнулся Пайзлу, как будто искал примирения, и сейчас, после его ухода, сел за стол, но мгновенно вскочил: над могилкой канарейки снова сошлись Юришич и Мачек. Мачек, оказывается, страшно расстроил Майдака своим намерением вытащить из могилки крест. Мальчишеством называет это Мачек, и Юришич с ним соглашается, однако продолжает заступаться за Майдака. У Рашулы нет ни малейшего повода вмешиваться, но он все-таки подошел и оттолкнул Мачека.
– Уважайте могилы, к мертвым следует относиться хорошо.
Мачеку не ясно, шутит Рашула или нет. Голос у него странный, серьезный какой-то.
– Неужели вас так волнуют мертвые канарейки?
– Больше, чем люди вашего сорта, – отрезал Рашула, наблюдая, как его слова подействовали на Юришича и Майдака. – Неужели вы не видели, с каким умилением Петкович смотрел на эту могилу? Ради него надо ее беречь!
– Похвально, что вы так о нем печетесь! – съязвил Мачек, после ссоры чувствуя себя свободнее. – Жаль, Петковича нет здесь.
– Нет, значит, скоро придет. Да как же его нет! – вдруг просиял Рашула. – Вот он, рядом с Мутавцем!
Столпившиеся вокруг них писари враз обернулись, а проворнее всех Ликотич, и по одному потянулись в ту сторону.
Только Майдак медлит. Он и Юришич еще прежде приметили, что Петкович вернулся и пошел к Мутавцу. Но вот и Майдак потихоньку засеменил вслед за Юришичем.
Петкович действительно вернулся во двор и, заметив Мутавца одного в углу, подошел и остановился возле него. Он стряхивает с его пальто пыль, поправляет поднятый воротник.
– Вам холодно? Отчего вам так холодно? Вы дрожите, господин Мутавац.
А Мутавац дрожит не столько от холода, сколько от страха, что этот человек подошел к нему совсем близко, даже чувствуется его дыхание.
– Да, и… и… – хочет он сказать, что и у Петковича воротник поднят. Но сбился и замолчал. Он застегивает пальто на все пуговицы, словно хочет отгородиться от этого человека.
– Но ничего, господин Мутавац, – с улыбкой успокаивает его Петкович, – сегодня будет теплый день. Жаль, что у меня нет с собой шубы, я бы ее вам дал. Вам надо больше бывать на солнце. Еще до наступления зимы вы выйдете на свободу. Да, так и будет, – оживляется он. – А хватит ли у вашей супруги дров на зиму? Да и для ребенка необходимо кое-что, не так ли? Потерпите, сегодня меня освободят, и я сразу же схожу к ней, все улажу. Не дадите ли вы мне ее адрес, господин Мутавац?
Искра доверия и благодарности промелькнула в глазах Мутавца, но только на мгновение. Этот человек наверняка все бы сделал, будь он в разуме, но он сумасшедший. Положим, выйдет он на свободу, не испугается ли Ольга этого сумасшедшего? И не влечет ли его к ней что-то еще?
– Ну, говорите же, – ободряет его Петкович, потому что Мутавац молчит или бормочет что-то невразумительное. – Я вам помогу. Надо бы вас поместить в больницу, больше воздуха, отдых, хорошее питание – все это я вам обеспечу, когда выйду на свободу. Ну что, господин Мутавац, почему вы молчите?
Петковичу кажется странным это молчание, тоска охватила его, испытующе уставился он на Мутавца.
Мутавац, в свою очередь, смотрит на него тупо, леденящий ужас сковывает его от этих крупных, черных, остекленевших глаз. Он не может оторваться от них, ему кажется, Ольга наблюдает за ним со стороны и умоляет отвернуться от пронизывающего взгляда этих страшных глаз. Берегись этого человека! – словно говорит она. Впрочем, она имела в виду Рашулу. И ему хочется спрятаться, но глаза впились в него как два гвоздя с большими, круглыми блестящими шляпками, они приковывают его к месту, уничтожают.
Невдалеке, натянуто улыбаясь, остановился Рашула. Вот так, именно так представлял он себе минуту, когда Петкович встанет перед Мутавцем, и все пойдет дальше как по маслу. Момент самый подходящий, но Петкович не подготовлен.
– Что я вам говорил, – шепнул он Майдаку, который тоже подошел поближе. – Видите, он хочет загипнотизировать Мутавца.
Разве Петкович вправду хочет загипнотизировать Мутавца? – задается вопросом Майдак. С нервной дрожью наблюдает он, как Мутавац, пригвожденный взглядом Петковича, с жалким и глупым видом беспомощно прижался к стене. Майдак ощущает и ненависть и обиду, что им пренебрегают. Он бы пробился вперед, но боится – вдруг писари подстроят какую-нибудь гадость, как в прошлый раз в камере во время спиритического сеанса, когда они не захотели соблюдать тишину и держать ладони на столе, а принялись толкаться, смеяться, щипать медиума за ляжки, а потом, подкравшись сзади, напялили ему на голову ведро. Не получилось бы так и сейчас! Рашулы, разумеется, нечего бояться, а Мачека? Но любопытство и боязнь, как бы Петкович в самом деле не пренебрег им ради Мутавца, были столь велики, что от всех остальных страхов не осталось и следа. Остерегаясь Мачека, он подошел совсем близко к Петковичу и воскликнул испуганно и восторженно:
– Господин Марко, из вас бы вышел великолепный гипнотизер! Хотите меня загипнотизировать?
Еще несколько мгновений Петкович не мигая смотрит на Мутавца, потом вздрагивает с выражением удивления и страха на лице.
– Что с ним? – с тоской прошептал он глухо и, как прежде на Мутавца, устремил взгляд на Майдака.
– У вас получится, получится. Не хотите ли и меня загипнотизировать?
Краткая пауза. Подошел помрачневший Юришич. Розенкранц сел за стол и чешет ногу. Ликотич не отрывает глаз от Петковича. Мачек из-под стола ногой подгреб обглоданный кукурузный початок и катает его по земле. Кажется, что этот початок его занимает больше, чем все остальное на свете. Но зато серые глаза Рашулы смотрят внимательно, напряженно. Мутавца как будто заинтересовало происходящее; ему немного жаль, что он оттолкнул от себя Петковича. У этого человека могла бы появиться возможность помочь Ольге. Телега дров, целая телега дров! Беззвучно движется вокруг каштана цепочка заключенных, большинство взглядов устремлено сюда, в угол.
Петкович махнул рукой, и, кажется, на этом все кончится, не успев начаться. Но вдруг на лице его появилась мягкая и болезненно нежная улыбка, свидетельствующая о том, что этот человек не может никого загипнотизировать, потому что сам загипнотизирован. И в самом деле, после возвращения во двор, он не расставался с мыслью, что его посетит Елена. Он ей не писал письма, отказался это сделать в камере Пайзла. Елена и так придет, он не будет ее просить, это унизило бы его, и для Елены было бы унижением, если бы от нее ожидали того, чего она сама хочет. К навязчивой идее о приходе Елены присоединилось страстное желание, чтобы пришла и Регина; он вернулся во двор оживленный, полный каких-то красивых, неведомых слов, которые он, точно цветы, рассыплет перед Еленой и Региной. Но ему хотелось быть добрым и к жене Мутавца, этой несчастной с ребенком в утробе и с мужем в тюрьме. А Мутавац в ответ только молчит! И в глазах его испуг. Почему? Неужели Мутавац сомневается, что он это сделает? Как странно он смотрел на него, словно удавленник, которого вытащили из петли! Мутавца повесили? По лицу Петковича пробежал страх. Нет, он видит не Мутавца, а себя, ведь это его хотели повесить, но не повесили. Смотри! Вот этот с серыми глазами и красными напульсниками, торчащими из рукавов, именно он хотел его повесить! Поворачиваясь от Мутавца к Майдаку, Петкович скользнул взглядом по Рашуле, который уже несколько дней носит красные шерстяные напульсники. А рядом с ним – Майдак, да, тот самый Майдак, который наверняка всю ночь ожидал, что кто-то будет повешен, чтобы потом его похоронить. Майдак – могильщик, это он утром копал могилу, желтую могилу. Что значит желтая могила? Ха-ха-ха! Я не мертвый, господин Майдак, и я не хочу в желтую могилу. Мы с вами друзья, будем вместе призывать духов, а они явятся к Елене и Регине, живые, живые – и я еще живой, да, живой, вот он я! А вы хотите, чтобы я вас загипнотизировал? Великолепно! Значит, и вы верите, что я жив! Или я для вас только дух? Дух, ха-ха, я не дух, могильщик мой желтый! Напротив, я все еще тот, что и вчера, – живой! И я могу сделать так, чтобы вы заснули и повиновались моей воле. А знаете, чего я хочу? Я хочу загипнотизировать Пайзла, да, его, а еще Елену и Регину, когда они придут сюда. Все они станут добрыми, изменятся, не будут больше равнодушными ни ко мне, ни к другим.
– Вас загипнотизировать? – улыбается он и гладит Майдака по щеке. Взор у него размягченный и рассеянный. Это что угодно, только не взор гипнотизера.
Майдак раскрыл рот, как ребенок, который ждет, что ему положат в него что-нибудь сладкое. Забыв о Мачеке, он подошел еще ближе и стоял, расставив ноги. Блаженство разливается по всему его телу, печальное и теплое. Из открытого рта вырывается сиплое дыхание, будто в горле у него застряла ложка.
– Да, да.
– Сеанс, сеанс! – ликует Ликотич и разражается клокочущим смехом. Он в превосходном расположении духа. Он обнаружил большое различие между собой и Петковичем: Петкович имеет страсть к гипнозу и спиритическим сеансам – для Ликотича это одно и то же, – но сам он об этих забавах решительно не имеет никакого понятия. Точно это всего лишь развлечение, несерьезное, как проделки фокусника, представление. Он сверлит взглядом пальто Петковича, вот бы посмотреть, что у него там внутри.
– Садитесь, Майдак, – странно прозвучал откуда-то издалека голос Рашулы.
Не успел еще Майдак, пятясь назад, сесть на скамью, а Петкович уже повернулся к Рашуле. Тем временем Мачек поднимает початок и, подкравшись сзади к Майдаку, заталкивает его толстым концом ему в рот.
– Мачек! – рявкает Рашула.
Мачек не обращает внимания. Майдак вырывается, задыхается, протестует. Во дворе грохочут – и здесь, в углу, и там, возле каштана, и даже охранник, призывая Мачека к порядку, смеется.
– Это безобразие! – вмиг подскочив и ударив Мачека по руке, крикнул Рашула, и непонятно, смеется он или на самом деле злится. А он зол и взбешен на Мачека, только не решается из-за этой, в общем-то удачной шутки слишком явно показать свой гнев.
– Безобразие? – вспылил Мачек и посмотрел на Рашулу с удивлением. – Что это за новый патрон объявился у Микадо в вашем лице?
Вырвавшись, Майдак вытащил кукурузный початок изо рта, сплюнул грязь и как раньше, когда его унизили в роли медиума, чуть не заплакал.
– У вас нет души… – ничего иного ему, огорченному и потерявшему почву под ногами, в эту минуту не приходило в голову.
Но на него уже никто не смотрит и не слушает. Внимание всех привлек к себе Петкович: он отшатнулся и так замахал руками, что чуть не ударил Мутавца, которому пришлось отскочить в сторону.
– Что вы смеетесь? Вы сумасшедшие, а не я! Довольно вы потешались надо мной! Хватит, не позволю!
Он кричит, и, похоже, слюна брызжет у него изо рта, но губы сухие, они словно опалены огнем. Никогда его не сердили ничьи насмешки. Что это в нем сейчас так изменилось, почему он злится? Именно сейчас, когда над ним никто не смеется!
– Никто над тобой не смеется, Марко, – уверяет его Мачек, предусмотрительно держась подальше от его рук. – Это мы над Микадо потешаемся, над Микадо – не над тобой.
– Здесь нет Микадо, – снова кричит Петкович и переходит на едва слышный шепот. – Ми… кадо, мы когда… Какое там «мы когда», осталось одно «никогда». Никогда больше!
– Что никогда больше? – спрашивает Мачек, совершенно поворачиваясь к Петковичу, потому что с другой стороны за ним наблюдает Рашула, и лицо у него так напряжено, что, кажется, кожа на нем вот-вот лопнет и мясо вывалится наружу, как перья из распоротой подушки.
– Никогда больше, – Рашула медленно подошел к Петковичу и впился взглядом в его глаза, – вы не сможете гипнотизировать Мутавца. Только сегодня. Мутавац ложится в больницу.
– Прошу соблюдать порядок, прошу соблюдать порядок, – продолжает напоминать охранник у ворот, хотя все уже притихли.
Рашула не получает ответа. Внимательно, с тенью печали в глазах вглядывается в него Петкович и закрывает глаза рукой. Он будто утонул в своих мыслях, надолго застыв в таком положении, сохраняя только свое физическое присутствие здесь. И вдруг, словно проснувшись, тихо опускает руку и смотрит. На кого?
– Я знаю, – едва слышно говорит он, – знаю, что он уйдет и никогда не вернется назад. Так же, как ты однажды, – резко повернулся он к Мачеку и широко раскрыл глаза. – Ты ушел от меня рассерженный и никогда больше не был моим другом.
– Когда это я рассердился на тебя? – удивился Мачек. – Никогда, никогда я не переставал быть тебе другом.
– Я знаю, – повторяет Петкович убежденно и протягивает руку. – Когда я отказался продать тебе долговые расписки, а ты обиделся. Но я тебя прощаю, Мачек. Видишь, я не сумасшедший, а так нуждаюсь в друге, который меня не покинет в моем страшном «никогда больше». Да, в друге.
Голос его дрожит, он полон тепла, но и страха, что его оттолкнут. Мачек готов был разыграть роль обиженного, но, окинув взглядом всех вокруг, он только подмигнул, как бы говоря: что мне еще остается? И он пожал протянутую руку Петковича.
– Я тебе друг, Марко.
– Этого недостаточно, Мачек, – проворчал Рашула, взбешенный, что его номер с Петковичем не прошел. – Надо поцеловать его. Иудиным поцелуем доказать дружбу.
– Ты мне не друг, – у Петковича перехватило дыхание, он вырвал руку, замер и словно онемел.
– Это вы-то о Иудином поцелуе? – с изумлением взглянул Мачек на Рашулу, от растерянности он не знал, что ответить Петковичу. – Однако это уж чересчур! Иуда – вы, да, Иуда! – шагнул он к Рашуле, горя желанием расплатиться за все сегодняшние угрозы, которые волновали его все меньше.
– Я никогда не называл себя его другом. Вы бредите, – с оттенком досады смеется Рашула. – Если вы забыли, то не забыли мы. Господин Юришич свидетель, как вы говорили о своем друге, когда его здесь не было.
– А вы? – возмущается Мачек. – Что вы сами говорили о нем все утро? Вы больного человека хотите оставить здесь для того, чтобы… Вам, должно быть, приятно смотреть на его муки?
– Что вы тут сочиняете?
– Я не сочиняю. Поэтому вы и говорили о симуляции, а вот зачем – это ваша тайна, известная вам одному.
– Нет здесь никакой тайны, бедный мой Мачек, – овладел собой Рашула; в присутствии Юришича такой оборот дела ему неприятен. – А если бы, предположим, она была, то вы забываете, что как мой бывший служащий и секретный агент страхового общества вы не обязаны знать все дела своего шефа.
– Я ваш агент? Докажите, докажите!
– Lassen Sie, Herr [30]30
Позвольте, господин ( нем.).
[Закрыть]Рашула!
– Докажу в суде, не здесь. И тут уж все будет без подвоха, не в пример вам. Смешно, будто я кого-то хочу задержать. К сожалению, мое мнение здесь ничего не значит.
– Перестаньте! К чему вы выдумали, что Мутавац отправляется в больницу? Об этом никто ничего не знает.
Рашула действительно придумал это в последнюю минуту, и теперь ему самому неловко. Но ему не до объяснений.
– Даже если он не отправится в больницу, вы-то уж непременно попадете в другое место, – едва сдерживаясь, чтобы не закричать, подавляя ярость, проговорил Юришич. – Господин Петкович, оставьте этих нелюдей, они вам не друзья! Все, что они говорят, вас совершенно не касается.
Юришич считал, что должен был это сказать, потому что Петкович отшатнулся и весь дрожит, глубокие морщины прорезали его лоб, лицо помрачнело, как грозовая туча, готовая пролить крупные, неторопливые и тяжелые капли дождя. Этот человек может заплакать? Сейчас перед всеми? Похоже, это на самом деле произойдет. Что-то в нем сжимается, как будто кровь застывает и мягкие кровеносные сосуды твердеют, превращаются в железные прутья, много прутьев. Он словно втиснут в тюремную решетку. О, прочь, прочь, на свободу, к свету – а так все темно, черно, как в полночь! Он гибнет, тонет куда-то, откуда нет возврата. Вытащите меня! Разве никто не может меня спасти? Боль висит на нем, как камень, и тянет на дно. Это слезы свешиваются с его ресниц, словно свинцовые гири. Он судорожно схватился за руку Юришича, как за спасательный круг. И улыбнулся. Туча рассеялась, проглянуло светлое небо, залитое солнцем. Еще мгновение, и Петкович смеется, смеется сквозь слезы.
– Знаю, господин Юришич, все это меня не касается. Но касается того, второго Марко Петковича! Вы его не знаете, вы, может быть, только слышали о нем. Но почему он должен погибнуть, почему его, как канарейку, сажают в клетку, в желтую клетку, а потом в желтую могилу, в сумасшедший дом? Ведь и он ни в чем не виноват. Подождите, на кого он похож? – взгляд Петковича заскользил по двору, он оглядел всех заключенных и остановился на Мутавце. – Нет, это не он. Его здесь нет, верно, его пока нигде нет. Если, конечно, господин Майдак его уже не похоронил. Но я его найду, я его выкопаю из могилы. Неправда, что его никогда больше не будет, он снова появится, еще лучше, но дайте ему свободу и другие, более здоровые условия жизни. Он должен быть где-то здесь, среди нас, похожий на меня, сейчас еще тень, а потом свет, сейчас еще свет, а потом сияние…
В состоянии восторга, словно впал в транс, с отсутствующим взглядом, устремленным куда-то в неизвестность, медленно освободившись от рукопожатия Юришича, он вышел из онемевшей группы писарей и, оглядываясь по сторонам, сопровождаемый пристальными взглядами, зашагал нетвердой походкой по двору.
– Haluziniert [31]31
Галлюцинирует (нем.).
[Закрыть], – шепелявит Розенкранц и гримасничает, как будто собирается что-то сделать, но боится.
Юришич стоит тихо, словно не дышит. Лицо кривится от судороги, он чувствует, что и сам готов заплакать. Кажется, что он отпустил сейчас не человека, а привидение, да и сам он вроде привидения. Да, здесь всякая доброта – привидение, загоняемая реальностью в могилу. Вот она, эта реальность, вокруг него.
– Теперь можете продолжить ваши рассуждения об Иуде, господа Искариоты. Жертва уже на кресте, – он поворачивается в сторону Мачека и тут же сталкивается взглядом с усмехающимся Рашулой. – А вы, возжелавшие видеть его здесь как можно дольше, посмотрите на него! Занятно смотреть, как люди страдают ради других.
– Занятно другое, – бросает ему Рашула через плечо. – Как вы легко вдруг набрасываетесь на Мачека!
Мачек что-то мямлит. Измученный, Юришич молча оставляет их и идет к поленнице, откуда виден весь двор и можно наблюдать за Петковичем. Мутавац насторожился в своем углу. В память ему врезалось, что здесь говорили о том, что ему нужно в больницу, из которой он никогда больше не вернется. У ворот охранник вполголоса выражает сочувствие Петковичу и призывает заключенных к порядку, недовольный, что они следят за ним и перешептываются. За Юришичем плетется Майдак, его словно окатили ушатом воды. Хоть в голове у него все перемешалось, он уверен, что только ему дано понять Петковича. Транс, транс! А на душе у Майдака горько, вместо ясности – мгла; приторно-сладко было у него во рту, когда он его открыл, наблюдая за Петковичем, а сейчас он чувствует тошнотворный вкус крови – Мачек початком разодрал ему нёбо. Униженный медиум, униженный и раненый. Почему Юришич не защитил его от Мачека? Почему не пожалел его, как Петковича, жалеть которого просто нелепо?
Не переставая улыбаться, бродит Петкович по двору, ищет своего двойника. Где же этот другой Петкович? Может, я и есть двойник? Я? Ему смешно и приятно. Догадка мелькнула, когда он остановился над могилкой канарейки: уж не двойник ли, то есть он сам, похоронен здесь! Долго стоит он над могилкой. Голубиное воркование донеслось до его ушей, он посмотрел вверх: ни он сам, ни тот, второй, не в могиле – они сейчас высоко, летят, купаются в свете, разносят приветы, цветы колеблются и, касаясь друг друга, позванивают.
Он сел на толстое полено, обросшее зеленым мхом. Над ним Юришич, а с другой стороны нависает над ним Майдак, но Петкович этого не замечает. Что-то напевает, скорее мысленно, чем вслух. Вытащил из кармана книгу стихов Гейне, открывает ее. И как будто тонет в терпких, дурманящих запахах, хмелеет, безмолвно погружаясь в свои мысли.
В эту минуту во дворе наступает тишина – так внезапно воцаряется молчание в шумной компании, когда входит кто-то неизвестный. И действительно, во двор вошел, точнее приплелся из здания тюрьмы, человечишко, старый, в потертом желтом плисовом пальто, в крестьянских штанах и опанках, носки которых сильно загнуты вверх. Добродушное, очень наивное лицо, с типично выпяченными скулами, с желтоватыми и растрепанными вислыми усами, зыркает глазами по двору – видно, что этот человек здесь еще не освоился. Суетливо, никого ни о чем не спрашивая, – боится, видно, – собирает он у поленницы, недалеко от Петковича, инструменты, необходимые для распилки дров. И все он делает так осторожно, что тишина во дворе кажется еще более глубокой. Слышится только равномерный топот шагов вокруг каштана. Как будто этот круг – часы, и они глухо тикают. И все становится еще тише. Светлее и тише.
Солнце – словно золотая лейка, из которой невидимый садовник в голубом плаще поливает струями света весь двор, как садовую клумбу. Октябрьское утро, но изумительно тепло, как будто далеко на юге. И воробьи откуда-то припорхнули сюда и вдали от голубей оживленно чирикают, как цикады в густых пиниях, озаренных солнцем. Это утро перебирает струны лиры, словно безымянная солистка на пустынном берегу моря прикасается пальцами к сладкозвучным струнам волшебного инструмента.








