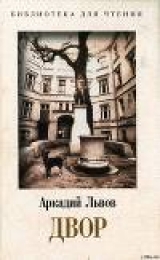
Текст книги "Двор. Книга 2"
Автор книги: Аркадий Львов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 28 страниц)
Ефим сидел на своем стуле, обнял себя своими руками, как будто озяб, и тихонько покачивался из стороны в сторону:
– Когда там, на вечере, вы вспомнили годы до войны, Осоавиахим, форпост, я повторял себе: какое счастье, что на свете еще живет наша Малая.
Клава Ивановна тяжело вздохнула: да, там на вечере она действительно говорила, но одно дело – праздник, юбилей, а другое дело – жизнь, и не надо смешивать.
– Но почему, – Ефим затряс руками над головой, – почему Граник, у которого больше ничего на свете не осталось, должен отсюда навеки уехать, а какие-то посторонние люди, которым все равно Одесса или Чебоксары, имеют право здесь жить!
– Ефим, – сердито сказала Клава Ивановна, – мне не нравится твой тон: ты ведешь себя, как помещик, которому полагаются усадьба и дом по наследству, и не хочешь понимать, что мы живем в другое время. И никогда не хотел понимать.
– Мадам Малая, – Ефим зажмурил глаза, лицо сделалось неподвижное, как маска, – что Граник должен был понимать и не хотел? Какие миллионы он выиграл в своей жизни и отказался поделиться? Покажите людям тайник, где Ефим Граник прячет свое украденное счастье, и верните хозяевам.
Клава Ивановна опять повторила, что ей не нравятся эти пустопорожние разговоры, а гость продолжал настаивать и требовать ответа, тогда она не выдержала, рассердилась и прямо сказала:
– Да, ты бедняк, и всю жизнь был капцан. Но Дегтярь прав: в глубине души Граник всегда оставался хозяйчиком, которому просто не хватало сметки, а так бы он сделался лавочником, завел бы себе свою мастерскую, и на остальное ему плевать.
Ефим почесал пальцем лоб, улыбнулся, как дурачок, и положил свои руки, на ладонях большие желтые мозоли, перед собой:
– Это от шпателя и кистей, с ранних детских лет. Война порезала Граника на мелкие куски, от него ничего не осталось, и все равно тридцать лет подряд Граник – мелкий хозяйчик и держит свою лавочку. Счастливчик!
Да, подхватила Клава Ивановна, счастливчик, потому что только советская власть позволила Ефиму Гранику остаться честным тружеником, хотя он немало потрепал нервы и заставил людей повозиться.
– И все-таки, – воскликнул Ефим, – как хищный волк, одним глазом он норовит в лес!
– Болтун, – махнула рукой Клава Ивановна. – Язык без костей.
Из горисполкома товарищ Дегтярь принес важную новость: Львов и Севастополь вызывают Одессу на соревнование по благоустройству и чистоте. Это накладывает на всех одесситов, и конкретно на наш двор, который расположен в Сталинском районе, особые обязательства. Отныне каждому, кто не дорожит честью родного города и своего двора, будет указано: скатертью дорога из нашей Одессы.
По решению домкома, тройка – Ляля Орлова, Степан Хомицкий и Катерина Чеперуха – снова обошла все квартиры, заглянула в каждый угол, осмотрела чердаки и подвалы. На ближайший выходной назначили общедворовой воскресник, у ворот поставили дежурного, чтобы можно было проконтролировать, кто уклоняется или под каким-нибудь благовидным предлогом пытается увильнуть.
Еще до обеда посреди двора собралась такая гора мусора и хлама, что люди невольно хватались за голову и повторяли: не может быть, чтобы это они сами, это подбросили агенты из Львова и Севастополя!
Для вывозки пришлось нанять транспорт, каждая семья внесла по пять рублей, машина сделала несколько ходок, снег под колесами за день так перемешался с пылью и грязью, что стал черный, как земля.
На прощанье Катерина Чеперуха подошла к Гранику и в присутствии Ляли Орловой еще раз предупредила: из его комнаты к ним опять перебежала мышь, она специально оставила в мышеловке, чтобы показать соседям, и если он не примет меры, пусть пеняет целиком на себя.
Ефим возмутился:
– А где доказательство, что это мышь Граника, а не ваша собственная! Может, она вам показывала свой паспорт?
– Фима, – Ляля скривилась, как будто ей в рот сунули что-то горькое, – достаточно посмотреть вашу квартиру!
– Знаете что, – вдруг засмеялся Ефим, – я на вас всех положил дом и дачу, и еще впридачу!
Час или полтора после этой сцены Ефим сидел у себя в комнате, рисовал на бумаге разных чертиков, немного послушал радио – передавали, что в Туркмении задерживаются с ремонтом сельхозтехники, а весенние полевые работы в климатических условиях Средней Азии уже на носу, – подрихтовал крышку рукомойника, забил пару гвоздей в стул, чтобы не съезжало сиденье, но в душе по-прежнему не проходило тяжелое чувство, наоборот, даже усилилось. Он немного привел себя в порядок, почистил ботинки, надел свежую рубаху и поднялся к мадам Малой.
Клава Ивановна встретила приветливо, сказала, если бы не ее возраст, могли бы подумать, что навещает любовник, так Ефим зачастил, но тут же сама опровергла эти подозрения: с таким лицом ходят не к любовнице, а на кладбище. Гость молчал, Клава Ивановна несколько секунд внимательно рассматривала и спросила:
– Что с тобой? В чем дело?
Ефим поднял правую руку и показал большим пальцем назад, в сторону двери:
– Они меня преследуют. Они хотят меня выжить. Клава Ивановна рассердилась:
– Перестань говорить глупости! Никто тебя не выживает. Ефим снова поднял руку, показал большим пальцем назад и повторил:
– Они меня преследуют. Они сказали, что выгонят меня.
– Дуры! – еще больше рассердилась Клава Ивановна. – Я поговорю с ними так, что в другой раз им не захочется. Скажи мне, ты ужинал? Я хочу выпить с тобой стакан чаю.
Клава Ивановна налила из термоса, чай был не очень горячий, но гость попросил ложечку, набирал в нее, дул, чтобы остудить, и сладко причмокивал.
– Фима, – мадам Малая укоризненно покачала головой и вздохнула, – тебе пора жениться. И надо взять такую жену, которая хорошо держала бы тебя в руках.
Остаток из термоса хозяйка налила гостю, он по-прежнему пил с ложечки и причмокивал.
– Перестань чмокать, – рассердилась мадам Малая, – надо иметь железные нервы, чтобы выдержать тебя!
От неожиданности гость вздрогнул, невольно прижался к спинке стула, хозяйка подошла к нему, подергала за ухо, как будто в детском саду, и опять повторила:
– Фима, тебе надо жениться.
– Нет, – закричал ни с того ни с сего Ефим, – я не уйду отсюда! Я вижу вас всех насквозь, напрасно лелеете свои козни! И можете передать своему Овсеичу: я его не боюсь, я никого не боюсь!
– Глупый человек, – Клава Ивановна сплела пальцы и выставила руки вперед, – при чем здесь Овсеич?
– При чем здесь Овсеич? – Ефим вскочил как ошпаренный. – А при том, что он стоит сейчас возле дверей и подслушивает каждое слово. Вот!
Ефим распахнул двери, было впечатление, будто в самом деле что-то промелькнуло, Клава Ивановна машинально выглянула, но надо было окончательно сойти с ума, чтобы хоть на одну секунду поверить в эти дурацкие подозрения.
– Слушай меня, – сказала Клава Ивановна, когда оба немного успокоились, – завтра или послезавтра я с тобой сама зайду к Дегтярю, и ты увидишь своими глазами, что твои фантазии и действительность – это как небо и земля.
На другой день Ефиму пришлось отстоять у себя на заводе дополнительно почти целую смену – надо было срочно закончить покраску сухогруза «Ленинский комсомол», – потом Клаву Ивановну схватил жестокий кашель, старуха заходилась до посинения, а тринадцатого января радио и газеты сообщили об аресте большой группы видных врачей, которые долгие годы орудовали в армии и органах здравоохранения, и люди были так потрясены, что не могли уже говорить ни о чем другом.
Опять на передний план выплыла история с Ландой, и теперь не требовалось большого ума, чтобы увидеть одну общую цепь – Москва, Ленинград, Одесса и все другие города, где эти убийцы и бандиты имели свою агентуру.
В доме у Зиновия был настоящий траур, отец и сын ходили, как пришибленные, а бабушка Оля десять раз на день хлопала руками и повторяла:
– Чего им не хватало! Деньги, дачи, машины, трехкомнатные квартиры – и все им мало, не могут нажраться и напиться. Бандиты, ой, бандиты!
Катерина вначале не принимала участия в разговорах, лишь посматривала на Зиновия, ожидая первого слова от него, но, в конце концов, не выдержала и сама обратилась:
– Молчишь? Молчальник. Теперь тебе чего: только молчать.
Ефим несколько дней держался особняком от всех, нельзя было близко к нему подступиться, но с расстояния тоже хорошо было видно, какие камни давят человеку на сердце. Невольно начинали одолевать прежние опасения, как бы он опять не наложил на себя руки, и старый Чеперуха буквально силой ворвался к нему в комнату, чтобы услышать, наконец, от него слово.
– Ефим, – с порога закричал он. – Люди уже забыли, какой у тебя голос!
– Уходите, – прошептал Ефим, – уходите.
– Фима, – Иона готов был заплакать от обиды, – со мной ты говоришь на «вы»! Боже мой, так надо было дожить, чтобы это услышать!
– Уходите, – повторил Ефим, – уходите, ради бога. Чеперуха сел за стол, подпер обеими руками голову и уставился неподвижным взглядом в черный репродуктор на стене. Ефим громко, будто нестерпимая боль, застонал, Иона поднялся, включил радио, передавали «Сказки Венского леса», музыка Иоганна Штрауса, и в комнате стадо как-то веселее.
– Красивая музыка, – сказал Иона. – Слушаешь и не верится, что на земле еще столько бардака. А! Кто бы раньше мог подумать на нашего Ланду!
Ефим сидел на кушетке, ноги по-турецки, глаза блестели, как черный воск под пленкой воды, Чеперуха пожал плечами и сказал: просто не укладывается в голове, как среди евреев, которые больше всех пережили от фашистов, могли оказаться такие изверги и выродки.
– Если подтвердится, – Ефим опустил ноги на пол, – если подтвердится, что это правда, нас еще мало резали.
Иона четверть минуты смотрел молча, стараясь поймать взгляд Ефима, но не дождался и спросил:
– Кого «нас»?
Ефим подошел к ведру, зачерпнул кружку воды, жадно выпил, слышно было, как внутри булькает, и вернулся к себе на кушетку.
– Если бы я тебя не знал, – старый Чеперуха выпрямился во весь рост, открылась шея, жесткая, словно из дубленой кожи, – я бы сказал, что ты низкая сволочь.
Ефим опять скрестил ноги по-турецки, подбородок уперся в грудину, из глаз выкатились две слезы, огромные, как летние капли дождя.
– Ладно, – сказал Иона и присел рядом, – не обижайся: мне тоже больно. Не меньше, чем тебе.
Музыка кончилась, начали передачу о расцвете национальной культуры Якутии. В царское время огромная страна, равная по площади всей Западной Европе, не имела своей письменной литературы, а ныне один лишь богатырский эпос якутского народа «Олонхо», содержащий более двадцати тысяч стихотворных строк, записан в десятках вариантов. Общий тираж книг превысил миллион экземпляров, число библиотек в республике составляет более ста, причем около половины из них – в сельских местностях.
– Ефим, – обратился Иона, – ты когда-нибудь видел живого якута? Мой Зиновий в Сибири часто встречал их: хорошие ребята, всегда улыбаются, а по-русски говорят так чисто, что только по лицу можно отличить.
Ефим согнулся, прижал обе руки к животу, как язвенник, когда начинается приступ, Иона вдруг хлопнул себя по колену и рассмеялся:
– В санаторий «Аркадия» приехал один якут. Там, у себя, он известный охотник, его премировали путевкой в Одессу. Врачи смотрят, он день не кушает, два не кушает, три не кушает. Наконец, всполошились и спрашивают: что такое, почему вы отказываетесь от пищи? Оказалось, во-первых, он не может обедать без спирта, там на семидесятиградусном морозе он так привык, а, во-вторых, ему нужен кусок сырого мяса. Сырое мясо содержит в себе много витаминов, иначе у него выпадут все зубы от цинги.
– Ну, – спросил Ефим, – дали?
– А что же, – опять засмеялся Иона, – человека премировали, чтобы он в Одессе умер с голоду! Облздрав написал специальный приказ.
Передача про Якутию закончилась, диктор объявил, что через минуту концерт: песни народностей Дальнего Востока – луораветланов, коряков и нивхов. Иона немного послушал, сказал, что все песни, как одна, так похожи, и пожелал хозяину спокойной ночи. Ефим просил захлопнуть дверь, радио оставил включенным, укрылся байковым одеялом, сверху тужуркой, а то ночью в комнате собачий холод, и задремал. Во сне привиделась Одесса, август тридцать седьмого года, когда закончили строительство форпоста, Ося читал стихи собственного сочинения на торжественном вечере, Соня зарумянилась от гордости за своего сына, а Хиля прижималась сбоку к маме и смотрела на брата во все глаза.
Ефим испытывал удовольствие, какого давно уже не было, несколько раз возникало подозрение, что это сон, но тут же он проверял себя, специально заводил разговор с Малой, с Котляром, Хомицким, Лапидисом, подошел к Дегтярю, поделился своими глупыми опасениями, а тот в ответ поднял его на смех: у Ефима Граника все не как у людей – когда ему слишком хорошо, он говорит, этого не может быть, это просто сон.
В шесть часов радио возобновило свои передачи, сыграли гимн, потом диктор пожелал доброго утра и начал читать последние известия. Со всех сторон поступали сообщения о трудовых вахтах в канун двадцать первого января. Труженики Кузнецкого горнообогатительного комбината взяли на себя обязательство выполнить месячный план не позднее тридцатого числа. Еще более возрос в эти дни спрос читателей на произведения Ленина и Сталина в заводских библиотеках Макеевки, Джезказгана, Тквибули и других промышленных центров.
В клубах и дворцах культуры организованы выставки и стенды, на которых представлены многочисленные материалы, фото, репродукции, посвященные великому содружеству Ленина и Сталина.
Диктор сделал небольшую паузу, послышалось легкое шуршание, будто переворачивают страницы, и через секунду торжественным голосом, как в годы войны, когда передавали приказ Верховного Главнокомандующего об успешном наступлении наших войск, объявил: Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении врача Тимашук Лидии Федосеевны орденом Ленина.
Ефим стоял возле рукомойника и уже взял кусок мыла в руки, но невольно остановился, хотя вполне можно было одновременно и мыться, и слушать. Потом, будто кто-то нарочно вытолкнул, мыло выпало из рук, ударилось о край ведра и отлетело далеко в сторону. Ефим машинально наклонился, диктор как раз произнес слова «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц», перед глазами на миг потемнело, сердце ударило под горло, казалось, вот-вот выпрыгнет через рот, он поднял мыло, смочил водой и развел обильную пену. После рук, с особенной тщательностью, вроде собирался в театр или на концерт, он помыл уши, лицо, шею, отдельно затылок и кадык, вытер насухо, взял помазок, бритву «Золинген», два толстых человечка стоят друг к другу животами, и прислонил зеркальце к стакану, чтобы удобно было смотреться во время бритья. Мыльная пена густыми хлопьями обложила щеки, торчал лишь один нос, глаза сделались совсем черные, словно вставили два кружочка из черного мрамора, Ефим прошелся по одной щеке, по другой, снял мыло на ладонь, задрал подбородок, губы напряглись, уголки опустились книзу, свободной рукой взял себя за нос, слегка прихватил верхнюю губу, поднес бритву немного выше кадыка, дернул слева направо, в глаза ударила вспышка молнии, в горле хрустнуло, громко забулькало, все тело подбросила резкая судорога, и свалился на пол.
Вернувшись с работы, Иона взял сегодняшний номер газеты «Знамя коммунизма», по-старому «Большевистское знамя», новое название дали после девятнадцатого съезда, и решил зайти к Ефиму: даже если он слышал сообщение по радио, газета – это газета. Иона нажал кнопку и, пока ждал, чтобы открыли, перегнул лист в том месте, где напечатан Указ, портрет Ленина остался на другой половине. Ефим не торопился открывать и пришлось нажать еще раз. Слышно было, как играет радио, похоже на «Варшавянку», любимую песню Ильича, Иона позвонил в третий раз, теперь уже можно было разбудить мертвых, и приложился ухом к двери.
Песня кончилась, радио на секунду умолкло, из комнаты не слышно было ни звука, ни шороха, диктор объявил, что симфонический оркестр исполнит «Апассионату» Бетховена, у Ионы нехорошо екнуло сердце, он постучал кулаком в филенку, но результат был прежний.
Можно было допустить, что хозяин еще не вернулся с работы, хотя это не было похоже на Ефима – уйти из дому и оставить радио на целый день включенным. Кроме того, сквозь щели пробивался свет, значит, лампочка тоже горит.
Зиновий с Катериной ушли в кино, не у кого было даже спросить, видели сегодня Ефима или не видели. Иона в растерянности потоптался у одной двери, у другой, наконец, решился, побежал домой, принес топор, задвинул между створками, отжал рукоять в сторону, казалось, еще миллиметр и сломается, но, слава богу, язычок выскочил из гнезда, и дверь отворилась. От большого сотрясения внутренняя дверь сама распахнулась, Иона остановился у порога, и первое, что бросилось в глаза, – это кровать и тужурка, которая валялась поверх одеяла.
– Ой! – Иона схватился за сердце, заставил себя сделать два-три шага вперед, опять закричал «ой!», и тут ему показалось, что он сходит с ума: скрюченный, голова в луже крови, Ефим лежал на полу, стеклянные глаза смотрели куда-то мимо, далеко-далеко.
Иона стал на колени, взял обеими руками голову Ефима, прижался губами и заплакал, как маленький ребенок: тряслось тело, дергались плечи, напала дурная икотка, и никак нельзя было унять.
Через час приехала машина, Иона со Степаном помогли вынести тело, лицо накрыли полотенцем, у ворот толпились соседи, одни хотели рассмотреть получше, другие, наоборот, не выдерживали и отворачивались.
На следующий день из морга сообщили, что можно забрать покойника, но никто не приехал: Иона Овсеич был за то, чтобы хоронить прямо оттуда, а Малая, Хомицкий, Чеперуха не соглашались и требовали сначала привезти домой. В конце концов Иона Овсеич уступил, и на третий день Ефима доставили во двор. Пришло несколько человек с завода, принесли с собой два венка, один очень красивый, из свежей хвои, другой обыкновенный, бумажные цветы и бумажные листья, ленты были из черного полотна с большими золотыми буквами: «Уважаемому Ефиму Лазаревичу Гранику от друзей и товарищей по работе».
Соседи тоже собрали по рублю на венок, кроме того, Малая, Чеперуха, Хомицкие и Аня Котляр дали от себя отдельно еще по венку. Дина Варгафтик принесла два вазона с геранью и поставила у покойника в головах.
Товарищ Дегтярь сказал: слишком много почестей, можно подумать, что хороним человека с особыми заслугами.
– Дегтярь, – Клава Ивановна смотрела на Ефима, глаза были печальные, – человек умирает один раз.
Ефим Граник не умер, ответил Иона Овсеич, он сознательно покончил с собой, причем выбрал для этого особый день, чтобы подчеркнуть.
– Сознательно выбрал день, – покачала головой Клава Ивановна. – Нашим врагам его рассудок, пусть они выбирают так.
– Овсеич, – попросил тихим голосом, от которого полшага до крика, старый Чеперуха, – давай дадим ему спокойно полежать хотя бы в гробу.
Товарищ Дегтярь закрыл глаза, нижнюю губу прикусил зубами, Клава Ивановна поручила Чеперухе подготовить двери, чтобы не пришлось возиться в последнюю минуту.
Вынос назначили на три часа. Оставалось минут пятнадцать. Тося привела Лизочку, первая подошла к гробу и поцеловала Ефима в губы.
Потом вдруг прижалась лицом, вся задрожала, видно было, что плачет и не в силах остановиться, Клава Ивановна подняла за плечи и приказала взять себя в руки, Лизочка смотрела на своего папу, на окружающих, как будто плохо понимает, тетя Тося велела поцеловать отца, больше никогда не увидит, и опять задрожала – в этот раз долго и сильно, пришлось дать нашатырь.
Лизочка стояла на одном месте, бабушка Малая повторила, чтобы поцеловала и попрощалась, сама взяла за руку, подвела вплотную, ладонью нажала на головку, рассыпались черные локоны, и немного подержала в таком положении. Лизочка подняла голову, быстро перекрестила папу, Клава Ивановна даже не успела остановить, и отошла в сторону.
– А, – махнул рукой Иона, – ему уже все равно.
Степан положил крышку на гроб, прихватил двумя гвоздями и дал команду, чтобы поднимали. Пока мужчины пристраивались, бабушка Малая, а за ней остальные женщины – Ляля, Дина, Марина, бабушка Оля, Катерина – поочередно прижимали к себе Лизочку, целовали в щеки, в головку, утешали разными словами и говорили, чтобы слушалась и любила свою тетю Тосю, которая заботится и не меньше предана, чем родная мать.
Гроб свободно прошел в дверь, все выстроились в одну линию и подняли его над головой, до ворот несли на руках, а там ждал грузовик, который прислали с завода. Чуть подальше стоял небольшой автобус, тоже заводской: кто хотел, мог сесть и ехать на кладбище. Степан посмотрел, какая собралась толпа, и сказал, что мужчинам придется устраиваться на открытом грузовике, но, когда все желающие разместились в автобусе, оказалось еще достаточно свободных мест.
Грузовик с гробом и венками поехал вперед. Иона сел в кабину к шоферу, а с автобусом получилась небольшая заминка: Клава Ивановна специально держала место для Дегтяря и просила немного подождать, потом послала Степана на розыски, время шло, и, наконец, посыльный вернулся с сообщением, что товарищ Дегтярь отказался наотрез.
Ехали долго, кружным путем через Слободку, поскольку улицу Фрунзе возле Дюковского сада сильно занесло снегом. У женщин замерзли руки, ноги, невольно брала досада на себя: необязательно было ехать, достаточно было попрощаться дома и проводить до ворот.
Место дали плохое, где-то у черта на куличках: дальше начинался пустырь, вокруг валялись обломки мрамора с черными еврейскими буквами, куски гранита, битый ракушняк и порожние банки из-под серебрина и битумного лака.
Гроб поставили на землю, могильщики велели побыстрее, еще полно работы, а уже темнеет, заправили веревку, взяли за четыре конца и готовы были опустить, но тут подошел старый еврей, предложил прочитать муле и спросил, как имя покойника. Клава Ивановна назвала: Граник Ефим Лазаревич. Могильщики сказали: «Меер, не крути ейер и давай в темпе», – старик закрыл глаза, поднял голову, как будто слепой, оперся на свою палку и затянул тонким, весь в трещинках, голосом:
– Искор элогим нишмас або мори Хаим бен Лейзер шеолах леоломо, баавур шеани нодер цдоко баадо… им нишмос Аврум, Ицхок ви Иаков… Омейн.
Провожающие поблагодарили старика, каждый дал, сколько мог, рабочие опустили гроб в могилу. Клава Ивановна бросила ком земли, за ней Иона, Степан и остальные, сначала удары были гулкие, потом все глуше, землю стали сгребать лопатами, через минуту на месте ямы высился небольшой холмик, края с двух сторон срезали, сверху положили венки, Тося расправила ленты, чтобы можно было прочитать имя, и пошли к воротам. Остался один Адя, минут десять-пятнадцать он слонялся вокруг, подбирал обломки, очищал от снега – русские слова, еврейские слова, арабские и римские цифры, – вернулся к могиле, лег на венки, обнял руками и горько-горько заплакал. С северной стороны, недалеко от Новомосковской дороги, закричал женский голос, на миг утих и вдруг перешел в настоящую истерику с воплями, причитаниями и диким воем.
Адя отломил веточку хвои, оторвал черный бумажный листок, положил в карман и направился к выходу. У ворот резвились собаки – одна черная, как смоль, остальные коричневые с пятнами седины, – кувыркались в снегу и добродушно урчали. Рядом с кладбищем бульдозеры расчищали площадку, немного дальше экскаваторы рыли котлован, грузовики с прицепами подъезжали со стороны Заставы, самоходный кран опускал свой крюк с тросами, двое рабочих аккуратно крепили, кричали «вира!», громоздкая конструкция подымалась в воздух, на несколько секунд повисала неподвижно, затем поворачивалась вместе со стрелой, покачиваясь туда-сюда, и медленно опускалась на землю.
На огромном белом щите красными буквами было написано: «Выполним и перевыполним решения исторического XIX съезда!» Чуть пониже был прибит кусок фанеры, тоже с надписью: «Строительство завода „Автогенмаш“ ведет СМУ-504».
После похорон люди собрались в комнате у Ефима на поминки. Дина Варгафтик пожимала плечами: среди евреев так не принято и вообще дико; старый Чеперуха отвечал, что у Ефима от евреев остался один брис и место на третьем еврейском кладбище. А стопку московской водки покойный любил и сам был бы не прочь.
Первую минуту сидели молча, тяжелые лица, неподвижные глаза, потом Степан громко спросил, не пора ли наливать. Иона взял графинчик, наполнил стопку Клаве Ивановне, себе, Оле, Дине, передал Зиновию, и, пока наполняли остальные, поднялся и сказал:
– Дорогие соседи! Дорогие гости! Только что мы проводили нашего Ефима в последнюю дорогу, из которой никто не возвращается. Одни говорят, там сильно хорошо и потому не возвращаются. Другие говорят: какой смысл возвращаться в этот мир? Но никто не торопится, каждый оттягивает, сколько может, и надо было иметь такую жизнь, как у Ефима Граника, чтобы добровольно наложить на себя руки.
Иона вытер слезу, поднял стопку, пожелал покойному, чтобы земля ему была пухом, и опрокинул. Гости сделали то же самое, начали закусывать и понемногу завязался разговор. Ляля подошла сзади к мадам Малой, зашептала на ухо, та кивнула в ответ, попросила минуточку внимания и, сидя на своем месте, обратилась к присутствующим:
– Товарищи, мы любили нашего Ефима от всего сердца. Это правда, у него была нелегкая жизнь: он потерял свою семью, жену, детей. Но не он один, наряду с ним миллионы и миллионы. А с другой стороны, наши люди, рискуя своей жизнью, спасли ему дочку. Когда пришло время вернуться в Одессу, его не оставили на улице: ему дали комнату, дали работу, на передовом заводе, а недавно завком решил выделить ему новую комнату со всеми удобствами. Здесь сидят товарищи с завода, они могут подтвердить.
Товарищи подтвердили и еще добавили, что Ефим был всегда на хорошем счету, пользовался уважением в коллективе, хотя имел свои странности.
– Не только странности, – сказала Клава Ивановна, – а кое-что побольше. И это – самое главное, что привело его к безрассудному поступку, а не какая-то особенная, тяжелая, как изображает наш Чеперуха, судьба. По-своему Ефим Граник прожил неплохую жизнь, и тут наш двор сыграл не последнюю роль.
С другого конца стола кто-то невольно ударил в ладони, люди зашикали, опять наступила тишина, только слышно было, как стучат вилками и хрустят на зубах соленые огурцы. Динина собачка Альфочка жалобно заскулила под столом, хозяйка почесала ногой спинку, бросила кусочек колбасы и подтвердила слова мадам Малой: действительно, Ефиму совсем не так плохо жилось, есть немало людей, которые могли ему еще позавидовать. А ее Гриша, такой жизнелюб, такой весельчак, должен был погибнуть в первые дни войны.
Через полчаса женщины хорошо отогрелись, немного повеселели. Иона, Степан и еще двое товарищей с завода сложились между собой, вручили Аде семьдесят рублей, он добавил кое-что из своего кармана, сбегал на Тираспольскую площадь и принес три бутылки, закуски было достаточно. Потом сложились еще раз, бабушка Оля сверкала глазами на Иону, а он поднял перед собой стакан, держа в вытянутой руке, и размахивал:
– Люди! Нет больше на свете Фимы Граника и никогда не будет!
В конце концов Иона совсем раскис, разорвал на себе новую сатиновую рубаху и кричал, что все мы сволочи и лярвы, но самый первый – Чеперуха: он видел, как Ефиму жмет сердце, и бросил на произвол судьбы.
От этих криков у людей опять испортилось настроение. Клава Ивановна велела Зиновию увести отца, чтобы не позорил семью, а Иона припал на грудь сына и так зарыдал, что у других тоже невольно выступили слезы, даже сама Клава Ивановна не могла сдержаться.
Тося смотрела пустыми, невидящими глазами, осеняла себя мелким крестом, Степан дергал за руку и требовал прекратить, а то люди вокруг смеются. Марина Бирюк вступилась за Тосю: дуракам закон не писан, пусть смеются, когда другие плачут.
Прибежал Лесик: от папы телеграмма – завтра прилетает. Марина схватилась за сердце: ой!
Старого Чеперуху сын увел домой, настроение опять пошло вверх. Ляля, Дина, Оля поздравляли Марину, Степан присоединил несколько слов от имени мужчин и, как обычно, не пожалел перца. Марина зарумянилась, весело засмеялась, тут же прикрыла рот ладонью, Клава Ивановна нахмурилась и сказала: пора по домам.
Когда уложили детей и сами легли, Катерина спросила Зиновия:
– Что будем делать с комнатой Граника?
Зиновий не ответил, повернулся спиной, дернул за шнур подвесного выключателя, свет погас. Минуты две молчали, Катерина опять дернула за шнур, свет зажегся, и повторила:
– Что будем делать с комнатой Граника?
Зиновий лежал на боку, лицом к стене, Катерина потянула за плечо и сказала: если в этом доме нет мужика, она сама возьмет топор и снесет перегородку.
– Слушай, – Зиновий поднял голову, – человек еще не остыл. Как ты можешь?
– Это моя комната, – сказала Катерина. – Когда Граник приехал, а Бирючка даже не захотела открыть дверь, я дала ему приют: отрезала кусок от себя, от своих детей – и дала.
Зиновий повернулся на спину, глаза смотрели в потолок:
– А двадцать лет назад здесь была прачечная, потом сделали форпост, и украшал дядя Фима, Оськин папа, и так украсил, что детям было приятнее, чем у себя дома.
– Это моя комната, – повторила Катерина. – Моя и моих сыновей, и я не хочу знать, что было у вас сто лет назад.
Зиновий лежал рядом, худое лицо, высокий лоб, кончик носа чуть-чуть опущен, на щеке отдельные веснушки, точь-в-точь как у Гриши, Катерина сладко потянулась, обняла рукой, прижалась и прошептала:
– Сумасшедшие люди. Сколько можно цепляться за старую Одессу! Ты не заберешь комнату – другие заберут.
Утром Катерина опять заладила свое. Пришла бабушка Оля, мальчикам пора было в детский сад, она специально оттягивала, чтобы поддержать Катерину, которая в этот раз была права с ног до головы, с какой стороны ни посмотреть. Зиновий отмалчивался, как будто воды в рот набрал, Катерина заявила, что сама пойдет к товарищу Дегтярю, в жилотдел, в горсовет, и пусть попробуют отказать.
Ключи от комнаты покойного забрала Клава Ивановна. Днем заглянули Тося с Лялей и просили никому не отдавать: комнату надо сохранить за Лизочкой, девочка растет, слава богу, уже тринадцатый год. Клава Ивановна призадумалась и сказала: хорошо, но надо оформить через горсовет.
– Почему оформить? – удивилась Ляля. – Это же комната родного отца.
Родного, двоюродного, передразнила старуха, какая разница: такого закона нет, чтобы маленькие дети имели на свое имя отдельный ордер. Тем более, фактически девочка живет у других.
Тося сидела с опущенной головой, у Ляли на лице было открытое возмущение.








