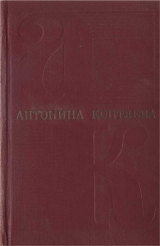
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 49 страниц)
– Я знаю. И по году лежат. Поэтому лечение шейки бедра чаще всего осложняется воспалением легких. О пролежнях говорить нечего. Но что же вы предпринимаете? Тоже гвоздь?
– Да, гвоздь. И наши больные садятся в постели уже на шестой день. – Решетов опять взъерошил свою прическу – после первой рюмки он больше не пил и был совершенно трезв. – Сейчас я работаю над усовершенствованием аппарата, правда, несложного, но необходимого для этих операций. Когда все будет готово, пригласим вас, и вы посмотрите.
– Я не стану ждать, когда все будет готово, а на днях загляну к вам.
– Пожалуйста! Если хотите, пойдем сейчас. Я буду оперировать перелом шейки.
– Леонид!
– Что, Раечка?
– Хватит с вас лечения горбов! А то, я вижу, этот гвоздь уже засел и в твои мозги!
– Дела нам хватает, но я все равно пойду с Григорием Герасимовичем!
«Она готова наложить лапу и на его работу, – подумал Иван Иванович. – Как Варя… Ох, уж эти женщины! Толкуют о равноправии, а так и норовят проявить свою верховную власть!» Но ему не хотелось думать плохо о Варе, и он, зная цельность ее характера, сказал себе: «Иногда желание добра проявляется и в деспотизме».
А Варя, притихнув и, словно теплый щенок, прижавшись к его боку, размышляла:
«Я хотела стать не только женой Ивана Ивановича, но и верным, полезным товарищем его по работе. А он взял да и увлекся болезнями сердца. Теперь мне придется трудиться обособленно. И мало того: придется все время выслушивать о нем разные разности, дрожать за него. Мало ли новых операций вошло в практику после войны, не хвататься же за всякое новшество!.. Имею ли я право молчать? Нет, я не могу спокойно глядеть в глаза матери ребенка, погибшего на его операционном столе, и не могу равнодушно наблюдать, как он растрачивает свои силы. А он, вместо того чтобы образумиться, начинает интересоваться еще более страшными вещами – охлаждением больного перед операцией».
– О чем ты размечталась? – Иван Иванович легонько встряхнул ее. – Ты как будто заснула с открытыми глазами.
– Я думала о тебе.
– Что же ты думала?
Варя вспыхнула, не умея ловко вывернуться, и сразу почувствовала: ласковая рука, лежавшая на ее плече, точно одеревенела.
– Вас Иван Иванович не совратил на сердечную хирургию? – спросил Злобин Решетова.
– Да как сказать. – Решетов рассмеялся, взгляд его, брошенный на Аржанова, выразил почти нежность. – Во всяком случае, он меня посвятил в тайны этой области. Для роли ассистента я подготовлен, иногда помогаю. Раньше помогал в черепно-мозговых операциях. Ведь неплохо я вам ассистировал?
– Очень даже неплохо.
– Молодыми нашими хирургами вы, кажется, довольны. Он двух ординаторов совершенно поработил: сначала они на нейрохирургию нацелились, а сейчас подавай им сердце, и никаких! Я шучу, конечно. Они еще не оперируют, но от стола не отходят, – продолжал Решетов, который даже расцвел и помолодел, когда зашел разговор об операциях. – Теперь есть у Ивана Ивановича ярые единомышленники: Пека – это белоголовый младенец двадцати четырех лет от роду, и Назарыч, месяцев на пять постарше. У Пеки, то есть у Петра Петровича, частенько головные боли, так Назарыч одно время серьезно подозревал у него опухоль в области турецкого седла. Вот что значит одержимость! Вы слыхали, конечно, о таком седле? – спросил Решетов Раечку.
– Что за глупости? – усомнилась она.
– Отчего же глупости? Если хотите знать, у вас есть и конский хвост, и собачьи ямки. А турецкое седло – это место в черепе, над которым перекрещиваются зрительные нервы, идущие от глаз к затылку. Опухоли, которые там возникают, очень труднодоступны. До них добираются, приподнимая лобные доли мозга…
Иван Иванович, слушая Решетова, опять взглянул на Варю, увидел грустно-оживленное выражение ее лица и невольно вздохнул. Он, правда, отошел от нейрохирургии, хотя по-прежнему болел ее проблемами: слишком сложным оказалось освоение операций на сердце.
– Но от нейрохирургии я совсем не отойду, – сказал он задумчиво. – В свое время она тоже нелегко мне далась. Придешь, бывало, с работы, ляжешь спать, а перед тобой лица перекошенные, черепа окровавленные. Уснуть невозможно. Думаю: ну ее! А утром встанешь – и опять за то же. Великое это дело! Если бы Бетховен попал в руки нейрохирургов, он бы не оглох: у него была водянка мозга. Знаменитый математик Пуанкаре тоже страдал ею.
– А что было у писателя Николая Островского? – спросила Галина Остаповна. Она обсуждала с соседями Аржановых новую пьесу, поставленную в театре Вахтангова, но снова заинтересовалась разговором хирургов, услышав о Бетховене.
– У Островского развилась травматическая водянка мозга. В наше время его могли бы спасти.
– Вот как. Это вам не трехлопастные гвозди. – Злобин шутя подтолкнул в бок Решетова.
33
В травматологическом отделении клиники Гриднева, помещавшейся в хирургическом корпусе городской больницы, тесно. Даже в просторных коридорах поставлены койки.
– Не хватает мест, – оправдываясь, сказал Решетов. – Наплыв народа в Москву чрезвычайно большой, а больницы-то старые.
– У нас тоже тесновато, – спокойно отозвался Злобин.
– Подготовили Лычку? – спросил Решетов встретившегося ординатора.
– Только что увезли в операционную.
– Интересный старикан… Фамилия его – Лычка. Белорус. Видно, работяга. Всю жизнь плотничал, а по старости в сторожа перешел, – рассказывал Решетов, входя в предоперационную. – Упал он с навеса и сломал шейку бедра. Просто бич для пожилых людей эти проклятые переломы! Но при нашем методе лечения больные выходят из больницы через тридцать – сорок дней на собственных ногах. Многие сохраняют трудоспособность.
– Ну-ну! – подзадорил Злобин, представляя себе недовольство Раечки, оставшейся ждать его у Аржановых.
– Никаких «ну-ну»! Мы уже во многих случаях применили метод сколачивания переломов шейки. Чтобы обеспечить правильное введение гвоздя, предложили усовершенствованный прибор – направитель. – Решетов сразу помрачнел, вспомнив свои последние мытарства. Нет, не с распростертыми объятиями встретили его коллеги в Ученом совете Минздрава. – Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Хотя польза очевидная. Выходит, прав Иван Иванович, что безразличие хуже всякого консерватизма.
– Посмотрите рентгеновские снимки Лычки, – предложил он Злобину, приступая к мытью рук. – Видите, какое смещение отломков? Тут сращения без хирургического вмешательства никогда не дождешься!
– Случай паршивый и, к сожалению, типический, – согласился Злобин, разглядывая на пленке очертания сломанного тазобедренного сустава.
– Надо поставить на место оторванную кость и скрепить ее с отломком головки, лежащей в вертлужной впадине. – Решетов подошел и посмотрел через плечо товарища на снимок, приколотый к раме окна. – Видите, в какой мере они не совпадают в переломе? Здесь никакое вытяжение не поможет. Значит, срастания не получится, а вертлуг все грубее будет смещаться в сторону и причинять больному бесконечные страдания. Человек обречен на вечную неподвижность.
Злобин знал длинную предысторию лечения этих переломов, сам часто сталкивался с ними на практике, но, как многие хирурги, не верил в применение металлических скреп. Костный мозг принимает участие в кроветворении – и вдруг вколотить туда гвоздь!
– Сейчас совсем другая картина получается! – говорил Решетов, готовясь к операции.
«Подожди ты хвалиться!» – мысленно одернул его Злобин, в котором боролись желание успеха товарищу и боязнь неудачи, вызванная крепко усвоенными старыми понятиями.
«Конечно, нелегко пожилому человеку пролежать несколько месяцев в гипсовом панцире – от груди до кончиков пальцев ног. Пролежни образуются – это точно. Мышцы истощаются и мертвеют – это точно. В легких образуются отеки и воспаления – факт неопровержимый. Сращения не получается, или оно происходит неправильно. Так отчего же мы продолжаем такое лечение? – возмущенный собственной косностью, думал Злобин. – Чего ради ополчаемся на „металлическое“ направление?»
– Введя в шейку бедра трехлопастный гвоздь, мы так надежно соединим отломки, что, если дорогой товарищ Лычка начнет дней через пять двигать поврежденной ногой, это не нарушит полного покоя в области перелома. И никакого гипса! – говорил Решетов, уже стоявший у операционного стола.
«Дорогой товарищ Лычка», худощавый, костистый дед, только поводил большим носом, крючковато загнутым над ватным клочком бородки, да охал, пугливо следя за действиями докторов, окруживших стол. Наслушавшись рассказов о тяжести своего повреждения, он уже считал себя конченным человеком и покорно предоставлял лекарям укладывать его тощее тело, как им заблагорассудится. Операция делалась под спинномозговым обезболиванием.
– Мы вводим гвоздь в сломанную шейку вертлуга, не обнажая отломков. Сложность состоит в том, чтобы он вошел правильно, надежно связав отломки, и принял бы на себя положенную долю тяжести всего тела. Поэтому мы столько внимания уделили созданию специального прибора – направителя. Вот он! – Решетов показал инструмент, похожий на циркуль с угломером и прицельной спицей, и взял с подноса гвоздь – стальной стерженек, сантиметров десять в длину, с тремя продольными лопастями. – С помощью направителя и обыкновенного молотка я введу его под контролем рентгена в кость по оси шейки бедра. Направитель позволяет производить удары молотком далеко от операционной раны.
– Только ты, доктор, полегче молотком-то! – неожиданно подал голос Лычка, успевая и стонать и слушать. – Мне ведь уже семь десятков, как бы не рассыпаться.
– Мы сколачивали больных, которым было и по восемь десятков.
– Вот ведь грех какой! – пробормотал старый плотник. – Нас, таких, в ящик пора бы заколачивать, а мы норовим еще да еще пожить. Или ваша машинка и для молодых гожа?
– Гожа. Мало ли несчастных случаев с молодежью…
– Эдак! Не зря говорится: бойкий сам наскочит, на смирного бог наведет…
Передвижной рентгеновский аппарат уже установлен возле операционного стола. Один из ассистентов под наблюдением Решетова вправляет отломки, определяет направление для гвоздя и нужную его длину.
Потом Решетов, сделав разрез на бедре больного, сверлит углубление в кости вертлуга и ставит в него ориентир направителя. Снова рентген, гвоздь вколачивается внутрь, а головка его закрепляется на кости с помощью накладной пластинки и шурупов.
– Говорят, что удавались попытки скреплять эти переломы длинным винтом, – тихонько заметил Злобин с чувством странного недоумения: слишком простой показалась ему операция при исключительной сложности травмы…
«Как же так: столько людей на моей памяти хирурга отправлялось на тот свет из-за этого проклятого перелома, и вдруг: раз-раз молотком – и вроде починили».
– Завтра больной уже начнет делать общую лечебную гимнастику, – накладывая шов на рану, не отвечая на замечание товарища, сказал Решетов.
– Шутите!
– Отчего же? Это наше правило для больных. Сейчас уложим его в постель, согреем, под коленный сустав валик подложим, а завтра – гимнастика.
– Это кто будет делать гимнастику-то? – подал голос Лычка, еще не опомнясь после всех потрясений. – Я сроду ею не занимался. А теперь уж устарел, да еще поломанный.
– Ничего, займешься. Надо полностью восстановить движения ноги.
Только выходя из операционной, Решетов с ревнивой досадой спросил приятеля:
– Винт? Вы ведь представляете губчатое строение кости вертлуга? Вашей Раисе Сергеевне я бы сказал: «Сахарная косточка»… Винт разрушит окружающее его хрупкое вещество и не сможет держаться в нем плотно. Кроме того, он станет вращаться по оси. А наш трехлопастный гвоздь там не повернешь!
Решетов вымыл руки, бросил полотенце на табурет и задумался, насупленный и взъерошенный, точно индюк, широко расставив под халатом длинные ноги в полотняных бахилах-чулках.
«Даже самые близкие люди относятся к новшествам с недоверием».
– Вы-то как думаете? – поинтересовался он, зная, что Злобин сам работает над новой проблемой в медицине.
– Пока ничего не думаю. Вот посмотрю вашего деда… Решетов вздохнул, но сказал покорно:
– Ну что ж! Приходите через шесть дней.
34
После ухода гостей Варя ни одним словом не попрекнула Ивана Ивановича за то, что он умолчал о Ларисе.
Уложив Мишутку и прибрав в комнате, они еще долго не спали.
– Мне с детства каждый вечер было жалко ложиться спать. Закроешь глаза – и шесть, а то и восемь часов долой из жизни. Только ты примирил меня с этой необходимостью… – сказала Варя, сидя у стола в халатике, с браслетом на руке. Она откровенно радовалась подарку, любуясь им, как ребенок новой игрушкой. И все сейчас радовало ее: экзамены закончены, впереди интересная работа, дома семья любимая. Поэтому хочется день продлить. Ведь такой день не повторится!
Иван Иванович, тоже довольный, улыбнулся, понимая состояние жены.
– Как тебе сегодня понравилась Раечка? – неожиданно спросила она, играя миниатюрной цепочкой браслета.
– Дура набитая. Да-да-да! Ты не верь в ее начитанность. Я не любил Паву Романовну на Каменушке, но та против этой – ангел во плоти.
– Пава изменяла своему мужу, а Раечка нет.
– Я уверен, что и добродетель тут показная. Не для Леонида она накручивает на своей башке разные фитюльки. Ему на них некогда любоваться.
– Ой, как ты грубо!..
– На башке-то? Как же еще? Голова у человека умного. Недаром говорят: он с головой. Головка? У ребенка или у такой женщины, как ты. А у Раечки дубовая башка, напичканная безжизненными обрывками знаний. Мы ее разглагольствования терпим только ради Леонида, а она отбивает его от нас всеми силами.
– Может быть, у нее патологическая ревность?
– Бывает. Например, на почве алкоголизма. У здорового человека – от распущенности. – Иван Иванович нахмурился, и Варя поняла, что он вспомнил прошлое и свою драму с Ольгой. – Презираю людей, которые заедают чужой век! – с силой сказал Иван Иванович. – Все можно перестрадать, но нельзя терпеть, чтобы топтали чувства близкого человека.
Варя вспомнила его тяжелые переживания, когда Ольга полюбила другого, а он оказался лишним между ними, «третьим», как назвал его однажды Тавров, и вспомнила боязнь Ольги перед его возвращением из тайги. Но он не помешал ее счастью и ни разу не оскорбил ее нового мужа. Горячее чувство захлестнуло Варю.
– Ты знаешь, встреча с тобой – самое большое событие в моей жизни! – прошептала она. – Ты научил меня жить и работать, сделал меня счастливой!
– Я рад, если ты в самом деле счастлива.
– Очень. А ты!
– Я тоже. Но… – Он подумал о разногласии с нею по поводу его новой работы, о том, что Лариса Фирсова уже достигла большего, чем он…
– Но… – поторопила встревоженная Варя.
– Я во многом недоволен собой. Ты пойми: это не стремление возвыситься над другими. Не дает мне покоя желание в полную меру послужить народу. Вот меня очень радует новая работа Решетова… Когда я увидел того молодого человека, шагающего на костылях через шесть дней после перелома ног, я расцеловал Григория Герасимовича. Были такие ученые, как Пирогов, Павлов, Бурденко. Каждый из них создал свою школу в медицинской науке. Есть ученые, всю жизнь работающие над одной проблемой и сделавшие замечательные открытия, а мы с Решетовым идем уже намеченными, но еще не проторенными путями.
– И недовольны собой, – перебила Варя с легкой усмешкой. – А как же должны чувствовать себя мы, с робостью вступающие на проторенный путь? Ты овладел очень многим… – Она внезапно умолкла, поняв, что сейчас опять может обидеть мужа. Однако недомолвка дошла до него.
– Как ты не можешь усвоить то, что для меня работа дороже самой жизни?
Он встал, прошелся по комнате, снял часы, долгим взглядом посмотрел на торопливо бегущую секундную стрелку.
– Поздно уже.
– Это для нас поздно, – с наигранной бодростью сказала Варя. – Добрые люди на нашем месте оглушали бы теперь соседей плясом и песнями. А мы только собрались, и сейчас же о работе. Один раз такой вечер в жизни, и то у гостей нашлась причина сбежать.
35
«Зря я согласилась переговорить с ним. Пусть бы Ольга Павловна сама… А то получится, будто я воспользовалась болезнью Наташи как предлогом для встречи».
Но колебаться было уже поздно, и Лариса, слегка постучав, открыла дверь в кабинет Аржанова.
Он стоял спиной к двери. Крутые плечи, обтянутые халатом, резко вырисовывались на фоне большого окна. В руке его был журнал с пометками дежурных врачей и сестер, но хирург, свирепо насупясь, смотрел в сторону. На утренней конференции главный врач больницы профессор Круглова громила работников хирургического отделения. Больше всех попало Решетову за «блатные дела» с заказами гвоздей.
«В чем дело, товарищ женщина? – снова и снова вопрошал Иван Иванович. – Нельзя же всерьез принимать то, что Круглову взвинтила профессор Тартаковская, высмеяв ее на заседании в Министерстве здравоохранения. Подумаешь, авторитет – Тартаковская! Да шут с ней и с тобой вместе! Мы сами пойдем к министру, к президенту Академии медицинских наук, в горком партии и докажем…»
Легкое постукивание каблуков по полу, крытому линолеумом, вывело Ивана Ивановича из раздумья, заставив его обернуться.
– Лариса Петровна!
Он растерялся: сейчас должен зайти Злобин, и Варя хотела забежать, прежде чем ехать на работу в госпиталь. Волнуется она. Подбодрить ее надо! И вдруг Лариса Петровна здесь! Что подумает Варя?!
Эти мысли мгновенно пронеслись в голове хирурга. Но перед ним стояла женщина, любимая в прошлом, к которой он и сейчас относился с теплым уважением, да и только ли с уважением?!
– Здравствуйте! Как это вы?.. Каким ветром вас занесло к нам?
– Я по серьезному делу, – сразу сказала она, словно боялась, что ее заподозрят в навязчивости. И рукопожатие ее, и голос были спокойны, только лицо казалось бледным. – Встретила Ольгу Павловну, вашу бывшую жену, и она попросила меня поговорить с вами о Наташе Чистяковой. Помните, дружинница в Сталинграде?..
– Еще бы не помнить! Да вы садитесь. – Иван Иванович торопливо придвинул стул. – Извините за невнимательность: я расстроен – такая у нас сегодня была перепалка!.. Что же сообщила Ольга Павловна?
Лариса рассказала о заболевании Наташи. Все, чем горела она в последние дни, вдруг погасло. Она не испытывала никакой радости от новой встречи с Аржановым и только рассматривала в упор его уже немолодое лицо, мужественное и доброе, с морщинами в углах рта, на висках и над высоким переносьем. Как часто она думала о нем в эти годы! Какое кипение чувств подняла в ней недавняя встреча! А вот сидит около него, разговаривает с ним и… спокойна.
– Я позвонила в лабораторию и там узнала адрес вашей клиники, – говорит Лариса и краснеет: ведь она давно уже это знает. – Теперь вы сделаете для Наташи все, что можно, – заключает она и встает, сразу охваченная волнением.
Да, она потому и была спокойна, что наконец-то увидела его, сидела рядом, разговаривала с ним. Но вот надо уходить, и опять надолго, надолго…
«А я не хочу! А я не могу без тебя!» – говорили ему лихорадочно блестевшие ее глаза, и такая горячая тоска светилась в них, что Иван Иванович отвел взгляд. Тогда он заметил, что губы Ларисы, никогда не знавшие краски и оттого по-юному свежие, точно опалены дыханием. Он совсем насупился, даже сгорбился виновато, будто хотел стать меньше, и увидел нервно стиснутые руки Ларисы с побледневшими от напряжения суставчиками.
– Вы не беспокойтесь. Я напишу Коробову, чтобы он привез Наташу, – сказал хирург и даже обрадовался, объяснив себе причину ее волнения. Не j мог он думать, что она волнуется из-за него. Теперь это было бы ужасно. Да-да-да! Я все сделаю, как надо. Так и сообщите Ольге Павловне.
В этот момент и вошли в кабинет Варя со Злобиным.
– Здравствуйте! – сказала Варя Ларисе, тотчас узнав ее и побледнев от неожиданности.
В растерянности Варя даже не посмотрела на мужа, вернее, лишь скользнула по его лицу невидящим взглядом.
– Здравствуйте, Вар… Варвара Васильевна! – Лариса крепко сжала странно вялую руку своей боевой подруги.
Даже то, что она помнила отчество скромной фронтовой сестры, которую никто в госпитале так не величал, сказало о многом настороженной ее сопернице.
– А со мной? – напомнил, улыбаясь, Злобин.
Странно, почему Лариса не узнала его! Он сразу почувствовал возникшую неловкость и вспомнил короткую заминку за столом у Аржановых, когда упомянули о Ларисе.
– Рада вас видеть, Леонид Алексеевич! – Но лицо Ларисы не выразило радости: оно было бледно и неподвижно.
– Вы, значит, условились с Варей встретиться здесь? – бухнул Злобин невпопад.
– О чем условились?
– Варя получила назначение к вам в госпиталь, – вмешался Иван Иванович, преодолев внутреннее смятение.
– В глазное отделение ординатором, – подтвердила Варя и, тоже собравшись с силами, посмотрела на мужа. Лицо его выражало доброе внимание.
Нет, не мог он обманывать! Это невозможно! Ведь она умрет с горя. Но почему он ни слова не сказал ей о Ларисе! Почему она у него сейчас?
«Ну, объясни, пожалуйста. Не могу я спросить при всех… Ведь ты видишь, как мне трудно!» – мысленно взмолилась Варя.
Иван Иванович понял ее.
– Лариса Петровна пришла по просьбе Ольги Павловны, – сказал он (вот еще и Ольга обнаружилась!) – Они хотят, чтобы я посмотрел Наташу Чистякову.
– Ой! – со всей непосредственностью, радостно вырвалось у Вари.
– Что с Наташей? – спросил Злобин. В голосе его прозвучала тревога, будь здесь Раечка, она бы его не пощадила.
Спохватилась и Варя.
– Плохо Наташе?
– Плохо. – Иван Иванович задумчиво насупил брови. – Похоже, черепно-мозговая опухоль.
– Наташа очень страдает, а у них с Коробовым двое крошечных детей. Ольга Павловна рассказывала: они теперь все вместе живут в красноярской тайге. На том же руднике работает Платон Артемович Логунов, – не очень связно говорила Лариса, улыбаясь через силу Варе и неловко пошутила: – Ольга Павловна сказала, что он до сих пор верен вам…
36
– Я пришел посмотреть деда Лычку, которого прошлый раз оперировал Григорий Герасимович, – заявил Злобин. – Вам, наверно, тоже будет интересно, – обратился он к Ларисе и Варе.
– Еще бы! – Иван Иванович сразу забыл о личных отношениях. – Нам сегодня такого перцу задал главный врач больницы! Мы привыкли работать без склоки и даже заблагодушествовали – вот и встряска, чтобы не обрастали жирком. Если в дело вмешается совет министерства, то нашему шефу нелегко будет отбить все наскоки. А такое важное дело! Ты хочешь, Варя, взглянуть на этого больного?
– Да. А вы? – уже приветливо обратилась Варя к Фирсовой.
– Я с удовольствием, – согласилась Лариса, от души благодарная Злобину за его предложение. – Алешка? О, уже совсем, совсем взрослый человек!
– А какой у нас сынище! – с гордостью сообщила ей Варя, когда они, пройдя по широкому коридору, входили в кабинет Решетова.
– Это Мишутка-то? – Решетов встал навстречу из-за стола, окруженного ординаторами, и, разглядев лицо новой гостьи, по-женски всплеснул большими руками: – Лариса Петровна, голубушка, наконец-то удостоили вниманием! Я уже досадовал: думал – так и не зайдете, забыли старых друзей! Еще раз поздравляю с успехом. Чертовски рад за вас, ведь я всегда верил в ваше будущее! – Он обернулся к друзьям и сказал: – Я бы Ларисе Петровне за ее работу звание профессора дал, а не только кандидата. Умница, правда?
– Правда, – ответила Варя, вспомнив работу Ларисы в полевых госпиталях и думая о том, что могла сделать она сейчас, с чем ее надо поздравить.
– Я не знал. От души рад, что вы преуспеваете, – сказал Злобин.
«А я-то хорош! Знал о ее успехах, да и не поздравил», – подумал Иван Иванович.
Теперь сделать это было уже неудобно, и доктор промолчал, но ощущение вины перед Фирсовой и смутная обида за нее остались.
Обогретая сердечностью Решетова, Лариса сразу почувствовала себя свободно: в чем дело, она, талантливый хирург, имела право в любое время прийти в медицинское учреждение познакомиться с работой старого коллеги. При чем же здесь смущение Аржанова, растерянность Вари, неловкость, испытанная ею самой? Ведь не в дом к ним вторглась она незваной гостьей, а как врач зашла в клинику. Конечно, можно определить Наташу в Институт имени Бурденко, но и здесь делаются нейрохирургические операции и обстановка прекрасная. К тому же Наташа хорошо знает Аржанова как хирурга и верит ему. Может быть, ей и не понадобится операция. Тем лучше!
А Варя думала о своем:
«Иван Иванович не умеет притворяться. Ему двух слов лживых не связать. Зачем же мучить себя и его подозрениями? Он, наверное, и без того нервничал, ожидая моего прихода, – знал ведь, как мне будет больно увидеть их вместе».
– Вот полюбуйтесь! – сказал Решетов в палате, куда они вошли белой гурьбой, и, подойдя к койке, широко развел руками. – Какой герой! Ну-ка, покажитесь нам, Захар Иванович!
Захар Иванович Лычка лежал на койке, уставя на врачей сивый клин бороденки. На изможденном лице его, под пучками белых бровей, похожих на усы, светились усмешкой линяло-голубые глаза.
– Прошел отсюда дотуда и жив покуда, сразу два чуда.
– Давай посмотрим на твои чудеса. – Решетов подвинулся ближе, откинул край одеяла. – Можешь пошевелить правой ногой?
– Еще бы тебе! – Старик ничего не боится, пока шевелится, а ляжет в домовину – и вовсе хоть кол в спину.
Болтая, Лычка приподнял босую ногу, старчески жилистую и тонкую в короткой штанине кальсон.
– А левую?
– Можно и левую! – Старик поднял и вытянул другую ногу с такой же задубевшей подошвой и торчащими костистыми лодыжками.
Решетов обернулся к Злобину и Ларисе, победоносно подморгнул рыжевато-карим глазом.
– Как видите, подвижность обеих ног одинаковая.
– Это был перелом шейки бедра, – сказал Злобин Ларисе, с интересом смотревшей на больного.
– Да, перелом шейки бедра. Сдать бы поскорее в производство наш усовершенствованный инструмент, тогда многие смогут его применять. – Лицо Решетова неожиданно вытянулось, помрачнело, и он добавил с горечью, показав на Лычку: – Вот как будто хорошее дело делаем, а получаем за это по шеям!
– Зачем по шеям? Я, например, таким делом предовольный, дай тебе бог здоровья, – истово произнес старик. – Я думал – шабаш, не встану. У нас один плотник сломал ногу, когда с лесов сверзился… Зайду к нему, бывало, лежит с задранной ногой, как пистолет, в коленке спица насквозь продета, да еще гири чугунные к ней подвешены. Месяца три, поди-ка, все лежал – целился в потолок. А у меня, гляди, того хуже: шейка какая-то внутре поломалась! Как это понимать? Стало быть, костяной болт, на котором нога держится?..
– Болт от слова «болтать»! Не в колено ставится спица, а в кость голени, пониже коленной чашечки. Ох, любишь ты поболтать, дедушка! – мягко упрекнул Решетов, невольно улыбаясь.
– Грешен, не отрицаюсь. Язык-то, слава богу, без костей – не ломается. Теперь, когда вы мне вместо костяной шейки железную приспособили, я еще поживу и поглаголю, само собой.
– Ну поглаголь.
– Вы когда… – заговорила было Лариса.
– Поломался-то? Да ноне утром семь ден исполнилось. А вот уже выскребаюсь с койки. Как раз перед вами пробовал слезать. И слез. Подналег на костыли, пять шагов туда да пять обратно. Вслух считал. Десять шагов сотворил, весь потом облился и скорей марш под одеялку. Тоже и боюсь, кабы не свернуться набок. Упадешь – и, помилуй бог, гвоздь из шейки обратно выскочит, и пропадут тогда наши труды с Григорь Герасимычем.
– Сколько же вам лет, Захар Иванович? – спросил Злобин, подсаживаясь к больному и осторожно сгибая его сломанную ногу.
– А ты не бойсь, – подбодрил Лычка, – лежа-то я очень свободно ею двигаю. А лет мне – семьдесят третий пошел. Сторожем я на базе. Вот и дернула меня нелегкая влезть на анбар. Задралось там железо, гремит от ветра, внимание на посту отвлекает. Дай-ка, думаю, устраню неполадку. Прибил и на навесик благополучно слез. А там Полкашка ждет – помощник мой. Я его научил, на свою голову, по лестницам ходить. Он за мной по собачьей возможности и лазит везде. Стал я с навесика спускаться, а тут кто-то шелохнись за забором. Ну, Полкашкино дело известное… Ка-ак бросится, да со всей силы меня под коленки. Я и покатился!
– Вот посмотрите! – сказал Иван Иванович, взяв у рентгенолога снимки.
И все стали разглядывать черные полупрозрачные пленки.
– На днях у нас умерла больная с таким переломом… Учительница, – тихо сказал Злобин. – Почти восемь месяцев пролежала. Совсем нестарая женщина, лет сорока. Да, как обычно в таких случаях, воспаление легких.
– А профессор Тартаковская решила опорочить нашу попытку применять активный метод лечения! – сердито хмурясь, сказал Иван Иванович.
– Не опорочить, а подвергнуть, так сказать, серьезной критике, – произнес кто-то за спинами хирургов сипловатым баском.
Такие голоса не раз слышала Лариса на Волге…
«Чалку, чалку отдай, разиня!» – кричал, бывало, не то простуженным, не то пропитым басом капитан катера или парохода, вздымавшего волну у пристани.
Лариса обернулась, рядом стоял полный человек среднего роста, с обрюзглым, очень белым лицом. На висках под докторской шапочкой блестели рыжеватые волосы, короткая шея пряталась под вторым подбородком, выпирающий живот приподнимал и слегка разводил в стороны полы ослепительного халата. Глаза доктора зеленели над набухшими веками, точно две ягодки крыжовника. Взгляд их, устремленный на незнакомых врачей, светился хитренько и колко.
– Это заместитель нашего главного врача по хозчасти. Прохор Фролович Скорый, – отрекомендовал Иван Иванович. – Имя у него хотя и простое, но трудно выговаривается, поэтому его зовут тут коротко: Про Фро.
– Очень приятно, – сказал Про Фро Злобину, а Ларисе еще и улыбнулся, добавив: – Слышал о вас. Прекрасные дела творите.
– У вас тоже замечательное дело. – Злобин кивнул на Лычку, который сидел на кровати и, согнув в колене больную ногу, с детским любопытством разглядывал свою ступню и пошевеливал пальцами. Видно, ему не верилось, что он уже начинает владеть сломанной ногой.
– Гм, гм! – не то покашлял, не то промычал Скорый. – Такой авторитет, как профессор Тартаковская…
– Бросьте притворяться, дорогой коллега, – добродушно перебил его Решетов. – Вот двурушник! Поддакивает скептикам, а нас чертовски выручает с доставкой гвоздей. Да-да, гвоздей, которые мы смогли получить только по неофициальному заказу Прохора Фроловича. Не из любви же к искусству блата вы это сделали?
– Мне уже пора, – тихонько сказала Варя Ларисе.
– Мне тоже: Алеша ждет. Сегодня у них в школе концерт, он играет и пригласил меня.
– Он уже большой, ваш Алеша? – спросила Варя, когда они сели в автобус.
– Почти взрослый! – Фирсова улыбнулась чуть печально. – Мы с ним дружно живем. Он моя единственная радость.
– Значит, вы не… значит, вы не вышли замуж?








