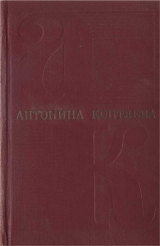
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 49 страниц)
– Да, та самая Наташа. Сталинградца Коробова вы тоже, наверно, помните? Они поженились сразу после войны. У них двое детей, совсем крошечных.
– Ая-яй! – Невропатолог с сожалением покачала головой, ярко-черные глаза ее затуманились. – У Наташи тогда контузия была. Такая прелестная девушка, а теперь нуждается в операции. – И Софья, присев к столу, погрузилась в чтение записей, сделанных после анализов и осмотров врачей.
Профессор Аржанов ходил по кабинету и размышлял о предстоящей ему работе в лаборатории, о полученных для исследования сердца новых зондах – из более эластичной и гибкой пластмассы. Потом он подумал об операции, которую надо делать Наташе, о Коробове. Бедняга днюет и ночует возле больницы или торчит в будках междугородной, вызывая по телефону Октябрьский прииск, расположенный где-то на реке Сулейке в далекой красноярской тайге. Что можно сказать о Наташе сейчас? У нее все признаки заболевания мозга. Что именно? Где расположена опухоль? Наблюдения в клинике еще не уточнили диагноза. Узнав, что Наташе предстоит сложное исследование рентгеном, для которого нужно сверлить череп и вводить воздух в мозговые желудочки, Коробов схватился за голову и застонал. А Иван Иванович сказал, что страшны не две дырочки, просверленные в черепе фрезой, а то, что может наступить отек мозговой ткани, если опухоль образовалась внутри мозга. Лучше провести исследование по-иному: сделать снимок, введя в сонную артерию контрастное вещество.
«Видно, у Вари не хватило смелости сказать это самому Ивану Ивановичу», – подумал он, видя, что хирург по-прежнему уверен в себе и спокоен.
Иван Иванович, правда, ничего не знал: у Вари не то что смелости не хватило, а просто язык не повернулся одергивать и расстраивать мужа накануне операции. Приездом Софьи Шефер он был обрадован. Вот она сидит, углубившись в историю болезни; изображает непроизвольно на своем подвижном лице отдельные симптомы, перечисленные врачами, которые уже осмотрели Наташу: перекашивает рот, приподнимает бровь, двигает щекой…
– Ну, пойдемте посмотрим ее! – сказала она, вставая, и заспешила в палату, представляя себе сталинградскую дружинницу – девочку-подростка с глазами синими, как степные озера, с подвязанными на затылке русыми косами, которая, казалось, не ведала, что такое страх.
– Ее наградили чем-нибудь? – спросила Софья, на ходу повернув к Ивану Ивановичу смуглое лицо, щедро украшенное крупными родинками.
– Наташу? Медалью за оборону Сталинграда.
– Только-то? Хотя такая медаль дорого стоит!
Они замолчали, входя в большую женскую палату с двумя рядами коек, застланных плюшевыми одеялами в смятых, но чистых пододеяльниках. На подушках то кудри девичьи, то старушечьи платочки, но лица тронуты одинаковой бледностью. На койке, у которой остановился Иван Иванович, лежала… нет, это не Наташа! Совсем незнакомая женщина в белой больничной кофте. Круглая, гладко выбритая голова на тонкой шее. Полузакрытые просвечивающими полукружьями век огромные глаза. Лишь густая их синева да прямые, почти смыкающиеся ресницы напоминали о прежней девочке. Губы, сложенные в страдальческую гримасу, придавали лицу наивно-жалкое выражение.
«Ах ты, бедняжка!» – подумала Софья и вплотную подошла к койке, возле которой сидел человек в халате для посетителей, ссутулясь и держа в широкой ладони исхудалую руку больной.
– Это Ваня Коробов, – сказал Софье Иван Иванович, здороваясь с ним. – Как дела, Наталья Трофимовна?
– Болит голова, – невнятно, тусклым голосом ответила она.
– Позавчера спала целые сутки, а теперь бессонница, – сообщил Коробов, уступая место Софье.
Она села, завладев рукой Наташи, спросила:
– Ты помнишь меня? Я Софья Шефер, врач. В Сталинграде мы с Ларисой Петровной работали в операционной, а вы раненых к нам приносили. Забыла? – Наклонясь, она близко заглянула в прекрасные, но будто не зрячие глаза Наташи.
– Нет, не забыла, – медленно и безучастно ответила Наташа, повела взглядом, ища мужа, не сразу увидела его и заплакала, как ребенок.
«Ох ты, беда моя!» – воскликнула мысленно Софья. Не могла она за весь немалый срок своей работы привыкнуть к человеческим страданиям и в который уже раз обругала проклятую войну. Наверно, сказались здесь последствия контузии: ведь на целый месяц оглохла тогда Наташа! Софье это особенно запомнилось в связи с родами, которые приняла Лариса под бомбежкой в подвале на берегу Волги. Сколько разговоров было у сталинградцев о рождении ребенка! Наташа бегала и хлопотала больше всех, но ничего не слышала и страшно из-за этого расстраивалась.
Софья сидела возле койки и, забыв даже о стоявшем за ее плечом хирурге, всматривалась в лицо больной, так непохожее на лицо прежней Наташи. Могла киста образоваться, могла возникнуть водянка, и теперь мозг сдавлен, а его нервные клетки угнетены чрезмерным скоплением жидкости. Внезапно заплакав, Наташа так же сразу утихла. Она как будто забыла и о муже, а он стоял и ждал решения ее и своей судьбы. Ведь вылечивают! Иван Иванович сможет! Варя не права, жестоко не права! Собственной жизни не пожалел бы Коробов ради спасения жены, но не этим можно поднять ее на ноги, а только искусством врачей.
Попав в больничную обстановку, она сразу хуже себя почувствовала и помнит только одно: ей будут делать операцию. Мешает что-то, гнетет, и вот хочется снять, отодвинуть любым путем гнет, навалившийся, словно тяжелая глыба. Только в этом и сказывается прежняя волевая Наташа.
Женщина-невропатолог прикрывает ее глаза ладонью.
– Смотри вверх, вниз, направо.
Наташа послушно водит глазами, но, глянув вправо, говорит:
– Больно.
Ее заставляют показать зубы, покалывают ей булавкой руки и ноги, прощупывают и выстукивают пальцем череп, потом поднимают с кровати.
Она стоит исхудалая, с бритой головой, такая жалкая и несчастная в больничной рубашке и в широкой кофте с завязочками у воротника, что у Коробова перехватывает дыхание.
– Закрой глаза, – приказывает Софья, подставляя руку, чтобы подхватить больную.
Наташа закрывает глаза и точно: валится набок.
Софья выпрямляет ее и, придерживая, говорит:
– Коснись кончика носа левой рукой.
Больная послушно исполняет и это как будто нелепое приказание.
– Теперь правой.
Наташа поднимает руку, водит тонким пальцем перед своим лицом и… не находит носа.
– Я еще попробую? – испуганно и огорченно говорит она и, снова закрыв глаза, поднимает руку с вытянутым пальцем, но снова не находит кончика носа.
А нос вот он, пряменький, маленький, на тревожно поднятом лице.
– Не нашла… Свой нос не нашла!
– Ничего, будем лечиться, ведь ты у нас герой!
– Герой! Свой нос не нашла! – растерянно повторяет Наташа, ложась на койку.
Софья прикрывает ее одеялом и оборачивается к Ивану Ивановичу.
– Похоже, слева, теменно-височная. Хорошо, если это менингиома.
Коробов, уже во многое посвященный, знает, что менингиома – доброкачественная опухоль, которая легко отделяется от мозга. Но ведь может быть и хуже! Об этом худшем врачи не скажут при больном. Они говорят только о первичных и вторичных признаках, о предполагаемом месте опухоли – будущем операционном поле, не боясь, что их услышат люди, судьба которых ими решается: насчет предстоящей черепно-мозговой операции больному полагается сообщать заранее. Только слова «раковая опухоль» не произносятся при нем: человек должен надеяться. Надежда помогает выздоровлению. Но Ваня-то знает, что опухоль может оказаться злокачественной, и, холодея от страха и волнения, всматривается в лица докторов. Если даже «это», то все равно надо делать операцию. В конце концов, и при злокачественной опухоли добиваются продления жизни.
– Когда будет операция? – спросил Коробов Ивана Ивановича после осмотра.
– Недели через две, не раньше. Нам нужно еще понаблюдать, чтобы точно поставить диагноз. Тут спешить нельзя. Полечим пока пенициллином и сульфидином в больших дозах, глюкозу будем давать.
«Что это даст?» – хотел спросить сталинградец, но побоялся, как бы в вопросе не прозвучало недоверие, промолчал. «Пусть Варвара Васильевна сомневается, а у меня свое мнение. – Коробов посмотрел на руки Ивана Ивановича и подумал, отгоняя вдруг возникшую неуверенность: – Он, конечно, поможет нам по-настоящему. Но в самом деле, ведь тут мозг, то, что мыслит, то, что является разумом, душой, характером, индивидуальностью человека… Наташей. Целый мир чувств и переживаний, вложенный в коробку черепа, и как туда входить с буравом и всякими стальными инструментами?» Дело не в том, мог или нет Коробов усомниться в искусстве хирурга. Его страшила сама операция.
– Я бы посоветовала вам ехать пока домой, – сказала ему Софья Шефер. – Ручаюсь, Наташа будет под хорошим присмотром. Я возьму над нею шефство.
– Варя будет ее навещать и Елена Денисовна, – добавил Иван Иванович. – Правда, поезжайте-ка домой, к детишкам. Когда назначим операцию, сообщим «молнией».
– Я поговорю с Наташей, как она…
Коробов присел опять к изголовью жены, поправил завернувшийся рукав ее кофты. Наташа вздрогнула, улыбнулась. Давно уже не видел Иван ее улыбки, но не обрадовался, очень уж далеким было выражение любимого лица.
– Теперь я вспомнила Софью Вениаминовну, – сказала она. – И мальчика Алешу… Он был с челочкой. Такие круглые глазенки. Но не помню имя его матери.
– Лариса Петровна.
– Да, правда, Лариса Петровна! Она мне нравилась. А Варя Громова ревновала ее к Аржанову. Один раз даже отругала…
Коробов смущенно оглянулся через плечо. Наташа говорила как будто во сне, но громко, а Иван Иванович все еще стоял у ее койки вместе с Софьей Шефер. В эту минуту он молчал, слушая невропатолога, услышал и слова Наташи.
– Как ужасно было в день первой бомбежки… Сталинград горел. Весь сразу горел! И моя мама… – Больная умолкла, опять сомкнув глаза, бледное лицо ее точно окаменело.
Иван Иванович склонился над нею, бережно взял за руку.
– Она без сознания!
10
«Варя ревновала меня еще в Сталинграде! Она даже отругала Ларису… Отругала! Как же это могло произойти? И что подумала обо мне Лариса? Вот, дескать, донжуан, соблазнитель, а попросту сказать, трепач в мундире военного врача. Да-да-да! Не врач, а трепач!» – И вдруг Ивану Ивановичу вспомнился разговор с Ларисой в траншее под волжским обрывом.
«Я Вареньке слово дала», – не то с укором, не то с гордостью сказала тогда Лариса.
Значит, Варя заявила на него свои права задолго до того, как он сделал ей предложение, до того, как он переломил свои чувства к Ларисе?
Такое открытие ошеломило, оскорбило и возмутило хирурга. Варя действовала за его спиной, пороча в глазах любимой женщины! Не это ли еще подтолкнуло Ларису глубже спрятать свое горе?
Иван Иванович не считал Фирсову способной приносить себя в жертву ради сомнительного счастья ближнего. Надорванная жестокими ударами, которые один за другим обрушивались на нее, она могла просто отшатнуться из боязни новой утраты.
Однако представление, сложившееся у него о Варе, не увязывалось с мыслью о коварстве.
«Этот маленький чертенок всегда действует прямолинейно! – подумал доктор угрюмо. – Бьет в одну точку. Поставила себе цель учиться – и выучилась. Привлек почему-то ее внимание неуклюжий Иван Аржанов – и в результате мы действительно живем вместе. А если бы я тогда узнал о смерти Фирсова, женился бы на Варе или нет?» – снова спросил себя Иван Иванович, совсем отодвинувшись от лабораторного стола, уставленного препаратами в больших и маленьких склянках с раствором формалина (он писал главу своей книги о замещении поврежденных участков кровеносных сосудов).
Тускло поблескивавшие банки с приживленными во время опытов над собаками кусками аорт и артерий еще какую-то минуту находились в поле зрения хирурга. Вот эту аорту сделал он сам. Вопреки всем пророчествам кусок высушенной трупной аорты не рассосался и через полтора года, а, напротив, так прижился, что при самом тщательном осмотре после гибели собаки (она погибла при очередной опытной операции) хирурги не находили места перехода приживленной и собственной ткани и обнаружили его только под микроскопом.
– Если мне самому потребуется когда-нибудь подобное замещение, я тоже предпочту препарат от трупа, – сказал тогда Иван Иванович с шутливой гордостью, хотя идею сохранения препаратов путем высушивания холодом предложил совсем не он; просто его радовало каждое очередное достижение медицины.
Только что рассматривал, сравнивал, делал заметки в блокноте, и вот все отошло в сторону. Вцепившись в подлокотники жесткого кресла, профессор Аржанов сидел, ссутулив мощные плечи, и сердито смотрел перед собою сосредоточенным, но ничего не видящим взглядом. На кого же он сердился? Прежде всего на себя. Казалось, все было ясно, но вдруг обнаружился в душе тайничок, где находилась все эти годы заживо похороненная Лариса Фирсова.
Иван Иванович подошел к окну, отдернул штору и, распахнув створки, оперся ладонями о широкий подоконник.
Бывают и в Москве такие умытые вечера, когда уличные огни сияют, будто частые звезды. Значит, могучее движение в атмосфере всколыхнуло и проветрило городской прокопченный воздух, застоявшийся в каменных коридорах улиц. Дышите, граждане, полной грудью! Но если в груди теснит от тоски, то человеку все равно дышится нелегко.
Теплый после недавнего дождя ветерок, не освежив лица хирурга, коснулся его стриженых волос, но и они не шевельнулись от этого ласкового прикосновения. Угрюмый, ощетиненный, выглядывал из окна Иван Иванович.
Луна висела над городом, незаметная в свете фонарей. На тротуарах, как морской прибой, плескался шум толпы; народ гулял, высыпав из душных коробок квартир на ярко освещенную улицу, а в небольшом старом саду под окнами лаборатории густели тени и даже щелкал возле сторожки соловей, потерявший меру времени в своем бессрочном заключении.
«Все, как полагается: и луна, и соловей, и влюбленный, и все ненастоящее!» – подумал, с убийственной остротой сознавая ненужность проснувшихся сожалений о Ларисе, Иван Иванович.
– Эх, Варя!
Смутное чувство досады и даже враждебности к ней шевельнулось в нем: ведь это она со своим диким упрямством разбередила в нем прежнее.
Он тихо прикрыл окно, старательно, хотя и машинально оправил штору и, подойдя к телефону, набрал номер.
– Почему ты так долго? Мы ждем ужинать, – зазвенел почти рядом грудной голос Вари.
– Не ждите. Я еще задержусь здесь, – сухо сказал Иван Иванович, и Варя, задетая его тоном, не сразу нашлась. – Ну, пока! – с той же сухостью уронил он.
– Погоди… – Она, видимо, собиралась с мыслями, пока не сказала обрадованно: – Мишутка хочет поговорить с тобой!
– Давай! – Иван Иванович крепче сжал трубку и, тоже оживленный, приготовился слушать.
– Папа! – крикнул Мишутка, подышал в трубку, а затем сказал деловито: – Я ем молоко с хлебом.
Причем это прозвучало так: «молото т клебом».
– Ну, ешь на здоровье и ложись спать. Целую тебя, сынок!
– А маму?
– Конечно, и ее.
Иван Иванович положил трубку и некоторое время стоял неподвижно, потом взглянул на часы и пошел в операционную.
Там готовили для его – последнего в этот день – опыта очередную собаку. Она лежала, привязанная к деревянному станку, поставленному на белый металлический стол, к которому вела целая система проводов от разных измерительных и регистрирующих приборов. Странно выглядела на таком столе мохнатая собачья голова, обвязанная вместо намордника марлевым бинтом.
«У меня сейчас болезненное восприятие, вроде неприятного привкуса во рту», – думал хирург, моя руки, пока ассистент и сестра готовили животное к серьезному опыту: надо было создать искусственный порок в сердце, выключенном на это время из круга кровообращения. На другом, простом столе лежала под простыней вторая, уже усыпленная собака – донор, сердце которой, подключенное с помощью резиновых трубок к венам и артериям подопытной собаки, будет обслуживать во время операции обоих животных.
В комнате присутствовали врачи из Центрального института усовершенствования и группа студентов. Посмотрев на своих студентов, профессор подумал:
«Зря пустил сюда этих юнцов. Насмотрятся на такое сложное и забудут о самом насущном, что для них сейчас как воздух, – о грыжесечении, об аппендицитах. И еще неизвестно, удастся ли опыт… – Иван Иванович взглянул снова на юные лица, полуприкрытые марлевыми масками, и неожиданно ощутил зависть к молодости завтрашних врачей. – Все у них в будущем. Все заполнено надеждами: целая вечность впереди. А мы чем ближе к краю, тем больше оглядываемся назад. Да-да-да! Юность богата надеждами, а старость – опытом».
– Сегодня мы будем создавать порок сердца, для чего сделаем отверстие в сердечной перегородке между правым и левым желудочками. Операция будет произведена на отключенном «сухом» сердце, – сказал он, сделав разрез на гладко выбритой груди животного, и сразу же увлекся операцией, стал самим собой – страстно преданным работе человеком, энергичным, на редкость здоровым, которому «до края» было еще очень далеко; возможно, даже дальше, чем некоторым из его слушателей.
11
Опыт прошел удачно. Обеих собак унесли из операционной в хорошем состоянии, хотя сердце подопытного животного во время операции было выключено из круга кровообращения на восемь минут.
«Пожалуй, лучше всего иметь идеально устроенное искусственное сердце», – думал почти успокоенный Иван Иванович, выходя из лаборатории. Он вспомнил модели уже имеющихся машин «сердце и легкие» и свои опыты, проведенные с применением этих машин. Венозная кровь больного проходит по резиновым трубкам в специальный резервуар, обогащается в нем кислородом и, сразу поалев, возвращается в артерии тела. Задумано хорошо, но пока еще очень сложны, громоздки и дороги установки.
Выйдя из метро и шагая по опустевшему уже тротуару, Иван Иванович припомнил один из разговоров с Варей на эту тему, но, чтобы не раздражаться, переключился на иное: представил себе Тартаковскую, какой она была через неделю после операции, сделанной Решетовым.
Они вдвоем зашли тогда в палату, где лежала женщина-профессор. Она уже сидела на койке, крупная, черноволосая, с проседью на висках, и с такой радостной улыбкой смотрела на Решетова, что Иван Иванович изумился: «Неужели это та самая мегера, злобная и влиятельная, которая недавно громила „металлический“ метод, внедряемый его другом».
– Как дела? – спросили хирурги.
– Видите, сижу! И ногой двигаю. Посмотрите! – Она откинула одеяло и, облокотясь на подушки, приподняла ногу, обтянутую носком. – Вчера только поднималась с постели, а сегодня уже до окна добралась на костылях. – Тартаковская снова поглядела на своего спасителя и добавила с подкупающей искренностью: – Я очень сожалею, что нападала на вас. Зато теперь буду самой горячей пропагандисткой вашего метода.
«Да-да-да! – Иван Иванович язвительно улыбнулся этому воспоминанию. – Неужели нам сначала надо искалечить всех своих противников, чтобы потом заслужить их признание? И до каких пор будут у нас существовать твердолобые бюрократы и волокитчики?»
Он шагал по улице, смотрел на работавших дворников, вооруженных метлами и совками, на пробегавшие грузовые автомобили. Миллионы людей проходят за день по московским улицам. Проходят и Алеша и Лариса. Она уже дома. Что она сейчас делает? Читает? Музыкой занимается с Алешей? С нею никогда бы не возникло таких разногласий, как с Варей. Она все поняла бы.
Иван Иванович не знал Фирсову в домашней обстановке, – разве можно назвать домом фронтовую землянку, где женщины были в военных гимнастерках и сапогах? Но однажды он видел Ларису без гимнастерки и без сапог в маленьком степном поселочке между Доном и Волгой. Лариса стояла босая, с распущенной за плечами пышной косой, а он смотрел на нее, и самые нежные слова теснились и замирали в его пересохшем горле. Мучительная жажда увидеть ее овладела им снова. Кажется, повернул бы сейчас и зашагал к ней. Но никогда не будет такого. И не потому, что он не знает адреса Ларисы, – адрес можно узнать, – а потому, что нельзя наступить на горло матери своего ребенка, и ребенка тоже не выкинешь из сердца. Да, явилась хозяйка душевной жилплощади, а там уже заселено. Неужели выбросишь пригревшихся жильцов на улицу? Где вы были до сих пор, дорогая Лариса Петровна? Отсутствовали по серьезным причинам? Да, очень уважительные у вас причины. И нельзя отрицать: вы, вы владелица, даже владычица! Но вот детская кровать, а в ней Мишутка, Мишук, Михаил Иванович Аржанов, румяный черноглазый мальчик с цепкими ручонками. И эти игрушки, башмачки, маленькие чулки – все ожидает пробуждения крошечного человека. Неужели поднять его и вместе с матерью вытолкнуть на улицу, в ночной мрак? Закройте дверь, Лариса Петровна! У вас есть свое гнездо. И не пустое оно. Сын-то, Алеша-то… Уходите, Лариса Петровна! Но она не уходит. Стоит, а за нею Алеша, и смотрят оба так, что душа разрывается. Значит, надо закрывать дверь самому.
Доктор Аржанов твердыми шагами идет к своему дому. Но чем ближе дом, тем грузнее шаг: тело движется в одну сторону, душа рвется в другую. А ночь-то, красота какая! Полная луна висит над темными аллеями широченного проспекта, и чей-то смех молодой слышится за цветущими липами, сладко пахнущими в ночной теплыни. Все прекрасно, и как хорош в лунном сиянии фасад высокого дома, беломраморный над темными купами деревьев, в синеве бездонного неба! Но не хочется в этот дом.
«Отчего же возник такой душевный разлад? – думал Иван Иванович. – Ведь он начался задолго до появления Ларисы. Еще в то время, когда я защищал докторскую диссертацию. Да-да-да! Не было тогда счастливого подъема… Ведь даже с Ольгой, которая ничего не понимала в моей работе и не интересовалась ею, мне было радостно после защиты первой диссертации. А тут словно оборвалось что-то от всех разговоров с Варей. По-своему желая мне добра, она сблизилась с моими врагами, которые спокойно плетутся по проторенной дорожке. Я не считаю себя сверхноватором и не присваиваю никаких открытий, но, если со тысячам людей совершенно необходимо новое сердце, мы обязаны его сделать».
Войдя в свой подъезд, Иван Иванович не поднялся к себе на второй этаж, а позвонил в квартиру Решетовых. Он сам не знал, почему так поступил: то ли потянуло закончить дружеской беседой рабочий день, давно перешедший в ночь, то ли трудно было встретиться с Варей в состоянии душевной раздвоенности.
Открыла ему Наташка.
– Ты еще не спишь? – удивился он, увидев ворох ее светлых кудрей, под которыми блестели ярко-голубые глаза и точно вынюхивал что-то дерзко вздернутый носишко. – Почему так поздно гуляешь, Наталья Денисовна?
– Я не гуляю, а хозяйничаю, – степенно возразила Наташка.
Осмотревшись на новом месте, поостыв после дорожных треволнений, она опять стала сдержанной маленькой сибирячкой. На ней поверх ситцевого платьишка в красную и белую полоску был надет домашний передник, почти как юбка охвативший ее бедра; в руках она держала посудное полотенце.
– Галине Остаповне нездоровится, а к Григорию Герасимовичу гость пришел. Надо же накормить!
– Ну, ясно, надо! – сказал Решетов, выглянув в переднюю.
– Кто у вас? – спросил Иван Иванович, готовый уйти.
– Леонид явился… Вы очень кстати. Наташа, дочка, дай нам помидоров, хлеба, сырку нарежь и иди спать. Только вынеси сюда две подушки да одеяло. Плед еще захвати.
За столом, на том месте, где недавно сидела Лариса Фирсова, восседал крепко нетрезвый Злобин. Облокотись обеими руками на стол, так, что выгнулись его мощные плечи, вцепись руками в спутанные белокурые волосы, он неподвижно и мрачно смотрел перед собою и даже не обернулся на голос Аржанова.
– Допекла! – дружески бесцеремонно сказал Решетов, кивая на него.
Да, видимо, Раечка допекла-таки своего богатыря! На щеке его виднелась широкая ссадина, пуговица на воротнике рубашки – он был без галстука – висела, вырванная, как говорится, с мясом. Никогда еще приятели не видели Злобина таким растерзанным.
– A-а, друг, вы тоже здесь? – точно проснувшись, спросил Злобин, и Ивану Ивановичу стало не по себе от его мрачного спокойствия. – Вот извольте радоваться! Хорош? Ушел из дому. Да. Не драться же мне с нею! Ушел и напился. Что делать? – Злобин беспомощно развел могучими руками. – Ударила по лицу… палкой. Потом побежала вешаться на шифоньере… Комедия, конечно! Но девочек перепугала. Зачем? Ничего не понимаю! Так, кружится в голове дрянь какая-то! Зашел в забегаловку и напился. Напился – и сюда. Куда же мне еще?
Вошла Наташка с подносиком в руках, деловито накрыла на стол, поставила хлеб, помидоры, сыр, принесла разогретую картошку и рыбные консервы, которые выложила на тарелку, и остановилась, сочувственно глядя на Злобина. Нетрезвых людей она видела предостаточно за свою жизнь на прииске и не боялась их. А в пьяных слезах, пролитых этим красивым, сильным и смирным человеком на груди Решетова, она ощутила большое горе. Но чем ему можно помочь?
– Марш спать, девочка! – скомандовал ей Решетов, доставая из буфета стопки. – Спасибо, родная! Иди, иди!
И Наташка ушла. Но, раздевшись и юркнув осторожно на широкую кровать рядом со спавшей Галиной Остаповной, она пролежала недолго. Если бы кто-нибудь внезапно открыл дверь в спальню, то стукнул бы по лбу босоногую девочку в ночной рубашке из светлого ситчика, стоявшую, скрестив руки под маленькими грудками, где крепко билось встревоженное сердчишко: Наташка подслушивала ночной разговор друзей.
12
– Почему ты подчинился вздорной бабе? – сердито выговаривал другу Решетов. – Ведь она с жиру бесится. – Он вспомнил тоненькую фигурку Раечки и поправился: – От безделья с ума сходит. Ну чем она занята, кроме своих платьев?
– Боится, что другую найду. Вот и ревнует. А я виноват? Да, виноват, товарищи мои дорогие… Привык покоряться. Жалел. Берег. А она этим воспользовалась. Ну кому скажешь, что она меня ударила? Смеяться будут – моська обидела слона. Если бы я ударил, она побежала бы… В партком побежала бы. В местком. К прокурору. К чертям собачьим!
– Встряхнуть ее надо было как следует! – сказал Иван Иванович так горячо, будто острастка Раечки доставила бы ему удовлетворение. – Никуда бы она не побежала! А все-таки в чем дело? Был за тобой грех?
Злобин покачал головой.
– Я и до нее не знал других женщин. Понравился одной. Проходу не давала. Подсунула любовную записку в пальто, а Раиса нашла. Бац, бац, скандал! А при чем тут я?
– При том, братец, что ты губошлеп! – тоже резко сказал Решетов. – Любой на твоем месте ушел бы.
– Я собирался. Заявила: повешусь. И повесится. Назло мне повесится.
– Но ты ее любишь? – допытывался Иван Иванович, задетый за живое этой семейной неурядицей.
Злобин недоумевающе приподнял плечи.
– Какая уж тут любовь! Другой раз сбежал бы на край света.
Иван Иванович задумался, насупив густые брови с вихорками у переносья, потом сказал:
– На край света не надо, а проучить ее следовало бы. Не бойся, такая не повесится. Шумит о семейном долге, сама же о нем понятия не имеет. Ночуй сегодня здесь, у Григория Герасимовича, и завтра тоже домой не появляйся.
– Куда же мне? – Злобин, трезвея, потрогал оторванную пуговицу на рубашке. – Не могу же я в таком виде на работу!
– Рубашку я тебе дам.
– А дальше?
– Дальше откажись от постройки дачи. Найди себе за эти деньги комнатку…
– Какие деньги? Все сбережения у Раисы. Она целиком зарплату у меня забирает. На папиросы и то не сразу выдает.
– Ну не тюфяк ли? – Решетов по привычке всплеснул ладонями. – Огромный тюфячище! Она тебя прямо как алкоголика содержит.
Иван Иванович стоял, растопырясь, будто нахохленная наседка, смотрел на Злобина, смешно и сердито шевеля губами. «Раечку надо проучить, – думал он, – иначе она доведет Леонида до заправской пьянки, а из младшей дочери сделает идиотку. Ведь всякий раз пугает до полусмерти».
– Я тебе дам завтра тысячу рублей, – сказал он наконец. – Если понадобится, еще одолжу. Посоветуйся с нашей сестрой-хозяйкой, она бой-баба, всю Москву знает, мигом найдет тебе временное пристанище. Проживешь отдельно хоть несколько месяцев и увидишь: шелковая станет Раиса Сергеевна. Поверь, не повесится и не отравится, а поумнеет наверняка. Напишешь письмо, мы с Григорием Герасимовичем съездим к ней после работы, проведем все дипломатические переговоры и вещи твои заберем. А ты с работы не домой, а сюда, чтобы опять скандал не получился. Договорились? – Иван Иванович ударил по плечу заметно повеселевшего Злобина. – Силен медведь, но и его мошкара в воду загоняет. Значит, решили?
– Да.
– Может, проспишься и передумаешь?
– Нет. Дожил – хуже некуда!
– Тогда выпьем за то, чтобы все устроилось! – предложил Решетов.
– Я больше не буду, – сказал Злобин, однако налитую рюмку взял. – За временного соломенного вдовца!
Через полчаса чуть охмелевший Иван Иванович позвонил тихонько в свою квартиру. Дверь открылась сразу, и Варенька, точно за порогом она ждала, встретила его тревожным взглядом.
Ни слова упрека не сорвалось с ее губ. Пришел наконец-то, живой и невредимый! Она уже звонила в лабораторию. Сторож заспанным голосом сообщил, что профессор Аржанов «давно ушли». Звонить так поздно Решетовым Варя не решилась, зная о нездоровье Галины Остаповны, и они сидели вдвоем с Хижнячихой, вполголоса ведя свою ночную беседу. И среди всех тревог и сомнений невольно порадовалась Варя приезду Елены Денисовны.
– Хочешь есть? – спросила она, беря у мужа тяжело набитый портфель, и вдруг услышала запах водки.
– Что это значит? – с трудом спросила она.
– У Решетова выпили, – ответил он, и ему стало больно и неловко: так сразу преобразилось лицо Вари, с таким облегчением вздохнула она. – Заглянул, а там Леонид, расстроен страшно. – И, на ходу рассказывая о совместном решении проучить Раечку, Иван Иванович прошел в комнату.
Елена Денисовна скрылась было за ширмочкой, где ставила на ночь кровать-раскладушку, но Иван Иванович вызвал ее и тоже втянул в обсуждение злобинского конфликта.
– Мы на фронте всегда удивлялись его спокойствию, – говорил он. – Но, пожалуй, он отдыхал там, вырвавшись из домашней кабалы. А Наташка-то наша как хозяйничает у Решетовых! Что важности, приступу нет!
Ночью Варя проснулась от смутной тревоги: ей показалось, что Мишутка заплакал и позвал ее. Приподнявшись на локте, она прислушалась. Мальчик спал, легко и ровно дыша. Всхрапывала Елена Денисовна, Ивана Ивановича не было слышно. На улице светло от фонарей, шторы на окне не задернуты плотно: в комнате открыта форточка, затянутая марлей. Варя уже собиралась снова лечь с доброй мыслью о Елене Денисовне, которая сменила сегодня марлю, быстро грязнившуюся от уличной пыли и копоти, как вдруг Иван Иванович с тоской произнес:








