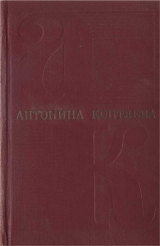
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 49 страниц)
Подмосковные леса бежали навстречу автобусу. В темных чащах светились огнями поселки. Ночью все надвигалось стеной на широкое шоссе; казалось, деревья теснятся сплошь по обеим сторонам дороги. Лишь на поворотах скользящий свет фар вырывал из тьмы то начинающий желтеть перелесок, то край поля, заросший кустарниками, и тогда видно было, что не такие уж непролазные чащобы дремлют окрест.
Подъезды к аэродрому были ярко освещены. Пестрели повсюду цветочные клумбы, но в их неистовом горении ощущалась осень.
«А мы летим на юг!» – думал Алеша.
Когда самолет с гулом и вихревым шелестом пробежал по полю аэродрома и остановился у вокзала на своих высоких лапах, дрожа от работы моторов, подросток с восторгом сказал:
– Наконец-то и я полечу!
Он торопливо поднялся по лесенке в кабину самолета, прошел вперед между креслами под белыми чехлами и сел к самому окошку. Лариса села рядом.
Молодой красавец пилот, выйдя из кабины управления, хозяйским глазом окинул усаживающихся пассажиров.
«Вот настоящий сокол! – Алеша восхищенно оглядел подтянутую фигуру летчика, его мужественное и доброе лицо. – А сколько таких погибло во время войны! Сколько раненых! Еще и сейчас у мамы лечатся летчики с обожженными лицами…»
Пилот поймал взгляд подростка.
– Летал уже? – улыбаясь, спросил он, хотя сразу понял, что мальчик летит впервые.
– Нет, не приходилось. – Алеша смутился и, чтобы не уронить себя во мнении такого человека, добавил: – В Сталинград хотим поехать из Саратова. Мы сталинградцы. Во время обороны до самого разгрома фашистов были там в госпитале…
– Вот как! – Летчик стал серьезным. – А я под Сталинградом летать начал. В наступлении участвовал. Значит, мы с тобой почти однополчане! Так, что ли? Ты где живешь?
– На Калужской улице…
– В Москве, значит. Но с неба-то ты ее не видел?
Глаза Алеши засветились от радостного предчувствия.
– Ни разу!
– Сейчас посмотришь.
Самолет взревел, задрожал всем стальным телом и побежал, помчался, набирая и набирая скорость. Замелькали ярко освещенные здания; потом поле аэродрома, перечеркнутое широкими дорожками и световыми сигналами, слилось в искристую поземку, вихрем стелющуюся навстречу. Все быстрее и быстрее несется машина-птица, вызывая желание мчаться с еще большей скоростью, с ураганной силой врезаясь в воздушное пространство, прямо в падающие навстречу звезды. То, что самолет оторвался от земли и начал набирать высоту, Алеша ощутил только по тому, как плавно стали раскачиваться, словно помахивать, широко раскинутые под окнами прямые его крылья.
Вдруг внизу разлился свет. Это было похоже на торжественное сияние миллиардов звезд, сплошными золотыми роями горевших в черноте вселенной. Прекрасным казалось недавно ночное небо над аэродромом, но что значило его слабое мерцание перед живым излучением гигантского города! Прильнув лицом к стеклу, Алеша не мог наглядеться и не мог поверить, что это космическое зрелище его родная Москва.
«Молодчина какой! – подумал он о своем новом знакомце летчике, словно тот сам устроил это дивное зрелище. – Тоже, наверное, любуется, когда сидит за рулем. И правда, как это чудесно – ночной полет!»
Потом наступил рассвет. Окутанная волнами синего тумана, спала внизу земля, а самолет плыл, одинокий и мощный, в сиреневую розовость утра. Солнце вставало над краем горизонта, золотыми стрелами пронизывало облака, но они все наползали, пока не покрыли молочной клубящейся пеленой все видимое сверху пространство. Еще виднелись в синеющих провалах резкие штрихи дорог, извилистые русла рек, темнели леса, но все тоньше и площе делались их очертания: самолет, вздрагивая от мягких таранов, прорывался сквозь тучи и, ревя моторами, набирал высоту. Солнце тоже поднималось… Привстав на сиденье, Алеша увидел на белизне облака движущийся радужный круг и в нем отчетливую тень самолета.
– О мама! – воскликнул он, как пятилетний мальчик, и оглянулся на мать.
Лариса тоже через его плечо смотрела в окошко, но ее лицо было печально. Она ничего не замечала, сосредоточенная в глубоком раздумье, и Алеша смутился. Но так переполняло его пленительное ощущение первого полета, что он, почти бессознательно оберегая свое ликование, отвернулся от матери.
Теперь земли нигде не было видно, только облака расстилались под самолетом, похожие на бескрайнюю степь, покрытую снеговыми сугробами. Сплошная мертвая белизна, и над нею ничем не затененный голубой купол неба.
Здесь земная тоска оказалась еще тяжелее: от нее некуда податься. Если бы Лариса верила в бога, то она могла бы подумать, что вот эти голубоватые тени, движущиеся среди кипящих облаков, – души умерших. Может быть, здесь души и ее близких, унесшиеся с дымами военных пожарищ? Но Лариса-то знала, что все было кончено там, внизу… Нелепо думать о заоблачном рае, когда воздух вдоль и поперек исполосован трассами самолетов.
…Теплоход шел к Сталинграду. Опять Алеша, захваченный красотой Волги, плеском ее волн, разноголосой перекличкой судов, гомоном птичьих перелетов, чувствовал себя как на празднике. Опять Лариса сидела на палубе одна. Чем шире раскрывались перед нею волжские дали, тем сильнее жгла ее мучительная тоска.
Ей даже легче стало, когда ударила непогода. Крутые беляки, поднятые сильным ветром, замелькали на гребнях волн, и воздух, напоенный мельчайшей водяной пылью, стал плотным и влажным. Пасмурно-сизый наступил вечер, а позднее, когда стемнело, возникли на берегу огни… Редким пунктиром фонарей прочерчены линии дорог, а между ними черные квадраты, прямоугольники и просто пятна, точно зияющие провалы. Теплоход шел, и все плыли навстречу по правому берегу печальные эти огни. Десять километров, пятнадцать, двадцать… Гнездо живых огней – контуры больших домов, и снова тот же световой пунктир и черные пятна.
Зарево над темными корпусами. Ряд высоких труб – восстановленный завод, и опять гнезда огоньков и черные пятна. Лариса стояла, вцепившись руками в перила борта, и с волнением всматривалась в очертания полуосвещенного берега.
– Что это? – спросил Алеша, выбежав из салона, где он играл на рояле.
– Это Сталинград.
Он встретил приезжих величавой колоннадой, высоко вознесенной над новой набережной, залитой ярким светом. Гранитные ступени монументальных лестниц поднимались на кручу берега. Облицованные мрамором парапеты, в зеркально-отшлифованных плитах которых отражались огни пароходов и пристаней. Всюду цветы. Нежно-душистые южные розы, ярко-красные флажки канн с их траурно-черными листьями и ковры гвоздики, как свежепролитая кровь, – все напоминало о тех, кто сражался на этом берегу против фашистов.
– Недалеко отсюда стояла дивизия Родимцева. Его солдаты написали на остатках стены на берегу: «Выстояв, мы победили смерть», – говорила Лариса, и голос ее дрожал. – Ты понимаешь, Алеша?
– Да, конечно.
Кругом шумели толпы людей, бегали, несмотря на позднее время, детишки, а они, двое сталинградцев, приехавших посмотреть на родной город, разговаривали почти шепотом.
Город строился, лязгали на площадках экскаваторы, двигались высокие краны. Голубой огонь электросварки, пронизавший отсветами черную глубь неба, выхватил из темноты стаю, казалось, белоснежных гусей, летевших над многоэтажным, еще не законченным домом. Птицы шарахнулись и все разом взвились в вышину. Волга, Волга, вековечная птичья дорога.
38
Среди ночи Лариса испуганно поднялась на подушке. Да, она в Сталинграде, но как тихо вокруг… Только время от времени доносится шум машины, проходящей по опустелой улице. Гудки со стороны Волги больно резанули по сердцу женщины: катер. А это теплоход – низкий, зовущий голос. Волга! Спал на диване Алеша. Свет уличного фонаря пробивался между косяком окна и шторой. Старый дом – это двухэтажная гостиница. Он был свидетелем обороны. Таких домов в городе после нашествия остались единицы. В нем дрались… Он стоял тогда без крыши – обожженная взрывами коробка с проваленными перекрытиями потолков. Тут всюду валялись трупы, и каждый камень был полит кровью. Видения прошлого надвинулись на Ларису со всех сторон, и она похолодела, окруженная ими…
Накинув халат, женщина босиком прошла по комнате – полы тут новые; осторожно, чтобы не разбудить сына, распахнула тяжелые шторы. Прямо перед окном недавно возведенные, но уже обжитые дома новой улицы. Вон в той стороне жила до войны ее семья. Там же неподалеку вокзал, построенный на месте разбитого старого, где разыгралось столько кровавых трагедий. Вдоль тротуаров мягко колыхалась под порывами ночного ветра темная листва деревьев. Улица уже озеленена. У самого окна, рукой можно дотянуться, покачиваются экзотически огромные листья молодой шелковицы. Уборщица сказала, что молодые деревья растут здесь с невероятной быстротой. Некоторые просто на глазах поднимаются. Не мудрено… Вот, например, это. Никогда еще Лариса не видела таких больших и сочных листьев на шелковичном дереве.
На минуту она зажмурилась – так билось сердце, прямо в горле колотилось оно, заполняя уши звоном, – и снова посмотрела. Да, листья дерева шевелились, переливались глянцем, но это не был отблеск уличного фонаря. Ларисе вдруг показалось, что сквозь темную зелень просвечивает… кровь. Отшатнувшись, она перешла к другому окну, тихонько раскрыла створку и, выглянув, увидела за забором край большого пустыря, покрытого развалинами. Угол разбитой коробки дома, груды кирпичей, изогнутые рельсы перекрытий и обломанные белые ступени в черный зев подвала… Луна висела над пустырем, и все на нем, резко выступая в чередовании света и теней, выглядело мертвым.
У лукоморья дуб зеленый,—
прозвенел в ушах Ларисы детский голосок; она беззвучно заплакала, и сразу около нее очутился Алеша.
– Не плачь, мама! – сказал он ломким голосом и, косматый, теплый спросонья, обнял ее за плечи. – Что же теперь поделаешь?!
Конечно, ничего не поделаешь! Можно вновь посадить сады, восстановить заводы и целые города, но никто еще не вернул матери погибшего ребенка.
И Лариса заплакала еще сильнее.
Алеша сам мучился все эти годы, осаждаемый отрывочными, но острыми воспоминаниями, похожими на осколки стекла. Леню Мотина он помнил хорошо, друга Вовку Паручина тоже. А вот момент смерти бабушки и сестренки… Словно он сам умирал тогда. Оглушительный гул, блеск, и свет огня, и кровь… и кто-то кричал… Было ли это «тогда» или позднее? Возможно, и раньше он услышал тот крик, а потом уже кричали, стреляли, умирали непрерывно. Алеша пытался восстановить в памяти все по порядку, но то бабушка тащила его за руку, то он семенил маленькими ножонками возле матери… И другие женщины, и дети метались по улицам. Старик в толстом пальто сидел на тротуаре, кто-то толкнул его, и он рассыпался кучей пепла. Алеша только успел заметить его серое лицо. Он истлел от пожара, бушевавшего рядом.
Долго шла война, и таких ужасов еще насмотрелся Алеша, что если бы их видел не один маленький мальчик, а сто взрослых людей, то и они были бы ранены душевно на всю жизнь. Позднее он слушал в Москве симфонию Бетховена, и тяжелые воспоминания, которые жили с ним неразрывно, вдруг по-особому зазвучали в нем. В злобном гуле взрывов, в свисте падающих бомб, лязге и скрежете танков послышались ему мощные и добрые солдатские голоса, и детский плач, и женская песня о жизни, о счастье… Так в нем возникла мысль написать музыку о войне. Он еще не знал, что напишет, но играл, прислушиваясь к себе, повторял, когда получалось, запоминал, записывал. Многое еще кипело в душе, мучило, искало выхода.
Но что же все-таки произошло в конце августа тысяча девятьсот сорок второго года в тихом переулке неподалеку от бывшей Саратовской улицы?..
Проснувшись рано утром, Алеша, стараясь не шуметь, быстро оделся: хотел до пробуждения матери побывать там, где они жили перед приходом фашистов. Но Лариса не спала. Она так и не смогла больше уснуть, принуждая себя лежать в постели, чтобы опять не потревожить сына.
Вскоре они уже шагали по городу, который заново вставал из развалин. Не рассчитав этого заранее, они встретили очередную годовщину страшной бомбежки на сталинградской земле.
Последние дни августа… Стояла жара, и створки окон повсюду были распахнуты, в комнатах виднелись цветы. Малыш сидел на подоконнике в нижнем этаже, свесив наружу ножки, и жадно ел арбуз, то и дело погружая толстую рожицу, мокрую от сока, в мякоть большого куска, похожего на красный полумесяц.
Арбузы лежали грудами на тротуарах возле торговых киосков, зелено-полосатые их бока выглядывали сквозь решетки балконов; прохожие несли их в сетках-авоськах или под мышками, широко расставляя оттопыренные локти. Но мать и сын, занятые своими мыслями, заметили только ребенка в окне. Алеша усмехнулся, тронутый его комичной сосредоточенностью, а Ларисе представился другой мальчик, в беленькой рубашечке, плакавший на балконе дома, уже покосившегося набок.
Огонь вдруг светло блеснул над зданием, все заволоклось дымным облаком, и ничего не стало. В родном переулке тоже оказались лишь навалы горячего щебня да огонь пожаров. Развалины рухнувшего дома закрыли выходы из подвалов-убежищ, где заживо были похоронены сотни людей. И мать Ларисы, и Алеша, и дочка…
39
Подкошенная тяжелыми воспоминаниями, Лариса ухватилась за корявый ствол старого клена, густая листва которого не могла скрыть жестоких ран, нанесенных ему осколками: весь он был иссечен ими от верхушки до узловатых корней.
– Мы жили вон там, Алеша! – чужим голосом сказала женщина, глядя на неплотно сколоченные доски высокого забора, преградившего им путь.
В щели и в распахнутую калитку виднелись осевшие руины домов, остатки обгорелых деревьев и сложенный в штабеля вдоль бывшей улицы кирпич, выбранный из развалин. Бульдозер шумно ворочался на пустыре, уже не однажды проверенном и обезвреженном минерами, разравнивая груды щебня и перевернутой земли: готовилась площадка для нового строительства.
– Их похоронили там? – тихо спросил Алеша, кивая на пустырь.
Лариса молчала, ей трудно было говорить.
– Пойдем туда! – сказал Алеша, не замечая ее состояния: он сам взволновался, угадав, что здесь был угол знакомого уличного перекрестка. Сразу до мельчайших деталей ему вспомнился тот ужасный день.
Мальчик шагнул вперед, но рука матери вцепилась в его локоть.
– Это… здесь!..
И Алеша увидел почти под ногами, на расчищенной улице, пересеченной забором, широкую заплату асфальта… Кто и куда убрал останки погибших? Может быть, они так и остались под мостовой, в глубокой могиле, вырытой взрывом бомбы? Многих похоронили заново, но разве можно откопать всех? До сих пор находят засыпанные убежища: ведь город рухнул сразу… А бои на его развалинах, когда тонны взрывчатки, валившейся с воздуха, замуровывали солдат в блиндажах, мирных жителей под откосами оврагов и в подвалах?..
Люди погибли, но возрожденный город, который они отстояли, положив начало разгрому врага, стал вечным памятником их геройству.
Целыми днями Лариса с сыном бродили по улицам, подолгу простаивали на огороженных заборами пустырях, которые ночью, с палубы теплохода, представлялись им черными провалами, ездили в районы восстановленных заводов, на канал Волга-Дон, осматривали новые рабочие поселки и снова ходили по центру. Красота растущего города успокаивала Ларису, а Алешу, наоборот, все больше лихорадило. Неясные детские впечатления складывались в его воображении в яркие образы. И то победная музыка звучала в его ушах, то скорбные хоры реквиема. Он тоже наблюдал, но по-иному, как растут в Сталинграде деревья, для него они пели и звучали и все вокруг звучало на тысячу ладов. Он весь был в движении: смотрел, расспрашивал старожилов, тащил Ларису то на Волгу, то к мельнице, то на Мамаев курган.
Когда они поднялись на Мамаев курган, то оба пожалели, что досужие сборщики утильсырья ничего не оставили на этом легендарном холме. Особенно огорчился Алеша.
– Обнесли бы колючей проволокой хоть один косогор… Пусть бы остались на месте пушки, разбитые танки и все укрепления. Ведь теперь даже представить невозможно, как тут держались наши солдаты!
Он вспоминал этих солдат, их суровую нежность к нему – маленькому мальчугану-фронтовику. Многие из них умерли на его глазах. Сколько раз его ручонка лежала в цепенеющей солдатской ладони, и не было страха, а только жалость да недетская ненависть к тем, кто убивал его взрослых друзей. Молодые ребята-красноармейцы просто надышаться на него не могли, отдавали ему лучший кусок, играли с ним в свободную минуту, словно с младшим братишкой.
«Или со своим ребенком, которого им так и не пришлось увидеть», – думал Алеша, глядя на Волгу с высоты кургана, полгода днем и ночью так истекавшего солдатской кровью, что вода в ручье у его подножия была красного цвета.
Вовка Паручин рассказывал, что жители ближнего подземного поселка кипятили эту воду и цедили сквозь несколько слоев марли, очищая от кровяных сгустков.
«Куда уехал с матерью и сестренками бесстрашный Вовка? А Леня Мотин? Милый дорогой Леня! Жив ли он?»
Это воспоминание откликнулось в сердце Алеши новой музыкальной темой: любовь к своим людям и стремление победить ради них. В грозовое звучание войны входила лирическая мелодия, то печальная, мучительно-тревожная, то полная надежды на счастье. Здесь происходила яростная борьба за счастье. От волнения слезы навертывались на глаза мальчика – еще не было настоящего творчества, но оно уже рождалось в его душе.
Старая мельница, как и предсказывала однажды Наташа Чистякова, устояла. Когда Алеша увидел пятиэтажное здание из красного кирпича, исклеванное миллионами пуль, с широкими пробоинами от снарядов, глаза его загорелись жарким огнем.
– Это она? А где же дом сержанта Павлова?
– Рядом. Он тоже сохранился и теперь восстановлен.
Лариса первая, спугнув прижившихся здесь голубей, стала подниматься по каменным лестницам. Алеша, замешкавшийся в темных подвалах, догнал ее уже наверху. В развороченные проемы окон с высоты пятого этажа они по-новому увидели заводы, дымящие в густой синеве неба, остатки развалин и Мамаев курган с ожившими кое-где инвалидами-деревцами.
– Вовка Паручин рассказывал, как они с отцом помогали там сажать деревья и кустарники, – сказал Алеша, задумчиво глядя на рыжие, спаленные солнцем склоны кургана, разрезанные оврагами. Много зелени было, а все вытоптали и выжгли.
Лариса промолчала. В ее жизни тоже все выжжено. Скоро Алеша отойдет, уже отходит, и останется она совсем одна. Разве можно заполнить жизнь только работой? Ведь это лишь половина того, что необходимо человеку!
С новой силой проснулась в ней тоска по Аржанову.
Если бы он был с нею! Ведь даже в те грозные дни ей становилось легче возле него. А теперь? Лариса вспомнила последнюю встречу. Какая радость и нежность светились в его взгляде!
«Он любит меня!» – подумала она и впервые за эти дни улыбнулась.
Она подошла по железобетонному полу, проломленному бомбами, к самому краю пролома, щурясь от жаркого солнца, – крыша была снесена военной бурей, – всмотрелась в знакомые дали, потом в домики вновь отстроенных «Балкан», лепившиеся по склонам оврагов, но рука Алеши легко, как голубь, опустилась на ее плечо.
– Не свались вниз! – сказал он, взглянул и удивился: таким красивым было в эту минуту ее лицо.
Полузасыпанные оползнями черные норы блиндажей, – приметы госпиталя под берегом, в Долгом овраге, – опять взбудоражили Ларису. Здесь они работали, сюда она прибегала к своему сынишке. Сюда же однажды пришел Аржанов, но она в это время читала Алеше письмо от мужа, уже убитого. Слишком тяжело было ей, и она не приветила дорогого человека, не дав ему никакой надежды на будущее.
– И все-таки я была права, – прошептала Фирсова, любовно прикоснувшись к бревенчатому креплению входа, сохранившегося в обрыве глинистого берега, хотя в глубине штольня уже обвалилась.
Сколько раз перешагивал через этот порог хирург Аржанов! Наверно, стоял иногда тут, слушая плеск волжской волны и шум сражений над обрывом, и думал о ней, о Ларисе.
Бежит по дну оврага ручей, торопясь к Волге со склонов Мамаева кургана. Тут работал тогда движок, дававший свет в подземный госпиталь. Дымная мгла постоянно висела над землей. Гарь. Грохот… А сейчас тишина. Снова заросли крутые склоны пожелтевшим к осени бурьяном. Наверху синее небо, на пустынном берегу ни души, только по реке плывет плоский плот с крошечными издали фигурками сплавщиков да одинокое солнце засматривает в глухие ущелья, которые во время войны мирные жители и солдаты называли «логами смерти». Сколько кровавых схваток происходило в этих оврагах, служивших выходами к Волге, сколько здесь погибло людей!
Но ведь Аржанов-то жив, хотя и далеко от этой маленькой пустыни. Страстное желание встретиться с ним овладело Ларисой, но она знала себя и невольно усмехнулась с горьким скептицизмом: это сейчас, здесь так хочется увидеть его…
Серые куропатки, отдыхавшие в овраге на перелете, с шумом выпорхнули из бурьяна, заставив ее встрепенуться. Спугнул их Алеша, карабкавшийся по крутизне к черному устью норы, где во время обороны, наверно, сидел наблюдатель. Мальчик даже не обернулся на птиц: звякнуло что-то под ногой. Оказалось, крышка железной кассеты, в каких фашисты сбрасывали с транспортных самолетов продукты своим войскам, окруженным в Сталинграде. Да, в одно прекрасное время их окружили!
– Осторожно, Алеша, не наскочи на мину!
– Здесь наши сидели. Фашистов тут, на берегу, не было!
Лариса успокоилась, поискала взглядом вспугнутых птиц. Резвая стайка их тянула вниз над голубым разливом реки. Долго бродят они осенью по степям в окрестностях городов, а иногда и зимуют здесь. Значит, хорошо им живется на этом приволье. Хорошо когда-то жилось здесь и Ларисе!








