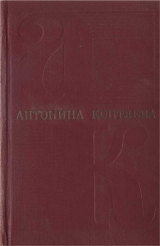
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 49 страниц)
– Квартиру мне дадут в конце месяца. Из двух комнат, – угрюмо от мучительной неловкости добавил он. – Вы не беспокойтесь… Если что… так вы с Варей переберетесь туда, а я здесь останусь.
– Полно вам! – упрекнула Елена Денисовна, совсем рассердись, но вдруг заплакала, закрыв лицо шитьем, потрясенная деловыми его соображениями – верным признаком неминуемой беды.
8
Варя не спала всю ночь. Тихо, чтобы не потревожить Решетовых, она то и дело выходила на веранду, стояла на ступеньках, кутаясь в белый шерстяной платок – ночи уже стали прохладные, – вслушивалась в шелест деревьев и гомон засыпающих соседних дач, в шум проходящего за лесом дачного поезда – электрички. Вот он летит, невидимый отсюда, по просеке вдоль поселка, негромко рявкает возле станционной платформы и мчится дальше. Из Москвы… В Москву… Опять из Москвы. Последняя электричка прошла, а Варя все ждет. Минуты проходят, складываются в часы. Устав ждать, она возвращается в тепло комнаты, где спит ее сокровище – Мишутка.
Отец к ним не приехал сегодня. Ведь если бы он задержался где-то по делу, то обязательно позвонил бы на квартиру, сообщил бы! Мысль об этом, сверлящая до острой боли, все время возвращает Варю к их разговору о Наташе, к последнему объяснению из-за Полозовой.
«Сердится! Но я тоже сержусь и, однако, никогда не заставила бы его терзаться целый вечер, целую ночь!.. Я к нему, несмотря на все обиды, как на крыльях прилетела бы. А он – нет! Неужели встретил Ларису? – Но Варя вспомнила слова Наташки о том, что Алеша с матерью уехали в Сталинград, и на минуту сердце ее точно распускается, отдыхает и… снова сжимается с жестокой болью. – Не любит! Вот в чем горе! Когда есть любовь, такие столкновения не могут разлучить людей. Ведь я за него болею, только хорошего ему хочу! Оперировал умирающего человека. Как прошло? Он теперь не спешит поделиться со мной. Наверно, неудача». Женщина снова выходит на крыльцо, снова вслушивается в ночные шорохи.
Где-то за забором, в канаве, скулит заблудившийся щенок. Это, наверно, Марсик – маленький боксер с соседней дачи, где Варя берет молоко для Мишутки. Марсик еще глупый – увязывается за ногами прохожих. Ему три месяца, курносый, с гладкой шерсткой и большими выпуклыми глазами… Ясно, глупый: все время теряется. Хозяйка его – ровесница Мишутки – каждый раз проливает ручьи слез.
Однажды Варя сказала сыну:
– Пожалей Надю, видишь, она плачет из-за собачки.
Мишутка крупным, развалистым шагом подошел к девочке и серьезно сказал на своем потешном языке:
– Ну, чего ты плачешь? Такая плохая собачка… Она тебя кусала? Кусала. Она на ковер писала? Писала. А ты плачешь!
И, довольный собою, бегом вернулся к матери.
– Вот так пожалел! – сказал, узнав об этом, Иван Иванович и долго громко смеялся. И потом не раз, вспоминая, повторял басовито: – Вот так пожалел! Да-да-да! – И заливался смехом.
Тогда он смеялся, а в последние дни дома сплошная хмурь. Неужели он уйдет и Варя лишится самого дорогого ей человека! Его добрые карие глаза, большие руки, которыми он поднимал ее, как перышко, сердечный смех – все уйдет от нее. А советы и помощь в учебе, а любовь к ребенку?..
«Нет! Нет! Нет! – беззвучно кричит про себя жестоко страдающая женщина. – Я не могу, не хочу его терять! Это невозможно! Ведь я так люблю его, ведь я всю жизнь!..» – горячее удушье подступает к горлу. Она садится на ступеньки крыльца и плачет, содрогаясь всем телом, заглушая рыдания смятой в комок шалью.
Что-то холодное прикасается к ее голым ногам, обутым в домашние туфли. Она вздрагивает. Протянув руку, наталкивается на мягкое, теплое. Это щенок прикоснулся к ней своим курносым, будто клеенчатым, влажным носом. Он стоит в темноте, смутно блестя черными глазами, крутит куцым хвостиком, норовя всем шелковистым боком привалиться, ласкаясь, к ногам Вари. Глупая собачонка! Но Варя не отталкивает ее, она сама кажется себе сейчас брошенным щенком. Мир так велик… Сосны шумят, словно морской прибой, качая над крышей дачи тяжелыми кронами. Над деревьями высоко блестят лучистые звезды. Сколько их там!
Женщина тихо плачет, а щенок, успокоенный близостью человека, слушает, весело виляя хвостиком. И вспоминается Варе, что все это уже было в ее жизни: осенние звезды, слезы об Иване Ивановиче и даже собака, только большая, не чета этому куцему песику, которому по глупой прихоти собачьей моды обрезали уши и хвост. Нет, то была сильная ездовая лайка, а слезы у Вари лились тогда такие же искренние и горячие. Но неужели она так и будет всю жизнь плакать из-за своего Ивана Ивановича?
– Ты понимаешь, маленький дурачок, меня не любят! – прошептала она, обращаясь к собачонке. – Ну чего тебе нужно? Или тебя в самом деле выгнали из дома за твои глупости?
Варя вытирает лицо ладонью, идет на цыпочках к столу, осторожно, стараясь не звякнуть посудой, крошит ломоть хлеба в блюдце и наливает туда молока из гладкой, так и норовящей выскользнуть из рук обливной крынки.
Собачонка жадно набросилась на еду, чавкая, как поросенок. Набегалась! А ведь не такая уж маленькая, могла бы найти свой дом.
Смутно сердясь на нее, Варя прислушивается к невнятному шуму ветра и так же на цыпочках проскальзывает к себе в комнату. Но и в постели она все ловит ухом каждый звук, все еще ждет.
Завтра… Да, завтра у нее обязательно будет серьезный разговор с Иваном Ивановичем. Уже на рассвете, так и не уснув, лежа с открытыми глазами и следя, как постепенно светлеет неокрашенная стена дома, срубленного на сто лет из толстых сосновых бревен, Варя подумала о Елене Денисовне и Наташке.
Отчего же они-то не приехали? Значит, Ваня поздно явился домой. Если он уйдет совсем, то они останутся с нею. И это хорошо: ей легче будет делить горе вместе с Еленой Денисовной.
9
На дачу ввалилась сразу целая ватага: Иван Иванович с сибирячками и Злобин с обеими дочерьми. У Раечки заболела печень, и Леонид Алексеевич выхлопотал ей место в Московском институте лечебного питания, а девочки неожиданно остались одни.
– Это у нее от злости, – сказала Варе Галина Остаповна, которая не могла простить Раечке ее безобразных выходок, особенно жалела Лиду, младшую дочь Злобина, и теперь была рада, получив возможность опекать запуганного, донельзя нервного ребенка.
Марина и Наташа сразу умчались на речку – искупаться. Злобин и Решетов отправились к соседям – играть в городки. А Иван Иванович, сдержанно поздоровавшись с Варей, занялся сынишкой.
Покачивая Мишутку в гамаке, он слушал его веселую болтовню и задумчиво посматривал то на темное крыло ближнего леса, – куда после завтрака предполагалась общая вылазка за грибами, – то на яркий цветник возле террасы, где, мелькая красным платьем, бегала развеселившаяся Лидочка.
Осень. Иван Иванович с детства любил это время года: самое сытное время для ребятишек, – но сейчас прелесть теплого и ясного бабьего лета не доходила до него: так он был подавлен назревшей в нем новой душевной драмой.
Держась за край гамака, в котором, как медвежонок, барахтался довольный мальчик, он прислушивался к голосам женщин, хлопотавших то в кухне, то на веранде. Грудной голос Вари, звучавший сегодня приглушенно и невесело, особенно тревожил его.
«Как же это? Ведь я не хотел разлада. – Иван Иванович вспомнил свою растерянность после ухода Ольги, тоску и боль самолюбия, ущемленного вероломством любимой женщины. Он так и воспринимал тогда ее уход к Таврову. То переболело. Ушло. И снова надвинулось страшное, но душевная опустошенность сейчас еще сильнее. – Нет, лучше страдать любя, чем разлюбить самому! – подумал Иван Иванович. – Ведь разумом-то я не могу оправдать разрыв: ребенок у нас растет, и мы сами будто лучше, опытнее, ученее стали. Но мы оба не сможем примириться с лицемерным сожительством».
– Лида! – закричал Мишутка, которому наскучила молчаливая озабоченность отца. – Позови ее, папа!
Иван Иванович подозвал девочку. Она робко подошла и остановилась у гамака, беспомощно опустив руки, совсем не загоревшие за лето.
«Вот плоды дикого воспитания, – подумал доктор, который не мог забыть свой поход к Раечке с Григорием Герасимовичем. – Ребенок даже на солнце не бывает из-за того, что маменька занята слежкой за отцом и уходом за собственной персоной».
– Поиграй с Мишей, Лидочка, – попросил он, уступая ей место.
Теперь, когда Лида присела на край гамака и дети завели свой разговор, он уже не знал, куда себя деть, чем заняться. Пойти в дачу? Отправиться на городошную площадку? Правда, он давно не играл в городки…
«Как я сражался раньше с городошниками! Даже в карты с Еленой Денисовной резался. Черт возьми! Какой я был жизнерадостный!»
Может быть, оттого, что он тоже не выспался в эту ночь, у него тупо болела голова, все казалось неинтересным, ненужным. Непривычное состояние апатии вызвало взрыв ожесточения к себе и Варе, к удивительно нескладной жизни. Близкая старость померещилась. Он взглянул на свои большие руки с сухой, сморщенной от постоянного мытья кожей… Да, и это не за горами!
– Уж скорее бы, что ли! – с досадой прошептал Иван Иванович и, выйдя в калитку, медленно пошел через поляну, отделявшую дачу от дремотного, тихого леса, где темные еловые терема перемежались с кудрявыми березами и с черно-голенастыми осинами, уже тронутыми осенней краснотой.
Куда он пошел? Зачем?
Свалиться где-нибудь на поляне в траву и уснуть хотя бы на недельку! «А что, с применением гипотермии можно этак уснуть, – мелькнула насмешливая мысль. – Впасть в анабиоз, как летучая мышь. Да-да-да! Стоило бы, пожалуй!..»
Он шагал по тропинкам, по сказочно красивым местам, но ничего не замечал, обуянный тоской. Ну, хорошо… В разрыве с Ольгой был виноват. Не сразу, не вдруг понял это, но признал: виноват. А что же теперь? Ведь не в том причина, что вспыхнуло прежнее чувство к Ларисе. Он не искал другую женщину, живя с Варей, которой всячески помогал. Лишь бы училась, лишь бы росла, лишь бы не находила, как Ольга, свою жизнь с ним серой! С жиру беситься ему некогда: хирург всегда в поте лица добывает свой хлеб, а хирург-новатор тем более. Часто после тяжелого рабочего дня он так устает, что впору только добраться до кровати, упасть и уснуть тяжелым сном совершенно измотанного человека. Сердце… Это вроде полета в Антарктиду – лезть в сердце. Кто там бывал? Что там? Какие будут последствия после вмешательства? Но цель поставлена, и надо идти, дерзать, изучать, ценою укорочения собственной жизни оплачивая каждый неудачный шаг.
Тут не до прихотей! Все силы устремлены на работу. А сколько еще мучительно неясного! Та же гипотермия… Можно облегчить операцию, а можно и погубить человека. Ведь холод убивает… Как превратить гипотермию из охлаждения, доводящего человека перед операцией до состояния анабиоза, в охранительное торможение, в целительный сон, к созданию которого стремился Павлов? Работать надо, а тут вывих душевный. Вот неудача с Наташей Коробовой. Надо повторить операцию. Это жизненно необходимо для больной. Но с каким настроением повторять после стычек с Варей, после того, как она предупредила даже Коробова? Надо бы ей еще к Зябликову обратиться! Будто ударила по рукам! Но все равно оперировать придется.
Иван Иванович споткнулся о корягу в траве, остановился, поискал в карманах спички и папиросы. Ни того, ни другого не оказалось. Он присел на пень и снова задумался.
Сердце. Оно начинает свою работу еще в утробе матери, и до самой смерти, не останавливаясь ни на минуту, работает этот изумительный живой мотор. Все здоровье зависит от его состояния. Однако никто не бережет его и не вспоминает о нем, пока не начнутся неполадки. А как отражаются на сердце душевные переживания? Оно компенсирует все траты организма, но, чутко откликаясь на них, изнашивается само. Вот так и чувство изнашивается…
Доктор мог объяснить причину своего охлаждения к Варе. Но мог ли он заставить себя снова полюбить ее? Она, конечно, обвиняет во всем Ларису. Иван Иванович вспомнил последнюю встречу с Фирсовой, как он обрадовался тогда! Вот она, усталая, побледневшая, но нет лучшей на свете. И все-таки дело не в Ларисе.
«Смогла же она совладать со своим чувством в Сталинграде! Совладал бы и я. Только ради чего должен я опять казнить себя? Ради Вари, которая перестала ценить и уважать самое дорогое для меня – мою работу, а значит, и меня самого!»
Легкий шорох шагов заставил хирурга повернуться и прислушаться.
Снова хрустнуло что-то, и на поляну шагах в двадцати от него вышел… лось. Аржанов окаменел от неожиданности. Громадный бурый зверь стоял перед ним, высоко задрав горбоносую безрогую морду – значит, это была лосиха, – и спокойно обрывал листья и молодые побеги с зеленой еще осины. То, что белело рядом, будто стволы березок, оказалось ногами других лосей, полускрытых в чаще. Затем и они вышли на поляну: две молодые телки и годовалый лось – спичак – с прямыми рожками, в самом деле похожими на две спички. До чего же легкой поступью ходят по лесу эти длинноногие великаны! Когда они успели подойти?
Забыв о всех своих душевных передрягах, Иван Иванович радостно смотрел на лосей и думал:
«В тридцати километрах отсюда гигантский город: электричество, метро, театры, исследовательские институты, где решаются сложнейшие научные проблемы двадцатого века…
А здесь ходят по переспелым травам дикие звери в первобытной своей красоте. Да-да-да! В Сибири лося зовут сохатым или зверем. Он зверь и есть, хотя и не плотоядный! Сила какая! А кругом леса, глухие леса!»
Кругом и правда стояли темные ельники, могучие сосны и смешанное чернолесье… В лесных массивах поляны, похожие на озера, заполненные холодноватым в тени ядреным воздухом, напоенным запахами осеннего увядания. Зарастающие тропы и дороги осыпаны серой крупой отцветшего курослепа. В траве виднеются прозрачные венчики костяники, краснеющей до заморозков. Сейчас еще тепло. По мшаникам вокруг елок хороводы розовых волнушек и белесоватых рыжиков, в березняках и по опушкам бора крепкие, коричневые осенью шапочки белых грибов.
Лоси! Мишутка недавно увидел лося в зоопарке и сказал: «Конь!» Вот сразу четыре коня, вольных как ветер. Человек шевельнулся, животные вздрогнули, и только замелькали под деревьями их белые пахи да длинные стройные ноги.
Иван Иванович вскочил, радость жизни всколыхнулась в нем.
– Ого-го! – крикнул он вслед лосям.
– Го-го! – отозвалось неподалеку.
Из чащи выходил Решетов с клеенчатой сумкой вместо корзинки и палкой в руках.
– Лоси-то, а? – смущенно произнес Иван Иванович с еще не остывшей улыбкой на лице.
– Лоси? Не видел. А вот грибы да! Смотрите, каких богатырей нашел, просто чудо! Вы что же удрали от завтрака? Мы вас ждали, ждали. Варвара Васильевна расстроилась. И мы тогда решили вас наказать и все съесть. Так и сделали бы, да Елена Денисовна утащила вашу долю и спрятала в кухонный шкаф. И нам приказала: кто увидит Ивана Ивановича, скажите ему, где еда.
Закурили, постояли, вдыхая дымок решетовских папирос.
– Где… остальные граждане? – спросил Иван Иванович, разглядывая грибы, найденные Решетовым.
Сам он, конечно, нашел бы лучше этих: такие не брал. Но чтобы не огорчать товарища, ничего не сказал, положил обратно в сумку уже переросшие и оттого губастые боровики и пошел к даче – съесть свой завтрак и взять какое-нибудь лукошко.
10
Место под сосной изрыто так, как будто здесь прошло стадо кабанов, а прошел, конечно, Григорий Герасимович Решетов. Уже сколько раз уговаривали его не портить грибные огороды и срезать грибы ножом! Но нет у степняка лесных навыков: роет везде палкой, поднимает весь мох и листья, беспощадно разрушая грибницу. Вот и грибочки маленькие потоптал…
Вдруг за ближними дубами, за зарослями гибкого бересклета, увешанного оранжево-красными сережками не то цветов, не то семян, Иван Иванович увидел Варю, Наташку и Мишутку. Значит, это они здесь наковыряли! Все трое, образуя живописную группу, сидели на мшистой поляне возле опрокинутой большой корзины и разбирали свои трофеи.
С минуту Иван Иванович всматривался в опущенное лицо жены. Красная косынка сбилась с ее головы на шею, толстая коса по-девичьи висела за спиной, а на раздвинутых коленях в переднике – грибы. Сидит, словно девчонка, и мало чем отличается издали от Наташки. Странно: сколько мучительных переживаний связано с такой, можно сказать, пичугой! На лице Ивана Ивановича промелькнула добрая, усталая усмешка. В нем пробудилось страстное желание ничего не изменять в жизни. Быть всегда с Варей, с сынишкой. Он вспомнил прежнее чувство к ней, и не то само это чувство, не то сожаление о нем так и всколыхнули его.
Вот она сидит на ковре из зеленого мха, расшитом узором желтеющих трав, и спорит о чем-то с Мишуткой. Маленький мужчина держится солидно: руки в карманы, животик выставлен… Сразу видно, не прав, но упрямо стоит на своем.
«Мама родная! – подумал Иван Иванович. – Эх, Варя! Можно и так сказать, выражаясь языком Прохора Фроловича: „За наше добро нам же рожон в ребро“».
В этот момент Варя подняла голову, и Иван Иванович неловко вышел из засады.
– Наконец-то явился! – вырвалось у Вари, и в голосе и в лице ее выразился упрек.
– Что же вы грибницу уничтожаете! – в свою очередь, упрекнул Иван Иванович, удивленный тем, что Мишутка не побежал ему навстречу, и больно задетый равнодушием ребенка. – Я думал, опять Григорий Герасимович, а это вы…
– Мы! Но здесь по-другому нельзя было. Мы все грибы срезали ножиком, а тут груздочки сидели, – бойко заговорила Наташка и, повернувшись на месте, зацепила со своего разостланного на земле головного платка пригоршню груздей, похожих на пуговицы для пальто. – Смотрите, какие махонькие! Целый курень нашли. Так и сидели мосточками один к другому.
– Хм! Курень! – повторил Иван Иванович, поглядев на красивые грибки.
Варя отчужденно молчала. В этом ее молчании, в опущенной снова голове и быстрых движениях рук – она очищала грибы от земли и листиков – сказывались и горестное раздражение от обиды, и желание овладеть собой.
«Похоже, я должен еще просить у нее прощения?» – сердито подумал Иван Иванович и отвернулся, собираясь идти дальше.
– Подожди минуточку! – раздался позади него голос жены.
Он остановился, не оглядываясь, всей спиной ощущая ее приближение. На миг ему показалось: вот сейчас она подойдет и скажет самые нужные слова, которые устранят то нехорошее, что возникло между ними. Может быть, бросится к нему на шею и слезами растопит лед отчуждения… Если бы она поняла свои ошибки, он простил бы ее.
Варя подошла, легко ступая по моховым подушкам и тонким кусточкам вереска, продела узенькую ладонь под его неподвижную, согнутую в локте руку, и так, рядом, они прошли в глубь леса.
– Мне нужно поговорить с тобой, – задыхаясь, словно после быстрого бега, сказала она, но в голосе ее все-таки прозвучало плохо скрытое раздражение.
– Пожалуйста.
– Ой, как ты со мной разговариваешь?!
– А как я должен?
– Почему ты такой? Ты сердишься, значит, ты не прав!
– Старая поговорка. Ты опоздала с нею.
Рука Вари ослабела и нерешительно выскользнула из-под его локтя, однако Иван Иванович даже не сделал попытки задержать ее.
– Ты знаешь, мне очень тяжело! – неожиданно резко сказала Варя.
– Мне тоже. Но ты думаешь только о себе, о своих делах и настроениях.
– Разве так? – Она задумалась, немножко озадаченная. – Разве это плохо, что я увлекаюсь своей работой?
– Ты не чувствуешь себя виноватой передо мной? Ты во всем права?
– Да! – не размышляя, а даже торопливо, даже с вызовом воскликнула Варя. – Я вся, без остатка, отдаюсь только семье, только работе. В чем же ты можешь упрекнуть меня? Чего еще хочешь?
– Совсем немного… – Он криво усмехнулся. – Немножко человеческой теплоты и чуткости.
– Как тебе не стыдно! – сразу вспылила Варя. – Ты сегодня… вчера… Я всю ночь глаз не сомкнула. Мучилась, плакала!.. Где ты был вчера вечером?
– Слушал музыку.
На минуту Варя остолбенела от охватившего ее негодования. Она тут истерзалась вся, а он был в театре. Он развлекался!
– С кем ты был? – тихо спросила она.
– С Алешей Фирсовым.
– С сыном Ларисы Петровны? Вдвоем?
– Да.
– Ты лжешь! Она тоже была с вами, – грубо сказала Варя, и лицо ее в густой тени леса стало прозрачно-белым, даже синеватым, как мокрый снег.
– Я никогда никому не лгал. Тебе тем более.
– Мне? Скажите какое исключение! Да я всю жизнь только и делаю, что плачу из-за вас! – вдруг перейдя на «вы», с враждебностью сказала Варя, подумав и о том, что он нашел время для сына Фирсовой, а своего ребенка совсем забросил в последнее время.
– Неужели больше ничего у нас не было?
– Трудно припомнить после таких переживаний!
– Ну что же, спасибо!
Иван Иванович круто повернулся и пошел прочь, громоздкий и мрачный, продираясь, точно медведь сквозь заросли пушистых сосенок, сквозь кусты бузины, усыпанной гроздьями кроваво-красных ягод, и высокие папоротники, похожие на пучки скрученных желтых перьев. Маленькие елочки, будто дети, выбегали навстречу, задерживали его, протягивая цепкие лапки. Большие деревья качали над ним густыми кронами, нарядные в своем богатом осеннем уборе. Лес так и теснился вокруг, шелестел, успокаивал, но человек, ослепленный душевной болью, шагал да шагал, ничего не замечая.
Дружная семья белых грибов встретилась ему на утоптанной полянке. Они были так сказочно хороши – толстоногие здоровяки в ядреных коричневато-бурых шапочках, – что Иван Иванович невольно замедлил шаг. Сетка-авоська – единственное, что нашлось для него на даче, – висела у него на руке. В авоське, распирая ее, лежали хорошие, отборные грибы… Иван Иванович собирал их с толком. И ножик-складень был у него в руке, бессознательно закрытый и зажатый в горсти во время разговора с женой.
С минуту хирург стоял и, собираясь с мыслями, смотрел на свою новую находку. «Курень», – сказала Наташка. С груздями это плохо вязалось, а вот боровики, прочно сидевшие в жесткой земле, так и выпиравшие из нее твердыми белыми животиками, и впрямь походили на богатырскую семью в казачьем курене. Иван Иванович нагнулся и машинально начал срезать их и складывать в авоську. Один, толстый, молоденький, тяжелый, с маленькой, очень крепкой шапочкой, напомнил ему Мишутку. Иван Иванович выворотил его целиком и, держа в руках, выпрямился, забыв на земле и нож, и богато набитую сетку.
«Золотая рыбка, поиграй со мной!» – как будто зазвенела в лесном безмолвии детски простая песенка, полная глубокой печали о манящем, далеком, несбыточном. Как смешно повторял потом эти слова Мишутка! Где ему понять сложность жизни и человеческих чувств! Но одно он уже понял: отец перестал играть с ним, совершенно занятый своими взрослыми делами. О чем он плакал тогда: о пропавшем блюдце с киселем или от обиды на равнодушие отца, при котором его обидели?
«Я только и делаю, что всю жизнь плачу из-за вас!» – прозвучали в ушах Ивана Ивановича слова Вари.
«Все превратила в черное пятно! А учеба? А ребенок? А помощь моя и забота? Ольга одна ушла, а эта ребенка уведет с собой. Ведь нельзя же отнять у нее Мишутку?!»
Слезы заволокли глаза Ивана Ивановича, он сморгнул их, но тут же представил сынишку: его громкие песни, потешные слова, вспомнил уши игрушечного зайца, торчавшие из ребячьего кулачка, обращение к овчарке: «Я хороший, Дези!» – И… слезы набежали снова.
Что же дала человеку трудная и почетная работа, вся его беспокойная, честная и чистая жизнь? Вот он стоит, одинокий, в лесной глуши, и плачет. Да, плачет! Такой сильный – и такой беспомощный перед хитросплетениями своей судьбы. А ведь кто-то сказал же: человек – сам кузнец своего счастья.
– Значит, плохой я кузнец! – Иван Иванович осторожно, но опять-таки машинально, положил грибок на приметный, почерневший в срубе пень и пошел в сторону станции, привлеченный шумом поезда, проходившего за лесом.
11
«Что же теперь будет? – подумала Варя, оставшись одна в кабинете, где она и заведующая отделением Полина Осиповна осматривали больных. – Рушится мое счастье. Рухнуло уже! Здесь я немножко забываюсь, а дома все гнетет. Вот тему для диссертации получила… Ведь это не шутка – сразу после института приступить к научной работе! А мне доверили, значит, я стою того. И страшно и радостно, а поделиться не с кем. Есть друзья, но они только посочувствовать могут, а любимый человек, который мог бы дать настоящий совет, отошел».
И опять у Вари возникла мысль, что, возможно, лучше было бы иметь Ивана Ивановича другом, а семью создать с Платоном Логуновым.
«Как же это? О чем это я?! – вспыхнув от стыда, упрекнула себя она. Но не впервые возникшая мысль вернулась снова: – С Платоном, наверное, легче и радостнее бы жилось. Мы с ним равные товарищи. А Иван Иванович привык смотреть на меня с высоты, и, когда я попыталась заговорить с ним в полный голос, он счел это оскорблением. Чем дальше, тем хуже… Вот ходил на концерт и даже не предупредил. И рада бы поверить, что он был там только с Алешей, да не могу! Зачем такому солидному человеку идти в театр с мальчишкой и почему именно с сыном Ларисы?» – Обида и всколыхнувшаяся опять ревность вытеснили без следа мысль о Логунове.
Потом Варя подумала о теме для диссертации, полученной ею на кафедре Центрального института усовершенствования при содействии ее шефа профессора Щербаковой. Тема – «Новокаин в лечении глаукомы». Надо оправдать доверие своего учителя. И для движения вперед надо переступить этот порог, и для того (это уже где-то в глубинах души зрело), чтобы доказать нечто очень важное доктору наук профессору Аржанову.
Когда Варя представляла себе свое будущее глазного врача, то думала о профессоре Щербаковой. Вот кому хотела бы она подражать! Конечно, Щербакова, всю жизнь отдавшая лечению глазных болезней, могла служить ей образцом. Золотые руки ее, и знание, и опыт сохранили тысячам людей самое дорогое – зрение! Хрупкая пожилая женщина-профессор с молодо блестящими черными глазами покорила Варино сердце, так же, как терапевт Медведев, у которого были резкие столкновения с Иваном Ивановичем. Не всегда студент может запросто подойти к профессору, а в кабинет Щербаковой и Медведева Варя и ее товарищи являлись по каждому наболевшему вопросу и ни разу не ушли, не разрешив возникших сомнений.
Еще на четвертом курсе Варя с увлечением занималась в студенческом кружке, которым руководила Щербакова. Опытная преподавательница сразу заметила и оценила одержимость студентки. Многие, в том числе и Иван Иванович, советовали Варе учиться на детского врача, но она подала заявление о прохождении субординатуры шестого курса в глазной клинике Щербаковой.
И ни разу не приходило ей в голову, что Иван Иванович мог бы принудить ее пойти по иному пути: он окрылял и поддерживал ее во всех начинаниях.
Она была так благодарна ему за помощь, что когда получила премию в двести рублей за работу, написанную в студенческом кружке, то сразу решила купить ему подарок… Ведь это были особенные деньги!
Варя вспомнила, как бегала по магазинам, высматривая подарок. Щербакову она могла отблагодарить только своими успехами, а мужу надо было подарить что-нибудь купленное на деньги за ее первый научный труд.
Иван Иванович все понял тогда. Ведь он тоже любил ее! А теперь!.. Варя вспомнила сцену в лесу. Какая чужая, неподвижная рука, какой холодный взгляд!
– Ужасно! Ужасно! – прошептала Варя. – Да! – очнувшись, отозвалась она, услышав легкий стук в дверь, и в кабинет, полыхая сквозь загар румянцем, вошла молодая девушка.
Это была Таня Бражникова, которой Варя сделала летом операцию, чтобы устранить косоглазие. Прямо и радостно смотрели теперь на врача ярко-голубые глаза. Красавицей выглядела Бражникова, еще недавно диковато-угрюмая, глядевшая одним глазом далеко в сторону.
– Как вы расцвели, Таня! – невольно позавидовала Варя ее юной жизнерадостности.
– Благодаря вашим заботам, доктор! – Курносенькое лицо девушки стало еще румянее, совсем под стать цветочкам на ее платье. – После вашей операции я точно заново на свет родилась. Сами понимаете, что значит в деревне, когда косоглазая! С малых лет задразнили. А теперь замуж выхожу… Жених у меня… Вот приехали с ним из колхоза кое-что купить к свадьбе. – Девушка еще больше заволновалась, поправила свободной рукой светлые, выгоревшие от солнца волосы, поправила оборку на груди. – Я вам подарок принесла! – выпалила она и неловко протянула Варе какую-то покупку в серой оберточной бумаге.
– Ой, что вы! Зачем!
– Пожалуйста, доктор! Мы понимаем, какие это для вас пустяки. Но мы вместе ходили, выбирали. Не обижайте меня. Спасибочко вам! – Она церемонно поклонилась Варе, так что ее недавно завитые волосы низко свесились с висков. – Извините, если не понравится! – И, не слушая возражений, попятилась к двери и убежала.
Варя развернула бумагу. В свертке была высоконькая красивая ваза из блестящего уральского камня.
С минуту Варя стояла неподвижно, держа в ладонях бесконечно дорогой для нее подарок. Не полагалось, никак не полагалось принимать от своих пациентов подарки! И ни к чему Варе эта тяжелая игрушка, но то, что ее подарили в такую трудную минуту, целительно подействовало на исстрадавшееся сердце женщины.
«Сколько радости у человека! А ведь получилось хорошо только потому, что я старалась, всю жизнь старалась ради успеха этой маленькой, но серьезной операции! – с волнением думала Варя. – Товарищи, милые, дорогие! Я всегда буду служить вам. Ваша радостная улыбка будет для меня высшей наградой. Это вы помогли мне стать человеком. И Иван Иванович! – опять царапнуло по сердцу. – Да, странно, помог выучиться, вырасти и… разлюбил. Ничего не понимаю!»
Снова затосковать помешала Наташка. Она неожиданно просунула в дверную щель свой кучерявый лоб, потом боком протиснулась в комнату, точно кто-то мешал ей войти, и крепко прикрыла за собой дверь.
– Ты зачем? – строго спросила Варя.
Но Наташка без церемонии подошла и, не выпуская из руки портфелика, набитого книгами и тетрадями, обняла ее, на минуточку повиснув на Вариной шее, как родное балованное дитя. Все ее личико, такое же свежее, как у Тани Бражниковой, выражало любовь и самое горячее участие. Неужели нельзя жить так, чтобы всем было весело?
– Тетя Варечка, вы скоро домой?
– Нет, у меня рабочий день еще не кончился.
– А что это у вас? Вазочка? Тяжелая какая!
– Не урони!
– Разве я маленькая! Можно, посижу здесь? Вы работайте, а я погляжу на вас.
– Ничего интересного для тебя не будет.
– Ну, пожалуйста! Я не буду мешать.
Варя покачала головой, достала из шкафа белый халат, накинула его на плечи Наташке.
– Сиди, если хочется, только не вступай в разговоры. Мне тут нужно больных осмотреть. Скажите Коле, пусть зайдет сюда, и Акулову тоже, – наказала она вошедшей санитарке.








