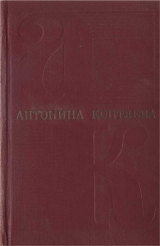
Текст книги "Собрание сочинений. Т. 4. Дерзание.Роман. Чистые реки. Очерки"
Автор книги: Антонина Коптяева
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 49 страниц)
Тяжело переступая усталыми ногами – за смену-то натопчешься! – Елена Денисовна поднимается на третий этаж хирургического корпуса. Наташа лежит по-прежнему в белой повязке-шлеме, безучастно смотрят в потолок ее подпухшие глаза.
«Ах ты, горе! – думает Хижнячиха и осторожно, чтобы не звякнуть чем и не встревожить больную, наводит порядок в ее шкафчике, ставит на полку очередную передачу – кефир и яблоки, купленные в буфете, забирает крохотные кастрюльки, принесенные из дома вчера. – Почти ничего и не ест».
Выходя из палаты, Елена Денисовна носом к носу столкнулась с Логуновым. Она уже знала от Вари о его приезде, но сейчас так и ахнула.
– Голубчик ты мой! – сказала она, и слезы брызнули из ее глаз.
Логунов молча обнял ее. Приемная мать Вари… Сколько волнующих воспоминаний связано у него с этой женщиной и сколько горя: ведь она еще и жена лучшего друга, погибшего на фронте. Логунов взял у нее сеточку-авоську с посудой, подвел ее к одному из столов в коридоре, где обедали ходячие больные, усадил на стул и сам сел рядом.
– Одиннадцать лет пролетело, дорогая Елена Денисовна!
Она взглянула на него, улыбнулась сквозь слезы.
– А ты все такой же черный!
– Скоро сивый буду: появляется седина.
– А я уже седая, но волос светлый, и ничего не приметно. Платоша… – Голос Елены Денисовны задрожал. – Как там был мой-то? Деня-то? Как он скончался, ты видел?
Лицо Логунова сразу постарело: между бровей и вокруг сощуренных глаз пролегли морщины.
– Я Дениса Антоновича мертвого от санитаров принял. А вот Наташа Коробова видела его перед смертью, когда он лежал у пулемета и отбивался в одиночку от целой роты фашистов. Разговаривала с ним. После она ему гранаты послала с бойцом, которому перевязку сделала. Раненого этого тоже убили. Мы с Коробовым пробрались туда ну просто через несколько минут. Да уже поздно было.
Елена Денисовна громко вздохнула, и оба долго молчали.
– Платоша, ты приходи к нам домой! Я на квартире у Ивана Ивановича живу. Расскажешь обо всем.
– Они меня не приглашали, – угрюмо возразил Логунов.
– Зато я приглашаю. Ты Наташку еще не видел. Наверно, и не узнаешь: выросла. Нынче в восьмой класс стала ходить. Приходи часов в пять – вместе пообедаем. Ивана Ивановича и Вари не будет: они с работы прямо на дачу поедут. Сняли нынче дачу, а жить-то там, кроме Мишутки, некому, все заняты делами в городе. Приходи! Посидим, поговорим, а потом проводишь меня. Мне ведь сюда обратно надо, в ночную смену.
– Когда же вы отдыхаете? – рассеянно спросил Логунов, думая о чем-то своем.
– Сегодня еще ночь отдежурю, и двое суток свободная. Придешь?
– Приду обязательно.
Но, оставшись один, Логунов решил, что все-таки неудобно ему идти на квартиру к Аржановым.
«Ведь не звали же! Вдруг домой нагрянут, и получится неудобно».
С этой мыслью Логунов посидел возле Наташи, потом, переговорив с ее лечащим врачом, отправился на почту писать Коробову обстоятельное письмо. С утра он хлопотал о делах рудника и выполнял поручения Таврова, а все остальное время бродил по Москве: ходил в музеи, в кино и театры, просто гулял по улицам. Намерение получить в главке обещанную путевку на курорт забылось. Ни сердце, ни печень, ни ожирение не беспокоили Платона. Он был крепок, как свежий пень сибирской лиственницы.
Письмо Коробову писалось долго и трудно, хотя самое тяжелое – о неудавшейся операции – уже отправлено.
«С ума теперь сходит Ваня! Хорошо еще, что Ольга Павловна возится с девочками, но как дальше будет? Ведь Тавровы ждут прибавления семейства, и Ольга с каждым днем становится грузнее».
Неожиданно быстро (что значит авиапочта!) пришел ответ от Коробова «до востребования». Логунов взял конверт и сел у стола, чувствуя себя в зале почтового отделения, как дома. Оно так и есть: вся Москва являлась для него родным домом. Водные станции, стадионы, парки радостно распахивались перед ним, и только в один уголок не было ему хода – туда, где жила Варя. Но и Решетов там живет… Отчего же нельзя Логунову зайти к знакомому фронтовому хирургу? И Елену Денисовну неудобно не навестить.
«Ведь она хлопочет сейчас. Обед готовит. Потратилась. Пойду в магазин, куплю какой-нибудь подарок для нее и Наташке на платье. – Логунов отлично помнил крохотную беловолосую девчурку с кудрями, похожими на кисти черемухи. – Теперь, конечно, не такая… Ну да, лет четырнадцать уже ей. Наверно, взрослой дивчиной себя считает!»
С этой мыслью Логунов раскрыл конверт и, вынув письмо товарища, еще помедлил над ним: боялся прочитать.
«Дорогой друг Платон, – писал Коробов размашистым почерком. – Что со мной было, когда я получил известие о Наташе! Признаться, я пожалел сначала, что не выполнил один совет насчет госпитализации. Но потом подумал: спасибо Ивану Ивановичу за то, что он сумел вовремя остановиться».
– Ох, Варя! – прошептал Логунов, на минутку прервав чтение письма. – Угораздило тебя, милая, в такой момент критику разводить!
«Больно переживаю все Наташины страдания, – писал дальше Коробов, – так бы и улетел в Москву, но нога опухла, разнесло ее, словно бревно, и сижу на приколе. Да еще у Милочки („Это которая?“ – подумал Логунов, представив двух совершенно одинаковых девочек) коклюш начался. Кашляет – страшное дело, и находиться вместе с Любочкой у Тавровых ей теперь нельзя. На счастье, подоспела, Платон, твоя бабушка с Дона (тут губы Платона тронула добрая усмешка: собралась-таки!). Говорит: не советовали ей ехать. Далеко, мол. Куда, мол, тебе в семьдесят-то лет! А она в ответ: люди в семьдесят лет государством управляют, отчего же я по железной дороге проехать не смогу? Видишь, Платон, шучу сквозь слезы. Зато теперь Милочка со своим коклюшем живет дома.
За рудник не беспокойся. Программу перевыполняем. Иван Иванович мне тоже написал, обещал повторить операцию, как только Наташе станет легче. Придется ждать, ничего не поделаешь. Только перед отъездом на курорт напиши подробно, как она там. Меня не щади. Пока жива Наташа, буду и я жив надеждой на лучшее.
Твой неоплатный должник Иван Коробов».
«А Варя волнуется донельзя. Что ее так будоражит? Неужели желание подчинить себе большого человека? – подумал Платон, еще раз прочитав письмо. Он вспомнил расстроенное лицо Вари, ее тихий голос и смелый взгляд, устремленный на мужа. – Нет, черт возьми, она в самом деле убеждена в своей правоте! Все-таки большая разница между медицинской сестрой и дипломированным врачом: какая сила и уверенность выросли в человеке! Но тяжело ей!»
Логунов вспомнил, как поспешно она ушла из кабинета Аржанова, похоже, боялась расплакаться, и обжигающее чувство любви, и нежность, и жалость, от которых задрожало сердце, овладели им. Если бы он знал, где она сейчас, то без раздумья пошел бы к ней, чтобы поговорить и вместе с тем еще раз посмотреть на нее.
– Долой курорт! Не ради же развлечения я туда поеду! – решил он и устремился в магазин покупать Наташке на платье.
34
Елена Денисовна в это время очень нервничала: ни Иван Иванович, ни Варя не поехали на дачу, оба явились домой.
«Вот тебе на! – думала расстроенная женщина, хлопоча на кухне. – В какое положение поставила я Платона! И Наташка куда-то запропастилась!» – шептала она, так вздыхая, словно появление дочки могло исправить дело.
Вместо Наташки неожиданно приехали с дачи Мишутка и Галина Остаповна, у которой разболелись зубы. Едва втолкнув мальчика в комнату, Решетова поспешила в поликлинику, и Елене Денисовне прибавилось еще забот.
С хозяйством она успевала справляться быстро благодаря удобному городскому устройству: все под руками, а главное – газ…
«Ведь это святой человек, кто газ для кухни приспособил! – сумрачно рассуждала она сама с собой. – За десять минут чайник закипает, и ни шума, ни копоти!»
Иван Иванович и Варя не замечали плохого настроения своей квартирантки. Оба были сердито надуты и этим еще больше расстраивали Елену Денисовну. Только сейчас она поняла, как тяжело пользоваться гостеприимством даже лучших друзей.
«Да и какой я им друг?! – подумала она, совершенно угнетенная, забыв даже о чудесном случае на ночном дежурстве. – Они люди с высшим образованием, я средней руки человек. Им теперь тяжко, а тут еще мы стесняем: поговорить по душам невозможно».
Но супруги совсем не собирались говорить по душам, а отчужденно занимались каждый своим делом. Только один Мишутка чувствовал себя прекрасно и с горящими, как у медвежонка, глазами бегал, болтал, визжал, громко двигал стульями, шумя за десятерых взрослых людей.
– Тише ты, оглашенный! – сказала ему Дуся, которую он чуть не сбил с ног, выкатив из кухни опрокинутый табурет.
Елена Денисовна подхватила табурет и тяжелого, точно налитого свинцом, мальчишку и, тащась с ними в кухню, взглядывая по пути на часы-ходики, проворчала:
– Ох, горе ты мое луковое!
Она сунула Мишутке конфету из угощения, купленного для Платона, и опять у нее опустились руки: скоро придет, а Иван Иванович и Варя никуда не собираются. От обеда отказались, значит, в буфет заглядывали, и теперь один за книгой сидит, другая что-то пишет, а где и как будет принимать своего гостя Елена Денисовна, неизвестно.
У нее мелькнула было спасительная мысль о квартире Решетовых, но Григорий Герасимович второй день в командировке, а Галина Остаповна придет нескоро. И Наташка… Купили ей новую школьную форму, а портфель и тетради сама захотела купить. Все здесь же, рядом, на Ленинградском проспекте. Давно пора бы вернуться домой…
«Где шляется, паршивка?!» – У Елены Денисовны даже руки зачесались, так ей захотелось отшлепать девчонку.
Половина пятого… Нет, дольше терпеть невозможно. Этак и разрыв сердца получить недолго!
– Иван Иванович! – окликнула Хижнячиха, входя в комнату, и остановилась у порога.
– Да? – Хирург рассеянно взглянул на нее из-за страниц книги, и она только теперь увидела, как он осунулся за последнее время.
– Вы уж извините меня! – заговорила она, собираясь с мыслями. – Я ведь думала, что вы с Варенькой сегодня на дачу поедете…
Он продолжал задумчиво и вопросительно смотреть на нее, и она закончила упавшим голосом:
– Я Платона Артемовича пригласила в гости. Встретила в больнице, ну и… пригласила.
Иван Иванович смутился:
– Фу, как нескладно получилось! Я сам хотел пригласить его! Спасибо, что позвали вы. Да-да-да! – И, обрадованный предлогом избавиться от необходимости сидеть вдвоем с Варей, с живостью встал. – Пойду вина принесу.
– Я уже купила.
– Вот и хорошо! – Иван Иванович выругал себя мысленно за невнимательное отношение к вдове товарища. – Все-таки куплю что-нибудь.
На жену он даже не взглянул, будто забыл, что она значила в жизни Платона. Варя, уязвленная этим, но тоже понявшая состояние Елены Денисовны, встала и принялась наводить порядок в комнате, хотя и без того уже все было прибрано.
Дверь Логунову открыл сам Иван Иванович, успевший вернуться из магазина. Заканчивая сервировку стола, Варя и Елена Денисовна слышали, как он баском говорил гостю в передней:
– Вы уж извините за то, что я сам вас не пригласил. Я тогда расстроен был ужасно.
– Я это видел, – сказал Логунов, но голос его отчего-то прозвучал неуверенно.
– Ты кто? – зазвенел Мишутка.
– Человек, – шутливо ответил Платон.
– А что это у тебя?
– Ох, брат! Я не знал, что ты дома. Это я Наташе принес.
– А зачем ты идешь, когда меня дома нету? – обиженно спросил мальчик.
Варя невольно улыбнулась.
Рассмеялся Иван Иванович, раздался громкий смех Логунова. Похоже, Мишутка понравился Платону.
– Да ты очень толковый парень, как я погляжу! – говорил Логунов.
Все еще смеясь, неся на руках вцепившегося в него мальчишку, он первым вошел в комнату, но заметно стушевался, когда возле стола, накрытого к обеду, увидел Варю.
Она что-то еще поправляла среди тарелок, рюмок, открытых банок с консервами.
– Здравствуйте, Варвара Васильевна! – приветствовал ее Логунов, держа одной рукой Мишутку, другой – пакет, слишком большой для одного отреза на платье.
– Здравствуйте, Платон Артемович! Наш разбойник уже напал на вас?
– Он хороший парень. Но я ему подарка не принес…
– Ничего, – успокоил гостя Мишутка, быстрым взглядом окидывая все, что было на столе. – Только посади меня рядом с собой.
«Что значит дети! – подумала Елена Денисовна. – Всех сразу выручил наш медвежонок! – И она стремительно повернулась к двери, в которую вошла Наташка. – В новой форме, конечно. Обновляла, значит. Перед кем хвасталась, вертушка этакая?»
Логунов тоже обернулся. Могут же происходить в жизни такие превращения! Вместо двухлетнего колобка оказалась статная девочка-подросток в коричневом платье с белым воротничком, со школьным портфелем в руке под белым манжетом. Любопытно-пытливо смотрели ее широко открытые голубые глаза.
– Наташа, это Платон Артемович Логунов, – сказала мать, и глаза девочки раскрылись еще шире, а курносенькое розовое личико побледнело.
Логунов! Ведь это он сообщил им о смерти отца! Так вот он какой, бывший военный комиссар, Герой Советского Союза! Стоит себе в самом обычном гражданском костюме. Военного в нем капли нет, и Мишутка уже оседлал его, на руки влез, здоровяк этакий! Платон Артемович Логунов! Он тоже жил на Каменушке. Он воевал вместе с отцом и схоронил его в Сталинграде.
Наташка положила на стул тяжелый портфельчик с тетрадями, молча подошла к Логунову и подставила ему крутой лоб. Отчего она решила, что он должен поцеловать ее? Логунов передал пакет Мишутке, освободившейся рукой прижал к груди дочь Хижняка и поцеловал ее. Елена Денисовна, глядя на них, вдруг сухо всхлипнула, не то стон, не то рыдание вырвалось из ее перехваченного горла, – и торопливо вышла на кухню.
– Я знала, что вы все равно когда-нибудь придете к нам! – тихо сказала Наташа.
35
Они еще сидели за столом, когда Ивана Ивановича вызвали в больницу. Он торопливо допил стакан чая, попрощался с Логуновым, поцеловал сынишку, и вот уже зазвучали по лестнице его быстрые шаги. Ушел… Варя, вся выпрямившись, высоко держа голову, машинально помешивала ложечкой в чашке, прислушиваясь к удалявшимся шагам мужа. Ушел, не сказав ей ни слова!
Елена Денисовна тихо заговорила с Логуновым. Конечно, о Хижняке, о последних днях и часах его жизни. Наташка, обняв мать обеими руками и прислонившись к ее плечу, слушала, точно впитывала и полуоткрытым ртом, и глазами, и маленькими ноздрями каждое слово человека, который видел ее отца в день геройской смерти. Но Мишутка, крутившийся возле Логунова, мешал разговору. Тогда Варя встала, без церемонии стащила сына с колен гостя и, несмотря на его сопротивление, унесла к соседке.
– Славный какой товарищ! – простодушно сказала ей Дуся, сидевшая с модным вышиванием в руках: крестиком, разноцветными нитками мулине накладывала в пяльцах сплошной ковровый узор для диванной подушки.
– Да, это наш старый знакомый, – отозвалась Варя, глядя на волнистую завивку Дуси, которая остреньким носиком как будто подсчитывала свои бесчисленные крестики. – Вместе были на фронте.
– Оно и видно, что боевой: Мишутку сразу завоевал.
– Я хочу домой, – заявил мальчик.
– Нельзя. Людям надо поговорить, а ты мешаешь.
Варя обняла сынишку, припала щекой к его черненькой головке. Тяжело было у нее на сердце.
«Нет, дальше так жить невозможно. Надо набраться сил и решить. В последние дни даже Мишутка отстраняется от отца, потому что тот перестал играть с ним. Вот ребенок и вешается на посторонних: то Решетовых мучает, то Платон подвернулся».
– Мама, пойдем домой! – требовал Мишутка, запрокинувшись, увидел слезинку на щеке матери, гибким пальчиком снял ее. – Ты чего?
– Ничего! – Варя прижала сына к груди, стала ходить с ним по комнате, убаюкивая его.
– Охота вам? Ну что вы его, такого тяжеленного, таскаете, мучаетесь? – ворчала Дуся, продолжая клевать носом в разноцветные крестики вышивки. – И он тоже… Ишь притаился, будто и правда маленький, а на нем вполне дрова возить можно. – И она шутя шлепнула Мишутку, когда Варя проходила мимо.
Мальчик засмеялся, болтнул ногами, крепче обхватил рукой плечо матери и сразу уснул.
– Так-то лучше! – сказала Дуся, чутко уловив его сонное посапывание, отложила вышивание и принялась устраивать постель на диване. – Богатырь, а не мальчишка! – прошептала она, любуясь тем, как широко он развалился на подушке, и руку откинул, и колено выставил. – Прямо на глазах растет. Мне бы хоть капельного! Сваляла дурака, когда в первый раз забеременела. Комнаты, вишь ты, не было! Условия не позволяли! А теперь комната вон какая и условия – слава богу, а детей нет и нет!
Варя тоже смотрела на сына. Богатырь, правда! И как он присмирел, увидев ее слезы! Понимает уже! Мысль о том, что она не одна, что у нее такой здоровенький, хороший ребенок, немножко ободрила Варю.
«Неужели я не наберусь мужества отпустить Ивана Ивановича, если ему плохо со мной?» Почему она, сильная, молодая, должна чувствовать себя несчастной? У нее интересная работа, хорошие друзья. Сестры и племянники в Якутии.
Вспомнила опять милый Север. Осенний день. Косой дождь. Глянцевые от влаги кусты брусничника на косогоре, мокрые красные ягоды в банках. И костер – жаркий, желтый живой огонь, пожирающий нагроможденные ею мертвые ветки. У этого костра Варя сказала Таврову: «Если я когда-нибудь почувствую себя третьей, лишней, я все сделаю, чтобы вернуть любовь. Но если ничего не поможет, то отпущу любимого человека. Я не смогу жить с мыслью, что ему со мной плохо».
«А почему же теперь мне так страшно остаться одной? – спросила себя Варя и понурилась. – Ведь плохо стало нам обоим! Сердится он из-за того, что мне не нравится его работа?.. Если бы только это! Но тогда ночью он сказал спросонья: „Лариса, куда ты ушла, дорогая?“ А как он смотрел на нее! Понятно: ведь он любил ее в Сталинграде, а тут я… сама вешалась на шею!» Варя, вдруг обомлев, вспомнила, как ее ранило упавшим бревном. Ведь именно после того Иван Иванович сказал: «Хочешь быть всегда вместе?» Не оттого ли так получилось, что он просто испугался за нее, просто пожалел, просто побоялся потерять любящего, не любимого, а любящего человека! А она обрадовалась и, конечно, немедленно согласилась.
– Ай-яй! – воскликнула Варя, совсем забыв о любопытном носике соседки.
– Варенька! – позвала Елена Денисовна, заглянув в дверь. – Платон Артемович уходить собирается. Проводите его тут с Наташкой. А я побежала на работу – уже опаздываю.
– Иду. – Варя подвернула покруче угол подушки, чтобы Мишутка не скатился на пол, и, поправив волосы, пошла к себе.
Платон стоял у стола и с угрюмой печалью смотрел на фотокарточки, которые Наташка раскладывала перед ним. Тут был и портрет Хижняка, и портрет умершего брата Бориса. Среди других карточек Варя увидела свою… Белое платье, две черные косы брошены на грудь. Это было на Каменушке перед отъездом Ивана Ивановича на фронт… Сожаление о большой, безграничной любви, напрасно пронесенной через всю молодость, жестокими клещами стиснуло горло Вари. Дрожащими пальцами она взяла карточку, отвернулась, рассматривая ее.
– На днях еду домой! – сказал Логунов, не двигаясь с места: Варя на карточке, в белом этом платье, ему тоже многое напомнила.
– А на курорт? – спросила она, тяжело вздохнув.
«Все-таки хороший он!» – снова, как однажды в Сталинграде, подумала она о Логунове. Неосознанное желание сохранить друга, с которым можно посоветоваться и всем поделиться – еще непонятное ей самой побуждение, – заставило ее прямо взглянуть в его глаза.
– Курорт мне ни к чему, а работа зовет. У нас теперь большие дела развертываются… Был таежный поселок – стал целый город районный. Новые рудные богатства наши геологи открыли. Вот скоро дадут нам электроэнергию с Ангарстроя, потом Енисей запряжем. Зашумим тогда, Варвара Васильевна!
– Называйте меня просто Варей, как раньше. Ничего, я разрешаю.
Он понял горечь ее слов.
– Я очень хочу, чтобы у вас все было хорошо.
– Я тоже этого хотела, но… но не получается.
Теперь Варя уже не боялась того, что Логунов узнает и о ее домашних неладах с мужем: ведь Иван Иванович сам показал своим поведением, что отчуждение уже вошло в семью. Зачем же скрывать и как скроешь очевидное?
– Варенька, – сказал Платон, в свою очередь, не таясь от Наташки, стоявшей около него. – Не нажимайте очень на Ивана Ивановича: раз он убежден в правильности своей идеи, с этим надо считаться. Ваша настойчивость ожесточает его.
– Я знаю… Но если бы только это!
– Что же еще?
Боязнь показаться смешной, возможно жалкой, так или иначе униженной сковала Варю, но Логунов выжидающе молчал. А разве не имел он права на ее откровенность? Неужели она боится потерять в его глазах как женщина?
При этой мысли Варя вспыхнула: гордость ее была задета.
– Мне кажется, он любит другую, Платон Артемович, – сказала она ломким голосом, взглянула на Наташку и неловко усмехнулась: девочка, тоже покраснев, начала пятиться к двери, испуганная тем, что теперь, когда разговор зашел о самом секретном, ее могут попросить выйти.
– Не может этого быть! – горячо возразил Логунов, испытывая почти физическую боль от страдания любимой женщины. – Я не допускаю…
– Вы не допускаете, а он… Пожалуйста, не подумайте, что я жалуюсь на Ивана Ивановича! Я никому не говорила… И вам не сказала бы, но вы сами теперь видите. Нечаянно ворвались и увидели.
– Да, ворвался… – Логунов опустил голову и с минуту молчал в угрюмом раздумье. – Кто же она?
– Лариса… Лариса Петровна Фирсова. Он еще в Сталинграде… – Варя кашлянула, задыхаясь от стыда. – Она еще в Сталинграде нравилась ему.
– И ты, зная это, пошла за него?! – переходя на «ты», горячо упрекнул Логунов, но глянул на нее, и его, точно ножом, полоснула ее жалкая растерянность. – Прости, пожалуйста! Я забыл, что сам нахожусь в таком положении… Находился, – торопливо поправился он. – Знал, что ты любишь Аржанова, а не отставал от тебя. Не сердись… Жизнь у меня не сложилась. Я не могу сказать: «Тоже не сложилась». Уверен, у вас все наладится. Но если тебе будет плохо, если ты останешься одна, заболеешь, с ребенком что-нибудь… А мальчишка у вас замечательный! Помни, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, и дружбу… и любовь, – добавил Логунов тихо, но страстно.
– Спасибо! – Варя даже ростом как будто повыше стала: вся ее жалость исчезла. – Если мне предстоит такое испытание, я перенесу его одна. Я не побоюсь пуститься в плаванье со своим ребенком без мужской помощи.
– Знаю, ты сильная. Но разве сильным не нужна дружба? И ты не бросайся так просто испытанными фронтовыми друзьями! – добавил Платон с грустной шутливостью. – Возгордилась!
– Хотела бы, но нечем.
– Здорово! Выходит, моя, например, преданность ни шута не стоит?
– Разве у меня так вышло? – Варя взглянула на обиженного Логунова и невесело рассмеялась.
– Ну, вот видишь! Но я и тому рад, что развлек тебя. Будь счастлива. – Он сжал протянутую ему маленькую руку, быстро наклонился и, не успела Варя отстраниться, поцеловал ее прямо в губы.
– Ах, как нехорошо! – сказала Варя, не на шутку рассерженная, и, поглядев Логунову вслед, крепко потерла лицо ладонью, точно хотела стереть неожиданный поцелуй.
36
Если бы это случилось раньше, Варя, наверно, сгорела бы от стыда перед Иваном Ивановичем. Но раньше так не могло случиться: она никому никогда не жаловалась на мужа. Ее поцеловал посторонний мужчина… Что из того! Теперь все, что касается ее, безразлично Ивану Ивановичу. Он, пожалуй, даже будет рад, если она уйдет от него.
С этими мыслями Варя провела дома весь вечер. Играла с Мишуткой, разыскала свой хомус и, сидя на коврике, на полу, сыграла несколько якутских песен.
– Ты жужжишь, будто жук, – сказал Мишутка на своем тарабарском наречии, с интересом глядя, как она прижимала к губам железку, напоминавшую ключ от английского замка, но с гибкой пластинкой посередине, как дышала, дула на нее, ударяя по краю пластинки согнутым пальцем.
Варя пела, но песни ее звучали печально, как робкий плач в ночи, она ждала Ивана Ивановича, чтобы объясниться с ним начистоту.
– Не беспокойся, папа, у нас дома все благополучно, – говорила в это время Злобину на квартире Решетовых старшая его дочь Марина. – У нас теперь тихо, и Лида перестала вскакивать спросонья. Она поправилась на целых три кило. Мама тоже много спит, все ест и вчера позволила мне поиграть на пианино.
– Хорошо, деточка. Значит, мама успокоилась?
– Почти успокоилась. Не бойся: она ничего с собой не сделает. Она говорит, что принесла молодость в жертву тебе, а теперь посвятит остальную жизнь нам, детям.
Сама Марина не поправилась. Все такая же тонкая, в синем с белым горошком платье, из воротника которого выступали косточки ключиц, она сидела на диване и с грустью смотрела на отца прекрасными черными глазами.
– Ты ведь не совсем ушел от нас? Или уже раздумал возвращаться? Конечно, нам с Лидой скучно, но ты делай так, как лучше. – Марина помолчала и, вдруг решившись, сцепив задрожавшие пальцы, добавила. – Если надеешься, что мама исправится, то это напрасно. Я не хотела тебя огорчать, но она ругается по-прежнему и даже хуже: такие гадости говорит домоуправу, и дворничихе, и своим знакомым. Иногда я просто задыхаюсь… Ведь мы любим тебя.
– Спасибо, дочка! – Злобин, побледнев, нежно погладил опущенную голову дочери.
– Крепко задурила Раечка, – с сожалением сказала из спальни Галина Остаповна, которая не поехала на дачу, а, встретив мужа, решила приготовить ужин в городе.
Вообще с дачей получалась одна канитель: сняли в августе две комнаты вместе с Аржановыми, а бывать там удавалось редко: ездить каждое утро на работу в переполненной электричке никого не устраивало. И все-таки Галина Остаповна уже успела сильно загореть: загар легко приставал к ее коже, прокаленной южным солнцем.
– Видно, недаром говорится: горбатого могила исправит! – заключила она, не боясь обидеть отца и дочь Злобиных, потому что горячо болела за них.
– Нет, Галя, в госпитале у Леонида Алексеевича уже выпрямляют горбатых, – напомнил Решетов.
– Как выпрямляют горбатых? – недоверчиво спросила Наташка, которая помогала Галине Остаповне сматывать в клубок цветную шерсть, держа на поднятых руках ровные пряди мягких ниток и не пропуская ни слова из разговора Злобина с дочерью.
– Леонид Алексеевич со своим профессором Чекменевым выправляют детей и подростков, у которых начинают расти горбы.
– Это когда ушибешься?..
– Позвоночник может искривиться и от неправильного сидения за партой. А если получится искривление, то горб вырастет обязательно.
Наташка села на стуле прямее и сказала:
– У нас в классе есть девочка, ее тоже зовут Раечка. Она совсем кособокая. У нее лопатка торчит под платьем, будто кулак, и одно плечо ниже другого.
– Приведи свою подружку к нам в госпиталь, – сказал Злобин. – И пусть ее мать тоже придет с вами.
– Конечно, придем! – пообещала Наташка, обрадованная и польщенная таким предложением.
Елена Денисовна к себе на работу ее не пускала: у нее цех особый – там дети рождаются. Операции Ивана Ивановича были девочке непонятны, и разговоры о них страшили ее. Григорий Герасимович лечил поломанные руки и ноги. Но это не казалось чем-то необычайным. А вот горбы выпрямлять – совсем сказка.
– Большое спасибо! – Наташка вышла в столовую и, поводя руками, продетыми в хомутик из шерстяной пряжи, чтобы подать нитку своему шефу, потянулась взглянуть на адрес, написанный Злобиным.
Марина тоже встала, положила свернутую ею бумажку с адресом в карман домашнего фартучка Наташки.
С минуту девочки постояли рядом, такие непохожие внешне.
– Давай дружить по-настоящему, – тихонько предложила Наташка, не забывая о своих обязанностях мотальщицы. – У тебя плохая мать, да?
Марина ответила не сразу. Грустная задумчивость странно состарила ее худенькое лицо.
– Нет, она не плохая, но просто несчастная, ревность ее замучила.
– А зачем ревность? Теперь в книжках ее называют пережитком прошлого.
– О чем вы там шепчетесь? – поинтересовалась Галина Остаповна.
– Мы? – Наташка замялась. – Да о… жизни.
Взрослые засмеялись, а Наташка подумала: «Смейтесь, смейтесь! Мы, когда вырастем и женимся, будем дружно жить. И разводиться не станем, чтобы никто не страдал. Уж если полюбить, так на всю жизнь, как Тристан и Изольда. – Но тут Наташка вспомнила, что эти верные влюбленные обманывали мужа Изольды. Да и у Тристана была жена. Тогда девочка перебежала мыслями к Онегину и Татьяне, но и там ее протестующее сердце, жаждущее добра и справедливости, не нашло идеального примера. – Ромео и Джульетта – вот это настоящее! Правда, они умерли от любви, но в то время было слишком много пережитков. Джульетта не успела даже просто погулять по городу вместе с Ромео! Хотя, кто знает, может быть, через год-два они тоже разошлись бы характерами. Но все эти люди жили давно, а мы будем жить при коммунизме и будем верные, как голуби». – И Наташка чуть не выпустила из рук пряжу, вспомнив, как приходил Алеша Фирсов проститься перед поездкой в Сталинград и как они вместе покупали ей тетради, а потом сидели во дворе на лавочке, и Алеша сказал, что он будет композитором.
«А кем ты хочешь стать?» – спросил он.
«Архитектором», – не задумываясь, ответила Наташка, и это, кажется, понравилось Алеше.
Но сейчас, узнав, что можно выпрямлять горбатых людей, девочка пристально всмотрелась в Злобина. Он, пожалуй, еще сильнее Ивана Ивановича, такой, конечно, может распрямить кого угодно. Но ведь не на наковальне же он распрямляет горбы! Что, если и Наташка станет доктором и научится так лечить?
«А как же старые, кто с горбом?» – хотела спросить она, но воздержалась: ведь со взрослыми надо разговаривать с осторожностью, не то сразу оборвут: «Не твое дело. Не суйся, куда не следует». И Наташка промолчала, думая о новостях, какими она поделится с Алешей, когда он вернется из Сталинграда.
37
Второй этап операции Пруднику – пересадка одного конца стебля на руку – был выполнен. Следующий этап – отсечение другого конца стебля от груди и пересадка его на переносье – мог быть осуществлен не раньше чем через две недели. В это время Лариса и решила взять отпуск, чтобы съездить с Алешей в Сталинград, хотя пробыть там они могли лишь несколько дней: с первого сентября уже начинались занятия в школе.
– Нехорошо, если ты пропустишь начало занятий.
– Я все наверстаю, не беспокойся, – заверил Алеша.
Ему очень хотелось добраться до Сталинграда пароходом, чтобы увидеть родной город со стороны Волги, но на это потребовалось бы очень много времени.
– Давай улетим самолетом в Саратов, а там сядем на теплоход, – предложил он. – Ведь я еще ни разу не летал…
На Внуковский аэродром они выехали поздно вечером. Алеша радовался поездке, но очень волновался. Когда он думал о Сталинграде, где сломалось его детство, огромная ненависть и потрясающая нежность и жалость не умещались в ребячьем сердце, ему хотелось создать музыку. Создать такую музыку, чтобы и те, кто не был во время обороны на волжском берегу, почувствовали всю огромность происходившего там, поняли чувства, которые он собирался выразить.








